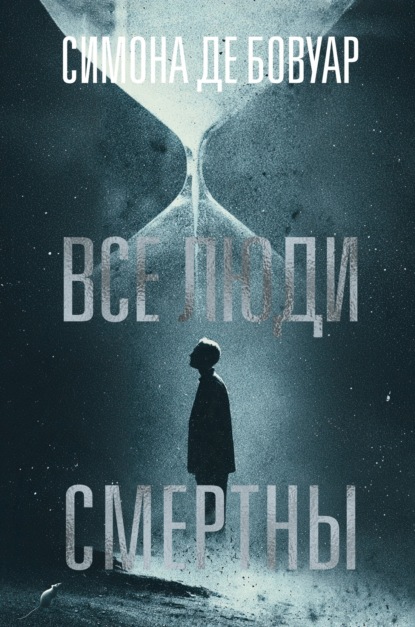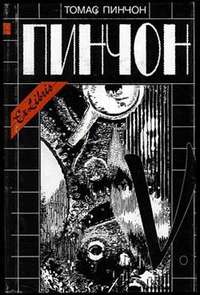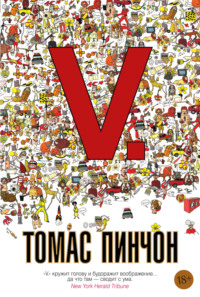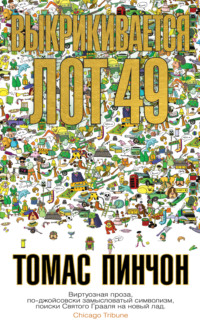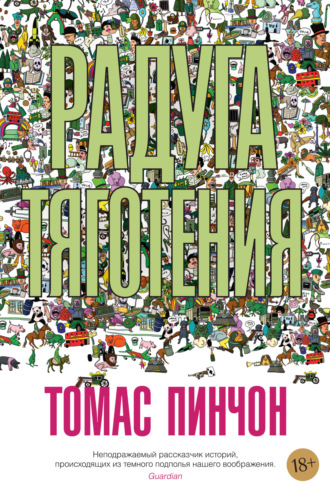
Полная версия
Радуга тяготения
Теперь все при них уже не так буйствуют, больше почтения, даже робость, они счастливы за Рихарда и Лени.
– Лучше поздно, чем никогда! – пищит Сигги своим голоском пришпоренного карлика, вставая на цыпочки разлить майское вино по всем бокалам.
Лени идет уложить волосы заново и чуточку осветлить, и Ревекка идет с ней. Они беседуют – впервые – о планах и будущем. Не касаясь друг друга, они с Рихардом влюбились, как должно было случиться еще тогда. Само собой разумеется, что он увезет ее с собой…
В последние дни появляются старые гимназические друзья, приносят экзотические вино и еду, новые наркотики, сплошную легкость и честность в половых вопросах. Никто не морочится одеванием. Они показывают друг другу свои нагие тела. Никто не тревожится, никто не завидует ее грудям или его пенису… Для всех это прекрасный расслабон. Лени репетирует свое новое имя: «Лени Хирш», – временами даже, когда они с Рихардом по утрам сидят за столиком кафе: «Лени Хирш», – и невероятно, только он улыбается, смущен, пытается отвести взгляд, но избежать ее глаз не может и наконец полностью разворачивается навстречу ее взору, громко смеется – смех чистой радости – и протягивает руку, в ладонь свою милую берет ее лицо…
Многоуровневым ранним вечером – балконы, террасы, публика, сгруппированная по разным слоям, все взоры устремлены вниз, к общему центру, галереи молодых женщин с зелеными листиками на талиях, высокие вечнозеленые деревья, лужайки, текучая вода и национальная серьезность, Президент посреди своего запроса Бундестагу – этим знакомым спертым гнусавым голосом – насчет огромных военных ассигнований вдруг срывается:
– Ох, в пизду… – Fickt es, фраза, которой вскоре суждено бессмертие, звенит в небесах, раскатывается по земле: Ja, fickt es! – Я возвращаю всех солдат домой. Мы закрываем военные заводы, всё оружие топим в море. Мне осточертела война. Мне осточертело просыпаться каждое утро и бояться, что умру.
И вдруг уже больше не получается его ненавидеть: он человек, теперь он такой же смертный, как любой. Будут новые выборы. Левые выдвинут женщину, чье имя не сообщается, но все понимают, что это Роза Люксембург. Прочие кандидаты подбираются такие неумелые или бесцветные, что за них никто не станет голосовать. Революция получит шанс. Президент обещал.
В банях, среди друзей – невероятная радость. Поистине радость: явления в диалектическом процессе не способны вызвать такой сердечный взрыв. Все влюблены…
ВОЙСКО ВЛЮБЛЕННЫХ МОЖНО РАЗБИТЬ.
Руди и Ваня съехали на споры об уличной тактике. Где-то капает вода. Улица всовывается, от нее никуда не деться. Лени это знает, ненавидит ее. Никак не отдохнуть… приходится верить чужакам, которые могут работать на полицию, если не прямо сейчас, то чуть погодя, когда улица так запустеет, что и не стерпеть… Хотела б она знать, как уберечь от этой улицы ребенка, но уже, наверное, слишком поздно. Франц – Франц никогда помногу на улице не бывал. Вечно какие-то отговорки. Переживает за безопасность, может попасться в случайный кадр какого-нибудь фотографа в кожаном пальто, они всегда на закраинах акций. Или:
– А что делать с Ильзе? А если там драка? – А если там драка, что делать с Францем?
Она пыталась объяснить ему про уровень, которого достигаешь, встаешь туда обеими ногами, когда теряешь страх, все к черту, ты проник в мгновенье, идеально соскальзываешь в его канавки, серо-металлические, но мягкие, как латекс, и вот фигуры уже танцуют, каждой хореограф определил то место, где она есть, коленки под жемчужного цвета платьем сверкают, когда девушка в платке нагибается за булыжником, мужчину в черном пиджаке и коричневой вязаной безрукавке хватают шуцманы, по одному за каждую руку, тот пытается не опускать голову, скалит зубы, пожилой либерал в грязном бежевом пальто пятится на шаг, чтоб на него не навалился падающий демонстрант, оглядываясь поверх лацкана как-вы-смеете или осторожней-только-не-меня, и очки его полнятся зиянием зимнего неба. Вот мгновенье – и его возможности.
Она даже пробовала – из тех основ счисления, которых нахваталась, – объяснить Францу: когда Δt стремится к нулю, стремится бесконечно, слои времени тоньше и тоньше – череда комнат, и у каждой следующей стены серебрянее, прозрачнее, ибо чистый свет нуля все ближе…
Но он качал головой:
– Это другое, Лени. Важно довести функцию до ее предела. Δt – просто условность, чтобы это могло произойти.
Он умеет, умел несколькими словами все лишить восторга. И не особо подбирал эти слова притом: у него такое инстинктивно. Когда они ходили в кино, он засыпал. Заснул на «Nibelungen»[84]. Пропустил, как гунн Аттила с ревом налетел с Востока, чтобы истребить бургундов. Франц любил кино, однако смотрел его так – задремывая и просыпаясь.
– Ты причинно-следственный человек, – кричала она. Как он соединяет те фрагменты, какие видел, открывая глаза?
Он и впрямь был человеком причинно-следственным: беспощадно цеплялся к ее астрологии, рассказывал, во что ей вроде бы надо верить, затем отрицал.
– Приливы, радиопомехи – черт, да больше толком ничего. Перемены там никак не могут производить перемены тут.
– Не производить, – пыталась она, – не вызывать. Все это идет вместе. Параллельно, не серийно. Метафора. Знаки и симптомы. Наносятся на карту в других системах координат, я не знаю… – Она и впрямь не знала, она лишь пыталась дотянуться.
Но он говорил:
– Попробуй что-нибудь вот так спроектировать, да еще чтоб оно работало.
Они посмотрели «Die Frau im Mond»[85]. Франц развлекался – эдак снисходительно. Придирался к техническим частностям. Спецэффекты создавали какие-то его знакомые. Лени же увидела мечту о полете. Одну из множества возможных. Реальный полет и мечты о полете идут вместе. И то, и другое – элементы одного движения. Не А, потом Б, но все вместе…
Хоть что-нибудь у него могло быть долговечным? Если бы еврейский волк Пфляумбаум не подпалил свою фабрику красок у канала, Франц, может, и посейчас трудился бы днями напролет на невозможную аферу этого еврея – разработать узорчатую краску, растворял бы один терпеливый кристалл за другим, с маниакальной тщательностью контролировал температуры, дабы при остывании аморфный завиток сумел бы – ну хоть на сей раз, а? – вдруг измениться, замкнуться в полоски, горошек, клеточку, звезды Давида, – а не нашел бы однажды ранним утром почернелую пустошь, банки краски, взорвавшиеся огромными выплесками кармазина и бутылочной зелени, вонь обгорелого дерева и лигроина, и Пфляумбаум не заламывал бы руки ой, ой, ой, подлый лицемер. И все ради страховки.
Поэтому Франц и Лени некоторое время очень голодали, а Ильзе что ни день росла у нее в животе. Работы подворачивались тяжкие и платили за них так, что и смысла нет. Это его доканывало. Потом он как-то вечером на топких окраинах встретил старого приятеля из Мюнхенского политеха.
Он бродил весь день, муж-пролетарий, расклеивал афиши какой-то счастливой кинофантазии Макса Шлепциха, а Лени тем временем лежала беременная, приходилось ворочаться, когда слишком вступало в спину, в меблированном мусорном ящике, выходившем в последний из Hinterhöfe[86] их многоквартирного дома. Давно стемнело и жутко похолодало, когда его ведерко с клейстером опустело, а все афиши расклеились – чтоб на них потом ссали, сдирали их, замалевывали свастиками. (Может, тот фильм входил в квоту. Может, там была опечатка. Но когда Франц пришел в кинотеатр в означенный на афише день, там стояла темень, пол в фойе завален обломками штукатурки, а изнутри театра – ужасный грохот, так шумят, когда здание сносят, только вот никаких голосов, ни лучика света… он покричал, но разрушение продолжалось, лишь громкий скрип раздавался в недрах под электрическим козырьком, который, как он теперь заметил, не горел ни единой буквой…) Он забрел, усталый как собака, на много миль к северу, в Райникендорф – квартал небольших фабрик, ржавые листы на крышах, бордели, ангары, кирпич вторгается в ночь и упадок, ремонтные мастерские, где вода для охлаждения изделий застояло лежит в чанах под пленкой пены. Лишь редкая россыпь огоньков. Пустота, сорняки на пустырях, на улицах никого: район, где каждую ночь бьется стекло. Должно быть, ветром несло Франца по грунтовке, мимо старого армейского гарнизона, ныне занятого местной полицией, среди сараев и инструментальных складов к проволочной ограде с воротами. Те были открыты, и он ввалился. Ощутил звук – где-то впереди. За лето до Мировой войны он на каникулах ездил в Шаффхаузен с родителями, и они на электрическом трамвайчике отправились к Рейнским водопадам. Спустились по лестнице, вышли к деревянному павильончику с заостренной крышей – а вокруг сплошь облака, радуги, капли пламени. И рев водопада. Он держался за руки обоих, подвешенный с Мутти и Папи в холодной туче брызг, едва различая наверху деревья, прилепившиеся к кромке водопада влажным зеленым мазком, а внизу лодочки туристов, что подходят почти туда, где в Рейн низвергается потоп. Однако сейчас, в зимней сердцевине Райникендорфа он один, руки пусты, спотыкается по мерзлой грязи через старую свалку боеприпасов, заросшую ивой и березой, свалка разбухает во тьме к холмам, тонет в трясине. Где-то посреди перед ним громоздятся бетонные казармы и земляные укрепления 40 футов высотой, а шум за ними, шум водопада, нарастает, взывая из памяти. Вот такие выходцы с того света нашли Франца – не люди, но формы энергии, абстракции…
Сквозь дыру в бруствере он затем увидел крохотное серебряное яйцо – пламя, чистое и неколебимое, вырывалось из-под него, освещая силуэты людей в костюмах, свитерах, пальто: люди наблюдали из бункеров или траншей. То была ракета на стенде: статические испытания.
Звук начал меняться – то и дело прерывался. Францу, изумленному донельзя, он не казался зловещим – просто другим. Но свет вспыхнул ярче, и фигуры наблюдателей вдруг стали падать по укрытиям, а ракета испустила запинающийся рев, долгую вспышку, голоса завопили ложись, и Франц дерябнулся оземь как раз в тот миг, когда серебряная штуковина разорвалась, зашибенский бабах, металл завыл в воздухе там, где Франц только что стоял, Франц вжался в землю, в ушах звенит, даже холод не ощущается, в этот миг вообще никак не проверить, по-прежнему ли он в своем теле…
Подбежали ноги. Он поднял взгляд и увидел Курта Монтаугена. Всю ночь, а то и весь год ветер гнал их друг к другу. К такому вот убеждению Франц пришел: это все ветер. Теперь школярский жирок по большей части сменился мускулатурой, волосы редели, лицо темнее любого, что Франц наблюдал всю зиму на улицах, – темное даже в бетонных складках тени и пламени от разметанного ракетного топлива, – но это без сомнения Монтауген, семь или восемь лет прошло, а они тут же друг друга узнали. Они когда-то жили в одной сквознячной мансарде на Либихштрассе в Мюнхене. (Франц тогда в адресе видел знамение, ибо Юстус фон Либих был одним из его героев – героем химии. Позднее в подтверждение курс теории полимеров ему читал профессор-доктор Ласло Ябоп – последний в истинной цепочке преемников: от Либиха к Августу Вильгельму фон Хофману, затем к Херберту Ганистеру и к Ласло Ябопу, прямая сукцессия, причина-и-следствие.) Они ездили в Политех одним грохочущим Schnellbahnwagen[87] с его тремя контактами, хрупкими насекомыми ногами, что елозили, визжа, по проводам над головой: Монтауген изучал электромеханику. После выпуска уехал в Юго-Западную Африку – какой-то радиоисследовательский проект. Некоторое время они переписывались, потом бросили.
Встреча старых друзей продолжалась сильно допоздна в пивной Райникендорфа – со студенческими воплями посреди пьющего рабочего класса, ликующие и грандиозные поминки по ракетному испытанию – рисовали каракули на мокрых бумажных салфетках, все за столиком, уставленным стаканами, говорили одновременно, спорили в дыму и шуме о тепловом потоке, удельной тяге, расходе топлива…
– Это был провал, – Франц, покачиваясь под электрической лампочкой в три или четыре утра, на лице вялая ухмылка, – ничего не вышло, Лени, а они твердят лишь об успехе! Двадцать кило тяги и лишь на несколько секунд, но раньше такого никто не делал. Даже не верится, Лени, что я увидел такое, чего никто раньше не делал…
Он собирался, считала она, обвинить ее в том, что она вырабатывала в нем рефлекс отчаяния. Но ей лишь хотелось, чтобы он повзрослел. Что это за вандерфогельский идиотизм – бегать всю ночь по болоту и провозглашать себя Обществом космических полетов?
Лени выросла в Любеке, в строю кляйнбюргерских[88] домиков у самой Траве. Гладкие деревья, равномерно высаженные вдоль берега по булыжной улице, изгибали над водою долгие ветви. Из окна спальни Лени видела двойные шпили Кафедрального собора, что высились над крышами домов. Ее зловонное существование на берлинских задних дворах – лишь декомпрессионный шлюз; да и как иначе? Путь ее – прочь из этого суетливого удушливого «бидермайера», ей должны заплатить в счет лучших времен, после Революции.
Франц шутя часто дразнил ее «Ленин». Никогда не возникало сомнений, кто из них активен, а кто пассивен, – и все равно она раньше надеялась, что он это перерастет. Разговаривала с психиатрами, ей известно про германского самца в пубертате. Валяются навзничь среди лугов и гор, смотрят в небо, дрочат и томятся. Судьба ждет – тьма, сокрытая в текстуре летнего ветерка. Судьба предаст тебя, раздавит твои идеалы, доставит тебя к тому же тошнотворному Bürgerlichkeit[89], что и твоего отца, который сосет трубку на воскресных прогулках после церкви мимо строя домов у реки, – оденет в серый мундир еще одного человека семейного, и, даже не пикнув, станешь трубить свой срок, улетишь от боли к долгу, от радости к работе, от верности к нейтралитету. Вот так с тобой поступает Судьба.
Франц любил Лени невротично, мазохистски, принадлежал ей и верил, что она вынесет его на спине – куда Судьба не дотянется. Будто Судьба эта – тяготение. Как-то ночью он полупроснулся, зарывшись лицом ей в подмышку, бормоча:
– Твои крылья… ох, Лени, твои крылья…
Но ее крылья способны нести лишь ее вес, и, надеется она, – Ильзе, и то недолго. Франц – балласт. Пусть полета своего ищет на Ракетенфлюгплац, куда ходит, чтоб им пользовались военные и картели. Пусть летит на мертвую луну, если хочет…
Ильзе проснулась и плачет. Весь день без еды. Надо все-таки попробовать к Петеру. У него найдется молоко. Ревекка протягивает то, что осталось от пожеванной хлебной корки:
– Может, ей понравится?
Маловато в ней еврейского. Почему половина ее знакомых левых – евреи? Она тут же напоминает себе, что и Маркс еврей. Расовая тяга к книгам, к теории, раввинская любовь к громким спорам… Она дает корку ребенку, берет ее на руки.
– Если он сюда придет, скажи, что не видела меня.
К Петеру Саксе они добираются уже сильно затемно. Вот-вот начнется сеанс. Она тут же конфузится своего неопрятного пальто, хлопкового платья (подол слишком высок), сбитых туфель – все в городской пыли, – нет украшений. Очередные мещанские рефлексы… рудименты, надеется она. Но тут по большей части старухи. А прочие – слишком блистательны. Гм-м. Мужчины выглядят зажиточнее обычного. Там и сям Лени подмечает серебряные свастики на лацканах. На столе вина великолепных 20-го и 21-го. «Schloss Vollrads»[90], «Zeltinger», «Piesporter» – явно Торжество.
Сегодняшняя задача – войти в контакт с покойным министром иностранных дел Вальтером Ратенау. В Гимназии Лени с другими детьми распевала очаровательную антисемитскую уличную дразнилку того времени:
Knallt ab den Juden Rathenau,Die gottverdammte Judensau…[91]После того, как на него совершили покушение, она ничего не пела много недель – верила, что если все это получилось и не из-за дразнилки, то уж точно песенка была пророчеством, заклинанием…
Сегодня послания особые. Вопросы к бывшему министру. Идет процесс деликатной сортировки. По причинам безопасности. В салон Петера допускаются лишь определенные гости. Недоходяги не доходят, остаются снаружи, сплетничают, от напряжения скалят десны, елозят руками… На этой неделе – большой скандал вокруг «ИГ Фарбен»: невезучая дочерняя компания «Spottbilligfilm[92] AG», там всей верхушке грозит чистка за то, что отправили отделу закупок вооружения OKW предложение по разработке нового воздушного луча, который намертво ослепляет все живое в радиусе десяти километров. Наблюдательная комиссия «ИГ» вовремя перехватила аферу. Бедняжка «Шпоттбиллихфильм». Их коллективному разуму не пришло в голову, что́ подобное оружие сделает с рынком красителей после будущей войны. Ментальность Götterdämmerung[93] во всей красе. Оружие было известно под названием «L-5227»: «L» означало «Licht», свет, еще один комичный германский эвфемизм, как «А» в маркировке ракет, что означает «агрегат», либо само обозначение «ИГ» – Interessengemeinschaft, родство интересов… а как насчет дела о катализаторном отравлении в Праге – правда ли, что Персонал Группы VIб Центра Радиохимического Ущерба вылетел по тревоге на восток, а отравление комплексное, как селен, так и теллур… от одних названий ядов беседа трезвеет, как при упоминании рака…
Элита, что будет сегодня вечером сидеть на сеансе, – корпоративные нацисты, среди которых Лени узнает не кого-нибудь, а генералдиректора Смарагда из того филиала «ИГ», что некоторое время интересовался ее мужем. Но затем вдруг все контакты прервались. Было бы таинственно, даже зловеще, вот только в те дни все было разумно валить на экономику…
В толпе она взглядом встречается с Петером.
– Я от него ушла, – шепчет она, кивая, пока он пожимает руки.
– Ильзе можешь положить в какой-нибудь спальне. Поговорим позже? – Сегодня в глазах его определенно фавнов прищур. Примет ли он то, что она – не его, не больше, нежели Францева?
– Да, конечно. Что происходит?
Он фыркает, в смысле – мне не доложили. Они его используют, и уже – разные они – десять лет. Только он никогда не знает, как именно, разве что по редкой случайности, намеком, перехваченной улыбкой. Искаженное и вечно затуманенное зеркало, улыбки клиентов…
Зачем им сегодня Ратенау? Что́ на самом деле, падая, шепнул Цезарь своему протеже? Et tu, Brute[94], официальная ложь – вот примерно и все, чего можно от них добиться, не говорит ровным счетом ничего. Миг покушения – тот, когда сходятся вместе власть и невежество власти, и Смерть здесь – итог. Одно заговаривает с другим не для того, чтобы тратить время на э-ту-Брутов. Одно другому сообщает истину, ужасную настолько, что история – в лучшем случае сговор, и не всегда джентльменский, с целью надуть – никогда ее не признает. Истина будет подавляться либо, если эпохи особо элегантны, маскироваться под нечто иное. Что может сказать Ратенау – его миг прошел, он уже много лет в своем новом потустороннем существовании – о старом добром Божьем промысле? Вероятно, не будет откровений, какие могли бы случиться, едва смертные нервы его вспыхнули в шоке, едва налетел Ангел…
Но поживут-увидят. Ратенау – согласно историям – был пророком и архитектором картелизованного государства. Из крохотного поначалу бюро Военного министерства в Берлине во время Первой мировой он координировал всю германскую экономику, контролировал поставки, квоты и цены, вторгался и сносил барьеры секретности и собственности, отделявшие одну фирму от другой: корпоративный Бисмарк, пред чьей властью ни один гроссбух не свят, ни одна сделка не тайна. Его отец Эмиль Ратенау основал «АЭГ», немецкую «Всеобщую компанию электричества», но молодой Вальтер – отнюдь не только промышленный наследничек: он философ, прозревающий послевоенную Державу. Протекавшую войну он рассматривал как мировую революцию, из которой восстанет не Красный коммунизм, не безудержные Правые, но рациональная структура, где истинной, законной властью будет предпринимательство, – структура, основанная, что неудивительно, на той, которую он спроектировал в Германии для ведения Мировой войны.
Отсюда и официальная версия. Вполне грандиозная. Но генералдиректор Смарагд и коллеги здесь не ради баек, в какие даже массы верят. Тут чудится – если достанет паранойи – едва ль не сотрудничество: между обеими сторонами Стены, материей и духом. Что такое они знают, неведомое безвластным? Что за ужасная структура таится за фасадами многообразия и предприимчивости?
Юмор висельника. Проклятая салонная игра. Вообще-то Смарагд в такое верить не может – Смарагд-специалист и Смарагд-управляющий. Ему, наверно, подавай лишь знаки, приметы, подтверждения того, что уже бытует, над чем можно похихикать среди членов Herrenklub[95]: «Даже еврей нас благословил!» Что б ни поступило сегодня вечером через медиума, они все исказят, отредактируют, превратив в благословение. Это презрение редчайшего порядка.
В тихом уголке комнаты, полной китайской слоновой кости и шелковых драпировок, Лени отыскивает диван, ложится, свесив ногу, пытается расслабиться. Франц уже наверняка дома, вернулся со своего ракетного поля, моргает под лампочкой, пока соседка фрау Зильбершлаг вручает ему последнюю записку Лени. Сегодня вечером посланья несомы огнями Берлина… неоновыми, накаливания, звездными… послания сплетаются в сеть информации, коей никому не избежать…
– Путь свободен, – голос движет губами Саксы и напряженным белым горлом. – Вы там у себя обречены идти по нему постепенно, шаг за шагом. Но отсюда видна вся форма сразу – не мне, я не так далеко ушел, – но многие узнаю́т в ней ясное присутствие… слово «форма» не очень годится… Позвольте говорить откровенно. Мне все труднее ставить себя на ваше место. Возможные ваши беды, даже всемирного значения, многим из нас кажутся здесь лишь банальными отклонениями. Вы встали на извилистый и трудный путь, вы считаете его широким и прямым, автобаном, по какому можно ехать с удобством. Стоит ли говорить: все, что вы считаете подлинным, – иллюзия. Я не знаю, выслушаете вы меня или отмахнетесь. Вам хочется знать лишь про свой путь, свой автобан… Ладно. Мовеин: вот что в схеме. Изобретение мовеина, анилинового пурпура, розовато-лилового, его приход на ваш уровень. Вы слушаете, генералдиректор?
– Слушаю, герр Ратенау, – отвечает Смарагд из «ИГ Фарбен».
– Тирский пурпур, ализарин и индиго, прочие красители на основе каменноугольного дегтя уже существуют, однако важен анилиновый пурпур. Уильям Пёркин открыл его в Англии, но Пёркина выучил Хофман, которого выучил Либих. Сукцессия. Карма присутствует в ней разве что в весьма ограниченном смысле… еще один англичанин Херберт Ганистер, и поколение химиков, которых выучил он… Затем открытие онейрина. Спросите своего Вимпе. Он специалист по бензилизохинолинам. Присмотритесь к клиническому воздействию медикамента. Я не знаю. Пожалуй, вам стоило бы копать в этом направлении. Оно сливается с линией мовеина-Пёркина-Ганистера. У меня же есть лишь молекула, набросок… Метонейрин в виде сульфата. Не в Германии – в Соединенных Штатах. С Соединенными Штатами есть связка. Связка с Россией. Как по-вашему, почему мы с фон Мальцаном довели Рапалльский договор до подписания? Необходимо было двигаться на Восток. Вимпе вам расскажет. Вимпе, V-Mann[96], присутствовал всегда. Как по-вашему, почему нам так хотелось, чтобы Крупп продавал им сельхозтехнику? И это было частью процесса. В то время я не понимал так ясно. Но я знал, что́ должен делать… Возьмите уголь и сталь. Есть место, где они встречаются. Рубеж между углем и сталью – каменноугольный деготь. Вообразите уголь – лежит в земле, мертво черный, никакого света, сама сущность смерти. Смерти древней, доисторической, биологических видов, которых мы больше никогда не увидим. Стареет, чернеет, залегает все глубже слоями нескончаемой ночи. А над землей выкатывается сталь, ярая, яркая. Но чтобы создать сталь, из первоначального угля надо удалить дегти – они темнее и тяжелее. Экскременты земли, вычищенные, дабы воссияла благородная сталь. Обойденные… Мы считали, что это промышленный процесс. Нет – не только. Мы обошли каменноугольные дегти. В недошедшем навозе ждала тысяча разных молекул. Таков знак откровения. Развертывания. Таково одно из значений мовеина – первого нового цвета на Земле, который выпрыгнул на свет Земли из могилы, залегающей на милях, в эонах глубины. Есть и другое значение… сукцессия… Я пока так далеко заглянуть не могу… Но все это – подражание жизни. Подлинное движение – не от смерти и не к возрождению. Оно – от смерти к смерти-преображенной. В лучшем случае вам удастся полимеризовать несколько мертвых молекул. Но полимеризация не есть воскрешение. Я о вашем «ИГ», генералдиректор.
– Я бы решил – о нашем «ИГ», – отвечает Смарагд – льда и чопорности больше обычного.
– Тут разбираться вам. Если предпочитаете звать это контактом – на здоровье. Я здесь столько, сколько вам нужен. Меня можно не слушать. Вам бы, наверное, лучше послушать про то, что вы зовете «жизнью» – про растущий, органический Kartell? Но это всего лишь очередная иллюзия. Очень умный робот. Чем динамичнее он вам кажется, тем он глубже и мертвее. Посмотрите на дымовые трубы – как они множатся, рассеивая пустопорожние отходы первоначальных отходов над массивами городов, все больше и больше. По структуре они крепче всего в сжатии. Дымовая труба способна пережить любой взрыв – даже ударную волну какой-нибудь новой космической бомбы… – при этих словах вокруг стола разносится легкий шепоток, – как всем вам наверняка известно. Упорство, стало быть, структур, расположенных к смерти. Смерть обращается в новую смерть. Совершенствует свое господство – так погребенный уголь плотнеет, покрывается новыми стратами: эпоха поверх эпохи, город поверх развалин города. Таков знак Смерти-подражателя… Знаки эти реальны. Кроме того, они – симптомы процесса. Процесс следует той же форме, той же структуре. Чтобы его постичь, вы будете следовать знакам. Все разговоры о причине и следствии – мирская история, а мирская история – отвлекающая тактика. Вам, господа, это полезно, а нам здесь – уже нет. Если хотите истины – я понимаю, что это смелое допущение, – загляните в механику таких вопросов. Даже в самые сердцевины определенных молекул – это они, в конце концов, задают температуры, давления, мощности потока, стоимости, прибыли, силуэты башен… Следует задать два вопроса. Первый: какова подлинная природа синтеза? И затем: какова подлинная природа контроля?.. Вы полагаете, будто вам это известно, цепляетесь за свои убеждения. Но рано или поздно вам придется разжать пальцы…