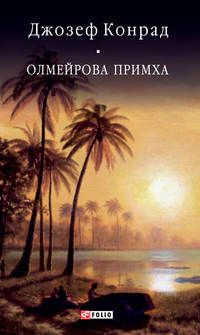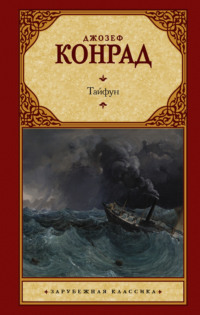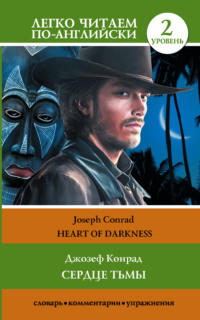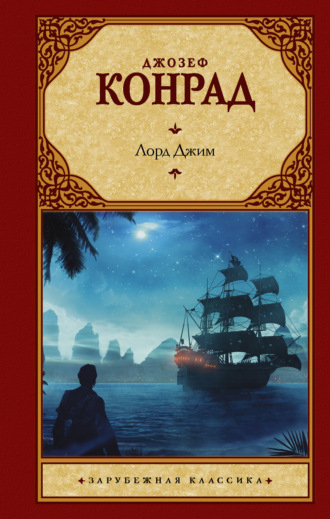
Полная версия
Лорд Джим
Именно такое подозрение Джим вызывал у меня, когда стоял с наплевательским видом перед портовой конторой. Я не мог поверить собственным глазам. Говорю вам: ради профессиональной чести я хотел, чтобы он терзался. Два других типа, о которых и говорить-то не стоит, увидали своего капитана и не спеша двинулись ему навстречу, болтая между собой. Ими я интересовался не больше, чем какими-нибудь существами, невидимыми для невооруженного глаза. Судя по ухмыляющимся физиономиям, они обменивались шутками. Один держал руку, видимо сломанную, на перевязи. Во втором, долговязом, я по вислым седым усам узнал старшего механика «Патны» – личность во многих отношениях печально известную. Это были два ничтожества. Итак, они подошли. Шкипер неподвижно уставился на мостовую у себя под ногами. Казалось, он раздулся до противоестественных размеров по причине какой-то ужасной болезни или под действием какого-то неизведанного яда. Подняв голову, капитан увидел двух своих подчиненных, его одутловатую физиономию исказила насмешливая гримаса, и он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут его, похоже, осенила некая мысль. С характерным звуком сомкнув толстые лиловатые губы, он решительным утиным шагом подошел к остановившейся у тротуара повозке и стал дергать ручку с таким неистовым нетерпением, что я бы не удивился, если бы ветхий экипаж опрокинулся вместе с лошадью. Встряска заставила возницу прервать созерцание собственной ступни. Обернувшись и увидев, как огромная туша пытается протиснуться в дверцу повозки, бедняга в ужасе вскинул обе руки. Убогое средство передвижения отчаянно раскачивалось, наклоненная толстая шея раскраснелась, жирные бедра напряглись, необъятная оранжево-зеленая спина вздымалась. При виде того, как эта грязная полосатая масса словно бы старается вырыть себе нору, легко было усомниться в реальности происходящего. Стало смешно и страшно, как от гротескного правдоподобия тех видений – пугающих и вместе с тем завораживающих, – которые посещают человека в лихорадке. Капитан «Патны» исчез. Я почти ожидал, что крыша разломится надвое и что вся повозка треснет, как коробочка хлопчатника, но она только просела, лязгнув рессорами, после чего шумно опустилась одна из штор-жалюзи. Затем через маленькое отверстие снова показались плечи капитана и разъяренная, потеющая, брызжущая слюной голова, похожая на привязной аэростат. Кулак, красный, как кусок сырого мяса, сделал в сторону возницы несколько угрожающих движений, сопровождаемых громоподобным приказом ехать. Куда? Может быть, к Тихому океану. Возница хлестнул пони, тот фыркнул, стал на дыбы и рванулся с места галопом. Куда? В Апиа? В Гонолулу? В распоряжении капитана «Патны» было шесть тысяч миль тропического пояса, а точного адреса я не услышал. Фыркающий пони в мгновение ока умчал своего грузного седока в ewigkeit[17], и больше я никогда не видел шкипера. Никто из известных мне людей ничего не слышал о нем, после того как он был унесен из поля моего зрения маленькой повозкой, которая скрылась за поворотом, подняв облако белой пыли. Он уехал, исчез, испарился, совершил побег. И, как это ни абсурдно, у меня сложилось впечатление, будто повозку с лошадью и возницей он забрал с собой. Так или иначе, с тех пор я ни разу не встречал гнедого пони с рваным ухом, понукаемого апатичным тамилом, которого мучила мозоль на ступне. Тихий океан действительно большой. Нашлось ли на его просторах место, где капитан «Патны» сумел проявить свои таланты, мне неизвестно. Я знаю одно: шкипер улетел, как ведьма на метле. Низкорослый типчик с перевязанной рукой заблеял вслед повозке: «Капитан! Куда же вы? Капита-а-ан!» Сделав несколько шагов в том направлении, куда уехал шкипер, коротышка остановился и, понурив голову, медленно побрел назад. Молодого человека шум загрохотавших колес заставил резко, не сходя с места, повернуться. Не делая никаких других движений или жестов, он остался стоять в таком положении после того, как повозка исчезла из виду.
Все это произошло гораздо быстрее, чем длится мой рассказ. Дело в том, что я пытаюсь при помощи медлительных слов передать вам мгновенное действие зрительных впечатлений. В следующую секунду на сцене появился клерк-полукровка, которому Арчи поручил принять необходимые меры в отношении бедных моряков, потерпевших крушение. С готовностью бросившись выполнять задание, клерк выбежал из конторы с непокрытой головой и стал озираться. В отношении главного объекта его миссия была обречена на неудачу. Поняв это, он с суетливо-важным видом подошел к оставшимся троим и сразу же оказался втянут в неистовую перебранку с коротышкой, у которого была сломана рука: тому, по всей видимости, не терпелось с кем-нибудь поскандалить. Дескать, он, второй механик «Патны», не позволит собой командовать: он, черт подери, не из этаких! Чтобы какой-то нахальный писаришка-метис запугал его своим враньем? Ну уж нет! Даже будь все «взаправду так», он не потерпит угроз от «субъектов подобного сорта». Наконец он проревел о своем желании, о своем решении, о своем бесповоротном намерении отправиться в постель. «Не будь ты жалкий португалец, – прокричал разбушевавшийся коротышка, – ты бы увидел, что мне место в больнице!» С этими словами он сунул кулак здоровой руки клерку под нос. Начала собираться толпа. Полукровка, изо всех сил стараясь сохранять солидный и горделивый вид, принялся разъяснять свои намерения. Я ушел, не дожидаясь развязки.
Так случилось, что в то время в госпитале лежал один из моих людей. Придя навестить его накануне судебного разбирательства, в палате для белых мужчин я увидел того крикливого коротышку: он метался, лежа на спине, очевидно, в бреду, на руку была наложена шина. К моему великому удивлению, второй тип – тот, что с вислыми усами, – тоже каким-то образом туда попал. Я вспомнил, что во время перебранки возле портовой конторы он улизнул с набережной, шаркая ногами, но притом едва ли не вприскочку и изо всех сил пытаясь скрыть испуг. В том порту он был не впервые и, по всей видимости, прямиком направился в заведение Мариани возле базара. Этот мошенник Мариани, содержатель бильярдной и винного погребка, знал старшего механика «Патны», не раз проворачивал с ним вместе всякие делишки и чуть ли не ноги ему целовал. Он предоставил ему комнату на втором этаже своего притона и запас бутылок. Похоже, усатый ощущал какую-то смутную угрозу для своей безопасности и потому пожелал от всех скрыться. Много позднее сам Мариани (явившись ко мне на борт, чтобы получить с эконома долг за сигары) сказал мне, что сделал бы для своего друга механика много больше, не задавая лишних вопросов, – насколько я понял, в благодарность за какую-то давнюю противозаконную услугу. В огромных вытаращенных глазах кабатчика, черных с яркими белыми уголками, заблестели слезы, когда он, дважды ударив себя кулаком в мускулистую грудь, произнес: «Антонио никогда не забывать! Никогда!» В чем именно заключалось то аморальное обязательство, которое связывало Мариани, я так и не узнал, но что бы это ни было, механик «Патны» получил возможность сколько угодно сидеть под замком в каморке, вся обстановка которой состояла из стола, стула, матраца в углу да осыпавшейся штукатурки на полу. Пребывая в иррациональном состоянии страха и подавленности, он двое суток подбадривал себя напитками, предоставляемыми Антонио, а вечером третьего дня из каморки послышалось несколько ужасающих воплей. Атакуемый легионом многоножек, механик распахнул дверь, одним отчаянным прыжком преодолел шаткую лестницу, приземлился на живот Мариани, быстро встал и, как кролик, выскочил на улицу. Утром полицейские нашли его в мусорной куче. Сначала он подумал, что его тащат на виселицу, и стал геройски бороться за свободу. Но к тому моменту, когда я присел около его кровати, он уже дня два как затих. Осунувшееся бронзовое лицо с белыми усами благообразно покоилось на подушке. Я мог бы подумать, будто передо мной раненый солдат с детской душой, если бы не призрачная тревога в блеске пустых глаз – неопределенный страх, словно крадущийся за стеклом. Старший механик «Патны» казался настолько спокойным, что у меня даже возникла сумасбродная надежда услышать его точку зрения на происшествие, наделавшее столько шуму. Говоря откровенно, мне не терпелось зарыться в неприглядные обстоятельства дела, которое в конечном счете касалось меня только как части расплывчатого множества людей, объединяемых бесславным трудом и определенными правилами поведения. Причины своего любопытства я объяснить не могу. Называйте его нездоровым, если угодно. Но совершенно праздным оно не было. Я хотел что-то найти. Вероятно, я, сам того не осознавая, искал какую-нибудь глубинную причину, объясняющую поступок молодого моряка и хотя бы отчасти его оправдывающую. Теперь я вполне отчетливо вижу несбыточность тогдашней моей надежды. Ибо невозможно похоронить самую упрямую тень, преследующую человека на протяжении всей истории, – тайное сомнение, которое окутывает нас, как туман, гложет, как червь, и холодит сильнее, чем определенность смерти. Если мы однажды усомнились в том, что власть принятого и коронованного кодекса чести незыблема, то переступить через это, не споткнувшись, будет крайне трудно. Такое сомнение порождает панические крики и весьма нередко ведет к злодеяниям. Оно верный спутник катастрофы. Так неужели я поверил в чудо? Да еще и так пылко? Возможно, ища оправдание поступку незнакомого мне молодого человека, я старался не столько ради него, сколько ради самого себя. Одного вида этого парня было достаточно, чтобы его слабость вызвала у меня тревогу личностного свойства и явилась в моих глазах ужасающей тайной, знаком печальной участи всех тех, чья юность в свою пору была похожа на его юность. Боюсь, подлинная причина моей пытливости именно такова. Несомненно, я ждал чуда. Но единственным во всей этой истории, что я сегодня мог бы назвать чудесным, была моя собственная глупость. Ведь я всерьез надеялся услышать от жалкого больного – всем известного мошенника – нечто способное изгнать злой дух моего сомнения, причем надежда моя, похоже, приняла отчаянную форму. После нескольких бессмысленно дружелюбных фраз, на которые он откликнулся охотно, хотя и вяло (как полагается приличному больному), я, не теряя времени, извлек на свет божий слово «Патна», завернув его, словно в нежнейший шелк, в деликатную вопросительную интонацию. Деликатность моя была эгоистична. Я щадил этого человека только потому, что не хотел спугнуть. Ни злости, ни искренней жалости я к нему не испытывал. Сам по себе его опыт не имел для меня никакой ценности, и о его оправдании я не беспокоился. Он состарился, погрязнув в мелких преступлениях, и больше не мог вызывать ни отвращения, ни сочувствия.
– «Патна»? – переспросил он и, как будто бы с трудом припомнив это слово, ответил: – Да, да. В здешних краях я чего только не повидал… Она утонула на моих глазах.
Я уже готов был встретить эту глупую ложь всплеском негодования, но механик прибавил:
– Она кишела рептилиями.
Я промолчал. Что он имел в виду? Блуждающий фантом страха в его глазах словно остановился и печально поглядел в мои. Больной задумчиво продолжил:
– Меня подняли среди ночи, чтобы смотреть, как она тонет.
В голосе больного вдруг зазвучала пугающая сила. Я пожалел о своем сумасбродстве. Нигде поблизости не виднелся белокрылый чепец сестры. Палата была почти пуста. В середине длинного ряда железных коек лежал какой-то моряк, с которым на рейде произошел несчастный случай. Сейчас он сел на постели – коричневый от солнца, худой, с небрежной повязкой на голове. Внезапно мой занятный собеседник вытянул костлявую руку и, как клешней, ухватил меня за плечо.
– Только я один мог разглядеть. Мое острое зрение всем известно. Затем, я думаю, меня и позвали. Никто из них не успел увидеть, как это началось. Но потом-то они увидели. И запели все вместе вот этак.
Раздался волчий вой, проникший даже в самые дальние уголки моей души.
– Ох… Сделайте так, чтоб он заткнулся! – простонала жертва несчастного случая.
– Вы, кажется, не верите мне? – произнес механик с выражением неописуемого самодовольства. – Говорю вам чистую правду: других таких глаз, как мои, вы по эту сторону Персидского залива не найдете. Загляните-ка под кровать.
Я, разумеется, нагнулся. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел бы воспротивиться любопытству.
– Что видите? – спросил механик.
– Ничего, – ответил я, стыдясь собственной наивности.
Он устремил на меня дикий взгляд, полный иссушающего презрения, и сказал:
– То-то же! А если бы я заглянул, я бы увидел! Говорю же вам, ни у кого нет таких глаз, как мои.
Механик снова схватил меня и заставил сесть. Ему не терпелось снять с себя груз своей тайны.
– Миллионы розовых жаб, – сказал он. – Никто их не видит – только я. Миллионы розовых жаб. Это еще хуже, чем глядеть, как тонет корабль. Глядеть на тонущие корабли я мог целыми днями, покуривая трубочку. А почему мне сейчас ее не дают? Я всегда курил, когда смотрел на жаб. Корабль ими кишел. Кто-то, знаете ли, должен был за ними следить.
Механик лукаво подмигнул мне. По моему лбу струился пот, тиковый пиджак прилип к спине. Послеобеденный бриз порывисто обдувал палату, заставляя шторы шевелить жесткими складками и греметь латунными кольцами. Края покрывал на пустых кроватях, выстроенных в ряд, бесшумно вздымались над голыми досками пола. Я весь трясся. Мягкий тропический ветерок, разгулявшийся по комнате, казался мне ледяным: я словно перенесся домой, на север, и спрятался в сарае от зимней бури.
– Не дайте ему разораться, мистер! – издалека прокричала жертва несчастного случая.
Огорченный и рассерженный голос этого человека звучал в пустой палате как в туннеле. Механик снова дернул меня за плечо и заговорщицки сощурился.
– Корабль ими кишел, знаете ли, и мы должны были от них избавиться, но только так, чтобы ни одна живая душа не узнала, – произнес он очень быстрым шепотом. – Все розовые. Все розовые и здоровенные, как мастиф. Одноглазые, с когтями вокруг пастей. Брр! Брр!
Под простыней, как от ударов гальванического тока, возбужденно задергались тощие ноги больного. Выпустив мое плечо, он стал хватать руками воздух. От напряжения тело задрожало, как отпущенная струна арфы, и в этот момент призрачный страх пробился сквозь стеклянную стену взгляда. Лицо старого солдата, благородное и спокойное, исказило выражение затаенного коварства, гнусной настороженности и отчаянного страха. Сдержав крик, он спросил, указывая на пол:
– Что они делают?
Этот жест и этот голос подействовали на меня, как вспышка какого-то зловещего фантастического света. Я понял, что они означают, и мне стало тошно от собственной догадливости.
– Спят, – сказал я, осторожно глядя на механика.
Я не ошибся: именно это слово он и хотел услышать. Именно оно его успокоило. Он глубоко вздохнул.
– Шшш! Тихо. Я в этих краях чего только не повидал. Знаю этих гадин. Как только какая-нибудь шевельнется, бахните ее по башке. Их там слишком много, а корабль дольше десяти минут не продержится… – После этих слов больной задышал учащенно. – Быстрей! – вскрикнул он, а потом стал кричать уже не переставая: – Они все проснулись! Их миллионы! Они меня затопчут! Но вы погодите! Погодите! Я перебью их как мух! Помогите же мне! Помоги-и-ите!
Когда бывший механик «Патны» перешел на нескончаемый монотонный вой, это сделалось совершенно невыносимо. Жертва несчастного случая горестно схватилась обеими руками за перебинтованную голову. На другом конце палаты показался санитар в фартуке до подбородка – такой крошечный, как если бы я посмотрел на него в подзорную трубу, поднеся ее к глазам не той стороной. Не буду скрывать: я обратился в бегство. Не говоря больше ни слова, выбрался на галерею через одно из низких окон. Вой преследовал меня, как мщение. Я вышел на площадку безлюдной лестницы, и тогда все внезапно стихло. Спускаясь по блестящим ступеням, я сумел упорядочить свои спутанные мысли. Внизу, во дворе, мне встретился один из хирургов, живших при той больнице. Он остановил меня и сказал:
– Приходили навестить подчиненного, капитан? Думаю, завтра мы его отпустим. И все-таки этот глупый народ не понимает, как нужно себя вести, чтобы сберечь здоровье. Кстати, у нас тут лежит старший механик того паломнического судна. Любопытный случай. Белая горячка в тяжелейшей форме. Он три дня пил не просыхая, пока сидел в том греческом или итальянском заведении. Сколько, по-вашему, он выпивал в день? Четыре бутылки тамошнего бренди – так мне сказали. Поразительно, даже невероятно! Внутри у него, должно быть, котельное железо. А голова? С головой, конечно, беда, но знаете, что любопытно? В его болтовне есть какая-то система, которую я пытаюсь разгадать. В том, как он бредит, прослеживается логика, и это очень необычно. Обыкновенно таким больным мерещатся змеи, а ему нет. Добрых старых традиций нынче никто не уважает. Эх! Он, видите ли, предпочитает земноводных. Ха-ха! Нет, правда: не помню, чтобы меня когда-нибудь прежде так сильно интересовали алкоголики. Он ведь, знаете ли, должен был умереть – после такого-то веселенького эксперимента. Крепкий оказался орешек! Двадцать четыре года в тропиках тоже, между прочим, не шутки. Вам бы в самом деле следовало на него взглянуть. Старый, почтенного вида пьяница. Удивительнейший человек из всех, кого я встречал. В медицинском отношении, разумеется. Так вы к нему зайдете?
До сих пор я, как принято в подобных случаях, вежливо кивал, но теперь, изобразив сожаление, пробормотал что-то о нехватке времени и торопливо пожал врачу руку.
– Да! – крикнул доктор мне вслед. – На суд-то он прийти не сможет. Думаете, его показания могли бы быть важными?
– Нет, я так не думаю, – ответил я, выходя за ворота.
Глава 6
Власти, очевидно, тоже так не думали и потому не стали откладывать разбирательство. Оно состоялось в назначенный день. Тем самым требования закона были соблюдены. А поскольку дело представляло особый, так сказать, человеческий интерес, то зал суда отнюдь не пустовал. Факты выглядели вполне определенно – по крайней мере один, самый существенный факт сомнений не вызывал. Выяснить же, каким образом «Патна» получила пробоину, было невозможно: суд не ставил перед собой такой задачи, и никого из присутствовавших это не волновало. Тем не менее, как я уже сказал, на заседание пришли все моряки, бывшие в городе, а также многие портовые служащие и торговцы. Сознавали они это или нет, их всех занимал вопрос сугубо психологического свойства. Они ждали какого-то открытия, притом чрезвычайно важного, которое касалось бы силы и ужасающего могущества человеческих эмоций. Подобные ожидания, разумеется, не могли быть оправданными. Из всего экипажа «Патны» только один человек оказался в состоянии и захотел предстать перед судом, и теперь он без толку ходил вокруг да около того, что и так все знали, а от задаваемых вопросов было не больше пользы, чем от стучания молотком по металлическому ящику, в котором спрятан искомый предмет. Впрочем, от официального разбирательства и не следовало ждать большего. Его предметом было не фундаментальное «почему», а поверхностное «как».
Тот молодой человек, вероятно, мог бы удовлетворить интерес собравшихся, но вопросы, которые ему задавали, без конца уводили его от того, что, на мой взгляд, и было единственной правдой, заслуживающей внимания. Уполномоченные власти, как правило, не интересуются ни состоянием души человека, ни тем, тонка ли у него кишка. Им полагается только разобраться в последствиях произошедшего. Да и, честно говоря, обыкновенный полицейский судья и два морских заседателя попросту не годились для чего-то иного. Я не хочу сказать, что эти трое были глупы. Судья оказался очень терпелив. А помогали ему шкипер парусного судна (набожного вида малый с рыжеватой бородой) и Брайерли, Большой Брайерли – капитан отличного судна компании «Блу стар». Кто-нибудь из вас, наверное, слышал о нем.
Так вот. Исполняя навязанную ему почетную обязанность, он, по всей видимости, страдал от скуки. Сам он за всю свою жизнь не совершил ни одной ошибки: с его судами никогда ничего не случалось. Он без заминок шел вверх по служебной лестнице, производя впечатление человека, которому неведома нерешительность, не говоря уж о недоверии к себе. В тридцать два года Брайерли уже командовал одним из лучших торговых судов на востоке. Свою «Оссу» он очень ценил: послушать его, так в целом мире не было другого такого корабля. Как и другого такого капитана – думаю, он признался бы в этом, если бы его спросили напрямую. Выбор пал на достойного человека. Ведь все прочие люди – те, кто не командовал стальным пароходом «Осса», делающим шестнадцать узлов в час, – были довольно жалкими созданиями, а он, Брайерли, спасал утопающих и помогал судам, терпящим бедствие. В благодарность за безупречную службу он получил от страховщиков золотой хронометр, а от одного иностранного правительства – бинокль с гравировкой. Эти заслуги и награды значили для него очень много. Я знаю людей (вполне дружелюбных и кротких), которые не переносили Брайерли. Мне же он нравился. Конечно, я нисколько не сомневался в том, что он не смотрел на меня как на равного себе. В присутствии такого человека нельзя не чувствовать собственной ущербности, будь ты хоть император Запада и Востока. Но я не обижался. Ведь он не презирал меня за мои поступки или за то, кем я был. Я имел в его глазах пренебрежимо малый вес только потому, что мне не посчастливилось быть Монтегю Брайерли, капитаном «Оссы», обладателем золотого хронометра и серебряного бинокля – свидетельств моих непревзойденных умений и несокрушимой отваги. Меня не переполняло чувство гордости за собственные заслуги и награды, я не был предметом обожания черного охотничьего пса – лучшей собаки на свете, которая так любила своего лучшего на свете хозяина, как никто никогда никого не любил. Конечно, мне нелегко было смириться с тем, что я настолько обделен судьбой, но моя обделенность роднила меня со всем остальным населением планеты (со многими миллионами более или менее человеческих существ), и это несколько утешало. Я терпел положенную мне долю добродушно-презрительной жалости ради чего-то неопределенного, что привлекало меня в Брайерли. Что именно это было, я и сам толком не понимал. Могу сказать лишь одно: иногда я ему завидовал. Жизненные невзгоды причиняли его самодовольной душе не больший ущерб, чем булавка – гладкой поверхности скалы. Это, конечно, вызывало зависть. На разбирательстве по делу «Патны» Брайерли сидел рядом с бледным, скромно державшимся судьей, являя и мне, и миру картину самоудовлетворенности, нерушимой, как гранит. Вскоре он покончил с собой.
Показания Джима, разумеется, навевали на Брайерли скуку, и я почти с ужасом думал о том, насколько безгранично должно быть его презрение к молодому человеку. На самом же деле он, вероятно, молчаливо расследовал собственное дело и в итоге признал себя виновным без смягчающих обстоятельств, а доказательства этой загадочной вины отправились вместе с ним на дно морское. Если я что-нибудь понимаю в людях, то дело, несомненно, касалось чего-то крайне важного – одной из тех мелочей, которые пробуждают идеи, порождают мысли, способные отравить жизнь человека, непривычного к их компании. У меня есть основания утверждать, что причиной самоубийства были не деньги, не пристрастие к спиртному и не женщина. Брайерли выбросился за борт через неделю после окончания разбирательства и через три дня после того, как «Осса» отправилась в рейс. Можно подумать, будто, дойдя до определенной точки фарватера, он вдруг увидел врата другого мира, настежь отворившиеся, чтобы его принять.
Но нет, это решение не было внезапным. Я знал седовласого помощника Брайерли – первоклассного моряка и дружелюбного малого. Правда, свое дружелюбие он распространял на всех, кроме командира, с которым держался на редкость угрюмо. Так вот этот человек со слезами на глазах поведал мне, как было дело. Утром, когда он поднялся на палубу, Брайерли что-то писал в штурманской рубке.
– Было без десяти четыре, – сказал старик. – То есть ночная вахта еще не закончилась. На мостике я перемолвился парой слов со вторым помощником, капитан услыхал мой голос и подозвал меня. Мне не хотелось идти. Стыдно признаться, но это ведь правда, капитан Марлоу: я терпеть не мог бедного капитана Брайерли. Никогда не знаешь, из чего человек сделан. Он слишком многих (не считая меня) обошел по службе и чертовски хорошо умел всех вокруг унижать: ему достаточно было только пожелать тебе доброго утра, и ты как будто становился меньше. Без служебной надобности, сэр, я никогда с ним не заговаривал, а когда это все же требовалось, с трудом сдерживался, чтобы не быть неучтивым. – (Здесь старик себе польстил: я всегда недоумевал, как Брайерли мирится с такими манерами.) – У меня есть жена и дети. Я прослужил компании десять лет и уже давненько ждал, что следующая капитанская вакансия будет моя. Дурак! Так значит, капитан мне говорит: «Подите сюда, мистер Джонс». Этак чванливо, как всегда: «Подите сюда, мистер Джонс». Я подошел. «Давайте отметим наше положение», – сказал он и склонился над картой с циркулем в руке. По уставу это должен был сделать вахтенный, перед тем как смениться. Я, однако, ничего не сказал, а только поглядел, как капитан поставил маленький крестик на месте, где мы тогда находились, и надписал время. До сих пор ясно вижу аккуратные цифры, которые он вывел: «семнадцать, восемь, четыре до полудня, а год был написан на верхнем поле красными чернилами. Больше года капитан Брайерли никогда не использовал одну и ту же карту. Та карта сейчас у меня. Ну так вот. Выпрямился он, посмотрел на крестик, улыбнулся сам себе, а потом говорит мне: «Еще тридцать две мили, и опасность будет позади. Тогда можете взять на двадцать градусов южнее». Мы как раз обходили с севера Гекторову отмель. «Хорошо, сэр», – отвечаю я, а сам не понимаю, чего это он суетится, ведь перед сменой курса я все равно должен буду к нему обратиться. Тут колокол ударил восемь раз. Мы поднимаемся на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, докладывает, как обычно: «Пройдена семьдесят одна миля». Капитан смотрит на компас, потом оглядывается по сторонам. Небо темное и ясное. Звезды видны, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он тихонько вздыхает и говорит: «Я пойду на корму и сам поставлю лаг на нуль, чтобы не было ошибки. Еще тридцать две мили этим курсом – и будете в безопасности. Давайте посмотрим: шесть процентов – поправка. Потом проходите тридцать по циферблату и сразу можете забирать на двадцать градусов вправо. Зачем нам терять расстояние? Незачем, верно?» Я никогда раньше не слышал, чтобы он говорил так много, да еще и без особой нужды, как мне показалось. Я ничего ему не ответил. Он спустился по лестнице, и пес, который ни днем ни ночью от него не отлучался, шмыгнул за ним. Я услыхал шаги капитана по корме. Потом он остановился и заговорил с собакой: «Возвращайся на мостик, Пират. Наверх, мальчик! Ну, давай!» Еще через несколько секунд капитан крикнул мне из темноты: «Мистер Джонс, заприте, пожалуйста, пса в штурманской рубке, хорошо?» То были последние слова, капитан Марлоу, которые он мне сказал. Больше, сэр, ни один живой человек не слышал от него ни словечка. – Дрогнувшим голосом старина Джонс продолжал: – Да, капитан Марлоу, он выставил для меня лаг – вы подумайте! – и даже масла туда капнул. Масленка осталась рядом. В половине пятого помощник боцмана взял шланг, чтобы помыть корму, и вдруг, не домыв, прибегает на мостик: «Мистер Джонс, пойдемте, пожалуйста, со мной. Поглядите, что я нашел – самому мне лучше не трогать». На перилах висел золотой хронометр капитана Брайерли, аккуратно привязанный за цепочку. Я сразу все понял, сэр, и ноги у меня подкосились. Я все равно что своими глазами увидал, как он падает за борт. Не трудно было даже сказать, как далеко мы с того момента успели пройти. Гакабортный лаг показывал восемнадцать миль и три четверти. У грот-мачты не хватало четырех кофель-нагелей. Видно, он положил их в карманы, чтобы легче было пойти на дно. Но боже мой! Что эти четыре железки для такого дюжего мужчины, как капитан Брайерли! Похоже, в последнюю минуту его всегдашняя уверенность в себе немножко пошатнулась. Это, думается мне, был единственный раз за всю его жизнь, когда он дал слабину. Да и то я уверен, что, как только прыгнул за борт, он не сделал больше ни единого движения, ни рукой ни ногой. А если бы вывалился случайно, тогда, напротив, мог бы продержаться на плаву целые сутки. Капитан Брайерли ни в чем никому не уступал – я сам однажды слышал это от него. За время ночной вахты он написал два письма: одно для компании, другое для меня. Там было множество указаний, как вести судно (будто я не ходил по этим морям подольше его), и множество околичных советов, как держать себя в Шанхае, чтобы новым капитаном «Оссы» сделали меня. Он писал мне, точно отец любимому сыну, а ведь я его на двадцать пять лет старше и успел нахлебаться соленой воды, прежде чем он надел первые штанишки. В письме к судовладельцам – оно осталось незапечатанным, чтобы я мог прочесть, – капитан Брайерли писал, что всегда исполнял свой долг и даже в смертный час не предал компанию, так как оставил судно в руках моряка, надежней которого не сыскать. Это он меня, сэр, имел в виду. Меня! Дескать, если своим последним шагом он не утратил доверия господ судовладельцев, то пускай они прислушаются к его горячей рекомендации и примут во внимание мои служебные заслуги, когда станут решать, кому отдать вакансию. И далее в таком роде. Я читал, сэр, и глазам своим не верил. Меня всего этакое странное чувство охватило… – Разволновавшись, старина Джонс быстро провел возле переносицы большим пальцем, широким, как лопатка. – Могло показаться, сэр, будто капитан Брайерли только затем и прыгнул за борт, чтобы дать невезучему человеку последний шанс. Из-за этого его ужасного безумного поступка я неделю был сам не свой. К тому же думал, что вот этакой ценой наконец-то выбился в люди. Но напрасно я боялся. К нам перевели капитана «Пилиона». Он поднялся на борт в Шанхае – этакий фатоватый типчик, сэр. Костюм в клетку, волосы на пробор причесаны. «Я, – говорит он, – ваш новый капитан, мистер… мистер… э… Джонс». А духами от него воняет, будто он ими с ног до головы облился. Я, капитан Марлоу, так на него поглядел, что он, смею сказать, заикаться начал. Пробормотал что-то про мое понятное разочарование. Его помощнику, дескать, отдали «Пилион», а его самого перевели сюда, но он тут ни при чем. Им в управлении, надо полагать, виднее, но он, мол, сожалеет. «Не сожалейте, – говорю я. – Старику Джонсу, черт подери, не привыкать». Его нежным ушкам мои выражения пришлись не по вкусу. Когда мы сели обедать, он принялся ко всему на корабле подлейшим образом придираться. Голос у него был такой, каким Панч и Джуди бранятся друг с дружкой в балагане на ярмарке. Я стиснул зубы и уставился в тарелку. Терпел, сколько мог, но под конец не выдержал. Он вскочил, поднялся на цыпочки, вздыбил свои нарядные перышки, как драчливый петух, и говорит: «Вы увидите, что я не такой человек, как был капитан Брайерли». – «Уже вижу», – отвечаю я хмуро, но при том делаю вид, будто очень занят своим стейком. Тут этот франтик как разверещится: «Вы старый грубиян, мистер… э… Джонс, и, если хотите знать, в компании именно так о вас и думают!» Те, кто подавал нам на стол, слушают, черти, и улыбаются во весь рот. «Может, я и не подарок, – говорю я, – но не опущусь до того, чтобы смотреть на вас в кресле капитана Брайерли». С этими словами я положил нож и вилку. «Вы предпочли бы сами занять его место – вот в чем все дело», – ухмыляется этот тип. Я вышел из кают-компании, собрал свои пожитки и, прежде чем судно успели разгрузить, уже стоял на причале со всем своим добром. Вот так-то, сэр. Выбросило меня на берег после десяти лет службы. А ведь в шести тысячах миль отсюда у меня жена и четверо детей, которым без моего половинного оклада будет нечего есть. Но уж лучше так, чем слушать, как оскорбляют капитана Брайерли. Да, сэр! Он оставил мне свой ночной бинокль (вот этот самый) и еще пожелал, чтобы я взял себе его пса. А вот, кстати, и Пират. Здоро́во, бедолага. Где наш капитан, а?