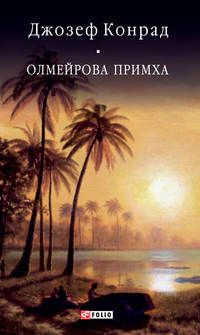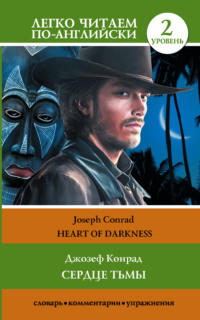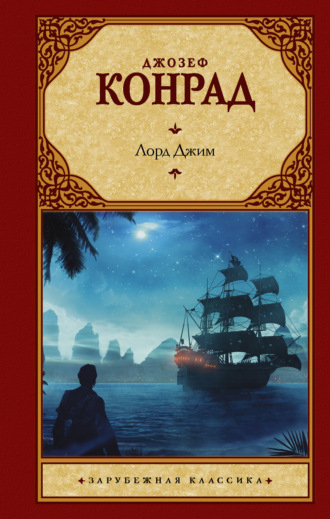
Полная версия
Лорд Джим

Джозеф Конрад
Лорд Джим
Мистеру и миссис Дж. Ф. У. Хоуп
с нежной благодарностью за многолетнюю дружбу
От автора
Когда этот роман был впервые опубликован отдельным изданием, стали говорить, будто я чересчур увлекся: по мнению некоторых критиков, то, что начиналось как рассказ, вышло из-под авторского контроля. Мне указали на границы выбранной мною повествовательной формы: дескать, человек не сможет говорить так долго. А если и сможет, то никто не станет слушать. Такое повествование выглядит неправдоподобно.
Я думал об этом лет шестнадцать, но до сих пор не убедился в правоте моих критиков. Известно, что и в тропиках, и в умеренных широтах люди способны полночи «молоть языком», обмениваясь историями. В моей книге тоже рассказана история – одна, хотя и прерванная несколько раз, чтобы слушатели могли отдохнуть. Терпение слушателей, полагаю, объясняется тем, что им интересно. Это обязательная предпосылка: я бы не стал излагать на бумаге историю, которую не считаю увлекательной. Что же до того, вероятно ли столь долгое говорение с физической точки зрения, то все мы знаем: речи некоторых членов парламента длятся чуть ли не по шесть часов, меж тем как ту часть книги, где Марлоу говорит от первого лица, можно прочесть вслух меньше чем за три. К тому же, хоть я и не позволял себе загромождать повествование несущественными подробностями, естественно было бы предположить, что несколько раз на протяжении ночи рассказчик подкреплял свои силы стаканом минеральной воды или чего-нибудь еще.
Но шутки в сторону. Сперва я действительно задумал написать рассказ, в основу которого легла бы история о корабле пилигримов. Ничего другого в мой изначальный замысел не входило, и это было вполне законное зачатие. Однако, написав несколько страниц, я остался недоволен и решил на некоторое время их отложить. Они пролежали в ящике моего письменного стола до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блэквуд не попросил меня вновь дать что-нибудь для его журнала.
Только тогда я понял, что эпизод с кораблем пилигримов – хорошая отправная точка для свободно блуждающего повествования, и что это как раз то событие, которое способно оживить образ простого, но остро чувствующего персонажа. В ту пору я сам не вполне понимал мои душевные движения. Да и сейчас, после стольких лет, они не стали для меня много яснее.
Те несколько страниц, которые я извлек из своего стола, оказали определенное влияние на выбор темы, но, сделавшись частью целого, были переписаны сообразно новому замыслу. Я знал, что повествование будет долгим, хотя изначально и не предполагал растягивать его на тринадцать номеров журнала.
Иногда меня спрашивают, не эту ли свою книгу я люблю больше всех других. Я убежденный противник фаворитизма не только в политике, но и в частной жизни, а также в непростых отношениях между автором и его творениями. У меня самого обыкновенно не бывает любимцев, но то, что некоторые читатели выделяют «Лорда Джима» среди моих работ, меня не огорчает и не раздражает. Чтобы это было «за пределами моего понимания», я тоже не скажу. Нет! И все-таки испытать удивление и замешательство мне однажды пришлось.
Друг, вернувшийся из Италии, поведал мне, что одной даме, с которой он там беседовал, моя книга не понравилась. Я, конечно, выразил сожаление, но сама по себе нелестная оценка удивила меня куда меньше, чем ее основание. «Видите ли, – сказала та дама, – это все так нездорово…»
Обеспокоенный столь неожиданным заявлением, я довольно долго размышлял и, в конце концов, пришел к выводу: во-первых, сам тот предмет, о котором говорится в книге, как правило, не слишком волнует женщин, а во-вторых – та леди вряд ли итальянка. Не знаю даже, в Европе ли находится ее родина. В любом случае для латинского темперамента нет ничего нездорового в остром переживании утраты чести. Эта утрата может быть истинной или ложной, а вызванные ею терзания могут показаться искусственными. Мой Джим, пожалуй, не типическая фигура, но я позволю себе твердо заверить читателей в том, что при этом он и не продукт холодного извращенного мышления, не порождение Северных Туманов. Однажды утром в обыкновенном восточном порту он прошел мимо меня: значительный и располагающий к себе, притом совершенно безмолвный и словно окутанный облаком. Моя задача состояла в том, чтобы со всем сочувствием, на какое я только способен, подобрать слова, которые выразили бы, что он значил в моих глазах. Он был «одним из нас».
Дж. К.Июнь 1917.Глава 1
Он был без одного-двух дюймов шести футов росту[1], могучего телосложения. Шагал, слегка ссутулив плечи, наклонив голову и по-бычьи глядя исподлобья. Говорил густым звучным голосом, держался с упрямой уверенностью, в которой, впрочем, не было ничего агрессивного. Его напористость казалась необходимой, и он, по-видимому, направлял ее в той же мере на самого себя, как и на других. Безупречно аккуратный, он одевался во все белое, от туфель до шляпы, и пользовался большой популярностью в многочисленных восточных портах, где служил клерком судового поставщика.
Клерки судовых поставщиков не сдают никаких экзаменов, но должны обладать сноровкой – в теории и на практике. Их работа состоит в том, чтобы под парусом, на паровом ходу или на веслах быстрее конкурентов добраться до любого корабля, намеренного причалить. Затем следует бодро приветствовать капитана и вручить ему карточку своего начальника, а едва капитан ступит на берег, твердо, однако не слишком навязчиво направить его в большую пещероподобную лавку, полную всего того, что моряки едят и пьют, а также всего того, чем они чинят и украшают свое судно, начиная с набора крюков для якорной цепи и кончая сусальным золотом для резьбы на корме. Хозяин, которого капитан видит впервые в жизни, с братским радушием приветствует его в своих прохладных владениях, где имеются удобные кресла, напитки, сигары, письменные принадлежности и свод портовых правил. Теплый прием размягчает соляную корку, наросшую на сердце моряка за три месяца плавания. В продолжение всей стоянки корабля знакомство, завязанное таким образом, поддерживается ежедневными визитами клерка. В отношении капитана он выказывает дружескую преданность, сыновнее участие, терпение Иова и самоотверженную верность любящей женщины, сдабривая все это приятельской веселостью. Потом выписывается счет. Быть клерком судового поставщика – ремесло прекрасное и гуманное, и тех, кто в нем преуспевает, не так-то много. Клерка, который не только ловок в теории, но и не понаслышке знаком с жизнью моряка, приходится задабривать и деньгами, и любезным обращением. Джиму всегда хорошо платили и обращались с ним так, что, будь он даже чертом, в ответ от него можно было бы ожидать дружеской преданности, однако он, проявляя черную неблагодарность, внезапно оставлял работу и уезжал. Причина, на которую он ссылался, не встречала понимания хозяев. «Чертов дурак!» – бормотали они ему вслед. Так они аттестовывали его изысканную чувствительность.
Для белых торговцев в портовых городах и капитанов судов он был просто Джим и никак иначе не назывался. Другого имени, которое у него, конечно, имелось, он раскрывать не желал. Его инкогнито, дырявое, как решето, должно было прятать не личность, но факт. Как только факт прорывался наружу, Джим поспешно покидал тот порт, в котором это происходило, и уезжал в другой – еще дальше на восток. Он держался прибрежных городов, потому что был моряком, отлученным от моря, и обладал знаниями, полезными лишь для одной сухопутной работы – помощника судового поставщика. Преследуемый фактом, который всплывал случайно, но неизбежно, он размеренно двигался навстречу восходящему солнцу. О нем узнали сперва в Бомбее, затем в Калькутте, Рангуне[2], Пинанге и Батавии[3], и везде он был просто Джимом, клерком судового поставщика. Потом острое восприятие непереносимого заставило его навсегда покинуть мир морских портов и белых людей. Джим скрылся в девственных джунглях, в малайской деревушке, продолжая и там хранить инкогнито. К короткому имени, которым он представился, местные жители прибавили еще одно слово: они стали звать его «туан Джим». Это означало примерно то же, что «лорд Джим».
Родом он был из семьи пастора. Славные капитаны многих торговых кораблей вышли из стен, где царят мир и набожность. Отец Джима обладал достаточными знаниями о непознаваемом, чтобы поддерживать благочестие в крестьянских домах, не нарушая спокойствия тех, кого безошибочная воля Провидения сделала хозяевами поместий. Своей замшелой серостью церквушка на холме напоминала скалу, проглядывающую сквозь зубчатое кружево листвы. Деревья, росшие вокруг, вероятно, помнили, как закладывался первый камень этого храма, построенного несколько столетий назад. Ниже стоял пасторский дом, тепло красневший в окружении лужаек, клумб и елей. Позади располагался фруктовый сад, слева – мощеный двор с конюшней. К кирпичной стене лепились стеклянные своды теплиц. Семья жила в этом гнезде на протяжении нескольких поколений, но Джим был одним из пяти сыновей, и, когда легкое чтение выявило в нем любовь к морю, его определили на «учебный корабль торгового флота».
Там он выучился решать кое-какие тригонометрические задачи и поднимать брам-стеньги. Его успехи встречали одобрение. Среди своих товарищей он был третьим в навигации и сделался загребным на первой шлюпке. Спокойная голова и отлично развитые мускулы позволяли ему ловко управляться с реями. Его пост был на фор-марсе[4]. С презрением человека, которому суждено блестяще преодолевать опасности, глядел он вниз, на мирное скопление крыш, разрезаемое на две половины коричневыми водами реки, и на фабричные трубы вдали, что росли перпендикулярно закопченному небу, – тонкие, будто карандаши, и изрыгающие дым, будто вулканы. Он видел, как отчаливают большие корабли и как снуют туда-сюда широкие паромы. Внизу, под его ногами, плавали маленькие лодочки, а впереди, суля волнующие приключения, виднелась туманная роскошь моря.
На нижней палубе, в шуме двух сотен голосов, Джим забывался, погружаясь в воображаемый морской мир легкой литературы. Мысленно он спасал людей с тонущих судов, рубил мачты во время ураганов, вплавь боролся с волнами, зажав в руке линь, или, выжив после кораблекрушения, босой и полуобнаженный, бродил по скалам в поисках моллюсков, которые не дали бы ему умереть от голода. Он побеждал в столкновениях с дикарями на тропических берегах, подавлял мятежи в открытом море, вдохновлял своим мужеством несчастных, оказавшихся вместе с ним на крошечном суденышке посреди океана, – словом, всегда был, как герой романа, неколебим в своей преданности долгу.
– Скорее! Там что-то происходит.
Мальчишки, слившись в плотный поток, карабкались вверх по лестнице. Наверху слышались крики и беготня. Едва высунув голову из люка, Джим остолбенел.
Была зима, сгущались сумерки. Ветер, усилившийся после полудня, остановив движение на реке, теперь дул с силой урагана. Судорожные порывы гремели, как залпы огромных орудий над океаном. Косой дождь падал с неба простынями, которые то трепетали, то никли, и время от времени Джим видел угрожающие волны прилива. Какое-то суденышко судорожно металось возле берега, неподвижные здания вырастали из дрейфующего тумана, громоздко темнели паромы, стоящие на якоре, забрызганные дебаркадеры поднимались и опускались. Следующий порыв ветра грозил сдуть все это прочь. По воздуху летала вода. В свирепости бури ощущалось нечто злонамеренное, в ярости ветра – нечто многозначительное. Этот жестокий мятеж неба и земли был, как мнилось Джиму, направлен именно против него. От ужаса он перестал дышать и замер. Ему показалось, будто он кружится на месте.
Его отпихнули с дороги. Раздалась команда:
– По шлюпкам!
Мальчики побежали. Каботажное судно, вошедшее в устье реки, чтобы спастись от бури, натолкнулось на шхуну, стоящую на якоре, и один из наставников это увидел. Мальчишки облепили перила, сгрудившись возле шлюпбалок.
– Авария! Прямо перед нами! Мистер Симонс заметил.
Джима толкнули, он споткнулся о бизань-мачту и схватился за веревку. Старое учебное судно, поставленное на якорь носом против ветра, все дрожало, мягко кивая и низким голосом своей скудной оснастки насвистывая тихую песню о юности, проведенной в море.
– Шлюпку на воду!
Джим увидел, как лодка, заполненная его товарищами, стала быстро опускаться, и бросился к ней. Раздался всплеск.
– Отвязать фалы!
Джим перегнулся через перила: речная вода обтекала судно, закипая пеной. Шлюпка, словно заговоренная волной и ветром, дергалась на месте, почти не продвигаясь. Из сгущавшейся темноты слабо донесся голос:
– Гребите, щенки, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите как следует!
Шлюпка резко задрала нос, ощетинилась веслами и прыгнула вперед, наконец-то пересилив чары ветра и прилива. Плечо Джима крепко схватила чья-то рука:
– Опоздал, парень.
Капитан корабля удержал мальчика, который, видимо, готов был прыгнуть за борт. Джим поднял глаза, полные боли разочарования. Капитан сочувственно улыбнулся.
– Это научит тебя не зевать. Может, в следующий раз повезет.
Шлюпка была встречена громким приветственным воплем. Довольно скоро она, танцуя, вернулась, до половины наполненная водой, в которой лежали спасенные – два изможденных матроса. Угрозы ветра и моря теперь казались Джиму ничтожными – тем сильнее он сожалел о том, что недавно испытал перед ними такой ужас. Сейчас он смотрел на них другими глазами, и шторм уже нисколько его не смущал. Даже более серьезные испытания были ему по плечу. Он мог все преодолеть – легче, чем кто-либо. Страх совершенно исчез.
Однако тем вечером Джим сидел, мрачный и задумчивый, в стороне от остальных, а героем нижней палубы был баковый гребец шлюпки – сероглазый мальчик с девичьими чертами. Товарищи забрасывали его вопросами, а он повествовал:
– Я увидел в воде чью-то голову и сразу схватился за багор. Поймал бедолагу за штанину и сам чуть не вывалился за борт. Наверное, вывалился бы, если бы старик Симонс не выпустил румпель и не схватил меня за ноги. Лодка едва не перевернулась. Симонс – славный малый. Я на него не в обиде за то, что он частенько нас поругивает. Он бранил меня не переставая все то время, пока держал. Кричал, чтобы я не выпустил из рук багор. Он, старый Симонс, жутко вспыльчивый, правда? Нет, я зацепил не того, маленького, а другого – дюжего, с бородой. Когда мы его втащили, он застонал: «Моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Только представьте себе: такой здоровяк брякнулся в обморок, как девчонка. Разве кто-нибудь из вас потерял бы сознание из-за царапины от багра? Я бы точно нет. Правда, крюк вошел в ногу вот настолько. – Рассказчик произвел сенсацию, показав своим слушателям специально принесенный для этой цели багор. – Да нет же, я не за мясо его тянул, а за штаны. Хотя крови, конечно, было много.
Столь откровенное проявление тщеславия Джим счел жалким. Шторм, оказавшийся лишь мнимо ужасным, породил сообразный себе мнимый героизм. Джим сердился на стихии за то, что они своим бунтом застигли его врасплох, нечестно парализовав в нем благородное стремление навстречу опасности. Тем не менее он был даже рад тому, что не попал в шлюпку, ведь именно неудача произвела внутри его этот поворот. Он получил более ценный опыт, чем те, кто налегал на весла. Теперь Джим не сомневался: в другой раз все оробеют, а он один не растеряется перед лицом фальшивой угрозы стихий. Только он знает ей истинную цену. Если смотреть бесстрастно, эта опасность ничего не стоит. Джим больше не ощущал в себе ни малейшего следа испуга. Итогом ошеломляющего события явилось для него то, что он, отделившись от шумной толпы своих товарищей, стал незаметно упиваться свежей жаждой приключений и уверенностью в собственной многогранной отваге.
Глава 2
После двух лет обучения Джим отправился в море и вскоре обнаружил, что края, так хорошо знакомые его воображению, на деле, как ни странно, вовсе не спешат будоражить путешественника чем-либо захватывающим. Он сделал много рейсов и узнал магическую монотонность существования между небом и водой. Ему приходилось терпеть недовольство людей, прихоти моря и прозаическую суровость повседневного труда ради хлеба насущного. Только беззаветно любя свою работу, можно было чувствовать себя вознагражденным за такое терпение. Джим не получал этой награды. Однако и вернуться он не мог, потому что нет ничего более заманчивого и порабощающего, чем морская жизнь. К тому же перед ним открывались неплохие перспективы. Он был благовоспитан, спокоен, дисциплинирован и хорошо знал свои обязанности. Еще очень молодым его назначили старшим помощником на отличное судно. Ему даже не пришлось пройти на море через те испытания, которые позволяют отчетливо увидеть, чего мужчина стоит: каковы пределы его самообладания, из какой материи он сшит, чему и насколько упорно способен сопротивляться, – испытания, которые показывают не только окружающим, но и ему самому скрытую правду его натуры.
За все это время Джиму только однажды довелось мельком увидеть сколько-нибудь серьезный гнев природы. Ее подлинный темперамент проявляется не так часто, как думают некоторые люди. Шторм имеет множество обличий, и лишь иногда на лице фактов появляется зловещая печать жестокого намерения – неопределимое нечто, заставляющее человека чувствовать и думать, будто за неблагоприятным стечением обстоятельств или яростью стихии кроется не простая случайность, а злой умысел некоей непреодолимой и беспощадной силы, которая хочет вырвать у него, человека, и надежду, и страх, и боль усталости, и жажду покоя, то есть растоптать, сокрушить, уничтожить все, что он видел, знал, любил или не любил, все дорогое и необходимое ему: солнечный свет, воспоминания, будущее… Иными словами, эта сила хочет начисто удалить из поля его зрения весь драгоценный мир простым и ужасным способом – отняв жизнь.
В начале той недели, о которой капитан-шотландец впоследствии говаривал: «Черт подери! И как мы только не отправились на дно!» – на Джима упала мачта, и он много дней пролежал на спине, почти обездвиженный, в беспамятстве, отчаянии и таких муках, будто его опустили на самое дно пропасти смятения. О том, чем все это закончится, он не думал и в минуты просветления переоценивал свое безразличие. Опасность, когда ее не видишь, бывает такой же смутной, как несовершенство человеческой мысли. Страх превращается в тень, и не получающее подпитки воображение, враг людей, отец всех ужасов, погружается во мглу истощенных эмоций. Джим ничего не видел, кроме своей каюты, пришедшей в беспорядок от постоянной тряски. Он лежал покалеченный, а кругом творилось маленькое светопреставление, и в глубине души он радовался, что не может выйти на палубу. Правда, иногда его физически сковывал приступ нестерпимой душевной боли: задыхаясь, он извивался под одеялом, а потом неразумная грубость существования, беззащитного перед агонией таких ощущений, наполняла его отчаянным желанием спастись любой ценой.
Через несколько дней погода наладилась. В ближайшем восточном порту, куда прибыло судно, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Выздоровление шло небыстро, и корабль отплыл без него.
В палате для белых мужчин было, кроме Джима, еще двое пациентов: эконом канонерской лодки, который сломал ногу, упав в люк, и железнодорожный подрядчик из соседней провинции, которого поразила загадочная тропическая болезнь. Он держал доктора за осла и тайно злоупотреблял лекарством, контрабандно приносимым ему преданным слугой-тамилом. Товарищи по несчастью рассказывали друг другу о себе, понемножку играли в карты или, зевая, просто валялись целыми днями в пижаме, не говоря ни слова. Больница стояла на холме. Легкий бриз, проникавший в пустую комнату через вечно распахнутые окна, приносил ее обитателям немного мягкости неба, томности земли и завораживающего дыхания восточного моря. В воздухе витали ароматы, навевающие мысли о беспредельном покое и дарящие нескончаемые грезы. Каждый день Джим глядел поверх густой зелени садов, поверх городских крыш и прибрежных пальм на рейд – ворота Востока. Водная гладь в гирляндах островков освещалась торжествующим солнцем, корабли казались игрушечными.
Как только смог ходить, не опираясь на трость, Джим вышел в город в поисках какой-нибудь возможности вернуться домой. В тот момент оказии не предвиделось. Пришлось ждать. В порту Джим, что неудивительно, стал знакомиться с людьми своей профессии. Оказалось, есть два сорта моряков. Одни (их мало, и встречаются они редко) хранят в себе неисчерпаемую энергию и ведут загадочное существование. У них темперамент пиратов и глаза мечтателей. Они живут в безумной суматохе планов, надежд, опасностей и предприятий за пределами цивилизации, в темных закоулках моря. Смерть – единственное событие их необыкновенного пути, обладающее рациональными признаками безусловного достижения. Вторая разновидность, большинство, – это люди, попавшие на Восток по воле случая (как и сам Джим) и теперь не желавшие возвращаться в родные края, поскольку дома, на севере, условия тяжелее, представления о долге строже, моря суровее. Полюбив вечный мир восточного неба и восточной земли, моряки этого сорта привыкли к коротким рейсам, удобным креслам на палубах, большим командам, состоящим из азиатов, и привилегированному положению белого человека. Содрогаясь при мысли о тяжелой работе, они наслаждаются ненадежной легкостью своей жизни. Всегда на грани увольнения и на пороге нового найма, такой моряк готов служить китайцам, арабам, полукровкам – да хоть самому дьяволу, если тот не будет его слишком утруждать, – и без конца разглагольствует о поворотах фортуны: дескать, такой-то получил командование кораблем на китайском побережье (не работа, а сплошное удовольствие), такой-то удачно устроился где-то в Японии, такой-то – на сиамском флоте. В людях подобного сорта, в их речах, поступках, внешности и характере ощущалась размягченность, гнильца, порожденная упорным желанием прожить жизнь легко.
Поначалу Джиму казалось, что эта толпа сплетников – такие же моряки, как тень – надежная материя. Но со временем он поддался своеобразному очарованию людей, умеющих выглядеть так, будто им хорошо живется на столь скудном пайке опасности и труда. К его первоначальному презрению по отношению к ним постепенно прибавилось другое чувство, и внезапно он сам, отказавшись от возвращения на север, принял должность старшего помощника капитана «Патны».
Так назывался местный пароход – древний, как камень, тощий, как борзая, и изъеденный ржавчиной, как железная бочка, отслужившая свой век. Владельцем судна был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец-ренегат, променявший свою родину на Новый Южный Уэльс[5] и никогда не упускавший возможности публично выругать ее. При этом он, очевидно, подражал победоносной бисмарковской политике «крови и железа», тираня всех, кого не боялся. Лиловый нос и рыжие усы придавали его виду пущую воинственность.
Когда «Патна», выкрашенная снаружи и побеленная изнутри, встала, дымя, у деревянной пристани, на ее борт взошли паломники – человек восемьсот (чуть больше или чуть меньше). Они втекли на борт по трем трапам, подгоняемые верой в Бога и надеждой на рай, слитно топоча и шаркая босыми ногами, но кроме того не издавая ни звука и не оглядываясь. Протиснувшись между узкими перилами, толпа разлилась по всей палубе, от носа до кормы, затекла в разверстые пасти люков и наполнила внутренности корабля, как вода, безмолвно поднимаясь, наполняет резервуар до краев, заходя в каждый уголок, в каждую трещину. Восемьсот мужчин и женщин с севера, юга и окраин Востока собрались здесь, привезя с собою веру и надежды, привязанности и воспоминания. Эти люди пробирались сквозь джунгли, спускались по рекам, шли по мелководью на своих проа[6], переплывали на маленьких каноэ с острова на остров, терпели страдания, видели незнакомые картины, подвергались незнакомым страхам – и все ради одной цели. Среди паломников были обитатели забытых лесных хижин, густонаселенных кампонгов[7], рыбацких поселков. Повинуясь зову идеи, они оставили свои дома, богатые или бедные, вышли из-под защиты своих правителей, покинули места, знакомые с юности, и могилы отцов и явились – в пыли, в поту, в саже, в лохмотьях. Среди тех, кто поднялся на борт, были и сильные мужчины, главы семейств, и худощавые старцы, которые тратили на это путешествие последние силы, не надеясь вернуться, и юноши, чьи бесстрашные глаза смотрели с любопытством, и застенчивые девочки с длинными спутанными волосами, и женщины, пугливо прижимавшие к груди младенцев (завернутые в свободные концы засаленных материнских платков, эти паломники спали, не сознавая своего паломничества).
– Только посмотрите на эт-тот скот, – с немецким акцентом сказал шкипер своему новому помощнику.
Араб, возглавлявший благочестивую толпу, поднялся на борт последним – красивый и важный, в белом длиннополом одеянии, с большим тюрбаном на голове. Слуги, тянувшиеся за ним вереницей, внесли его багаж. «Патна» отшвартовалась и, пятясь, отошла от причала.