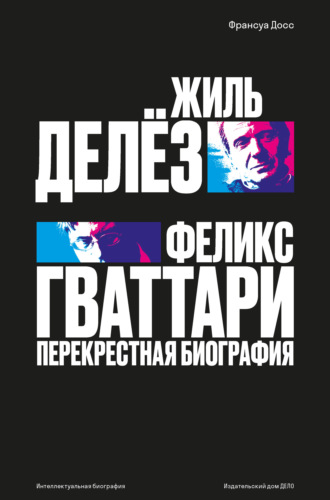
Полная версия
Жиль Делёз и Феликс Гваттари. Перекрестная биография
Осенью 1956 года, когда советские войска вошли в Венгрию, потребность в критике внутри коммунистического движения начинает ощущаться еще сильнее. Группа Tribune de discussion сближается с другим небольшим кружком интеллектуалов-коммунистов, издававших бюллетень «Искра» (L’Étincelle). Среди них есть несколько известных интеллектуалов: философ Виктор Ледюк, Жан-Поль Вернан, Ив Кашен (племянник основателя Французской компартии Марселя Кашена), Жан Брюа, Анатоль Копп, а также очень активное ядро во главе с Жераром Спитзером, активно работающее в 11-м округе Парижа. Спитзер вступил в организацию «Вольные стрелки и партизаны» в 1943 году, когда ему было 15 лет, и состоит во Французской компартии со времени Освобождения. Их всех объединяет радикальная критика сталинизма и Французской компартии за недостаточно активную борьбу против войны в Алжире. В частности, они изобличают закон о специальных полномочиях. 12 марта 1956 года генеральный секретарь Французской секции рабочего Интернационала Ги Молле, ставший президентом Совета после успеха социалистов на парламентских выборах, решает провести голосование по проекту закона о «специальных полномочиях» армии, который предоставляет ей большую свободу действий. За этот закон проголосовало большинство парламентских фракций, в том числе коммунисты. На заводе Hispano мгновенно вспыхивают протесты против решения отправлять призывников на войну в Алжире. Первая демонстрация протеста была организована Раймоном Пети, Роже Панаже, Раймоном Левилдье и Бриветт Бюканан и закончилась стычками с силами правопорядка в Буа-Коломб, наутро попав на первую полосу L’Humanité. Ассоциация двух групп продлилась недолго, поскольку аппарат Французской коммунистической партии быстро разоблачил ее как троцкистскую группировку. Большинство членов L’Étincelle испугались и вернулись в ряды компартии, кроме группы Спитзера (Симон Блюменталь, Поль Кальвес), которая продолжила деятельность вместе с бывшими членами Tribune de discussion.
Из этой перегруппировки сил вырастает новое ротапринтное издание, Bulletin de l’opposition, переименованное в январе 1958 года в La Voie communiste. Дени Берже, член бюро PCI, борется с Пьером Франком, чтобы заставить его признать эту объединенную газету и чтобы та была не просто внутренним органом, но и продавалась в киосках. Но ему не удается убедить руководство PCI: «Меня исключили. Я состоял в партии с 1950 года»[121]. Раймон Пети и Гваттари решают выйти из партии. Вместе с La Voie communiste на периферии троцкизма появилось не просто издание, но небольшая организация. Его первый номер ставит вопрос: «Кто мы такие? Чего хотим? Ответ: «Найти коммунистический путь для нашей страны»[122]. Для La Voie communiste, рожденной в самый разгар протестов против войны в Алжире, до 1962 года это будет главное поле борьбы: «Сначала Алжир!»[123] – провозглашается в третьем номере газеты, когда алжирский кризис потрясает основы Четвертой республики.
Руководящее ядро собирается раз в неделю. Гваттари активно пишет статьи в газету под псевдонимом Клод Арьё. В феврале 1961 года он вместе с Клодом Девилем и Жаном Лабром берет интервью у Сартра[124], и в начале 1960-х годов намеревается критически исследовать эволюцию Французской компартии. Он посвящает много материалов подготовке и проведению XVI съезда, который выступил против верности сталинизму. В газете много говорится о группе Hispano, но она фигурирует под именем «Группа Симка» (Simca), чтобы не афишировать подрывную работу против сталинистского аппарата. Гваттари обеспечивает выживание издания, поскольку большая часть финансирования поступает из руководимой им клиники Ла Борд[125]. В атмосфере мобилизации против войны в Алжире La Voie communiste очень быстро заручилась множеством важных контактов, около двухсот или трехсот: «Это соответствовало тому, как Феликс понимал работу. Людей приводят не на программу, с ними работают. Деятельность, которой он занимался в Ла Борд, напрямую ему помогла, и он начал осмыслять ее теоретически»[126]. Речь шла о том, чтобы создать не сектантскую группу или классическую партию, а организацию, построенную по модели «Молодежной группы Hispano».
Трое руководителей La Voie communiste, Дени Берже, Жерар Спитзер и Роже Рей, занимаются подпольной работой, обеспечивая поддержку борьбе за независимость Алжира. Как главный редактор издания, Спитзер в конце 1959 года был обвинен в посягательстве на государственную безопасность. 27 февраля он объявил в тюрьме голодовку и продолжал ее до 20 марта 1960 года. Его освободят только 18 месяцев спустя в результате широкой кампании в его поддержку, устроенной газетой, где был образован комитет под председательством Эли Блонкура[127]. Дени Берже, в свою очередь, специализируется на организации побегов. Когда 5 декабря 1958 года его задержало Управление по территориальной безопасности, он просидел в тюрьме десять дней – именно там он узнал о своем исключении из PCI. Позднее, в феврале 1961 года, ему удается организовать побег шести женщин, принадлежавших к сети помощи Фронта национального освобождения, из парижской тюрьмы Ла-Рокет. В период с 1958 года по февраль 1965-го La Voie communiste выпустила 49 номеров, получив довольно широкую аудиторию для издания, не пользующегося никакой институциональной поддержкой. La Voie communiste сразу же поддержала «Манифест 121 о праве на неподчинение во время войны в Алжире»; как только он вышел, ее тираж был тут же арестован[128].
Два полюса La Voie communiste составляют Hispano (рабочие) и Сорбонна (студенты). Гваттари курсирует между двумя этими полюсами и успешно вербует Мишеля Картри, с которым он познакомился на подготовительных курсах в июне 1952 года. С первых же встреч между ними завязалась дружба. Мишель Картри вскоре оказывается рядом с Гваттари в группе компартии на философском факультете, которая собирается на улице Контрэскарп: «Феликс посвятил нас в троцкизм»[129]. Они раскладывают Tribune de discussion по почтовым ящикам своих товарищей, пишут под псевдонимами и раздражают некоторых ортодоксальных активистов партии, шокированных присутствием в их рядах предателей дела пролетариата: «На одном из собраний партийной ячейки философского факультета кто-то бросил: „Среди нас есть мерзавцы“. Это сказал один из моих лучших друзей»[130]. Однако, начав свою деятельность в Tribune de discussion, Мишель Картри ничего не знает о том, что Феликс – член троцкистской организации. Только после этого первого опыта Феликс просит его и Люсьена Себага сделать еще один шаг и вступить в IV Интернационал. В 1958 году, после того как они выступили во дворе Сорбонны на митинге против закона о специальных полномочиях, Люсьена Себага, Мишеля Картри и Филиппа Жирара исключили из Союза студентов-коммунистов (UEC).
Мишель Картри разделяет со своим другом по лицею Кондорсе Альфредом Адлером любовь к Сартру: «Я бы и босиком по снегу пошел покупать свежий номер Les Temps modernes»[131]. Сближение Сартра с коммунистами заставляет Альфреда Адлера вместе с Мишелем Картри, Пьером Кластром и Люсьеном Себагом вступить в 1953 году в компартию. Именно Гваттари побуждает Адлера дистанцироваться от Сартра, рассказав ему о текстах Лакана: «С этого момента начался мой переворот»[132]. Но Адлер по-прежнему считает себя коммунистом: «У меня разве что дома не было портрета Сталина»[133]. Перемены начинаются в 1956 году: Альфред Адлер с товарищами затевает La Voie communiste, где он также встречает будущих писателей Пьера Паше и Мишеля Бютеля, а также других студентов Сорбонны, входящих в «шайку» Гваттари. Среди известных новобранцев – брат Даниэля Кон-Бендита, Габи, который тоже учится на философском факультете в 1956 году.
Приятель Габи Кон-Бендита и Пьера Паше, Клод Вивьен – в 1956 году самый младший член группы философского факультета: «Это самая необыкновенная группа, какую я только встречал в жизни»[134]. Он участвует во всех дискуссиях и в коллективной жизни ячейки, которая в этот период обороняется в Латинском квартале от фашистских группировок, и, естественно, выходит на протестные демонстрации против войны в Алжире. Гваттари применяет к Клоду Вивьену испытанный метод, чтобы заставить его порвать со сталинизмом. Он приглашает его на выходные в Ла Борд: «Это важнейшее событие в моей жизни. Я встретил сумасшедших, и они не так уж отличались от меня самого»[135]. Как и многие другие, Клод Вивьен, приехав на пару дней, поселяется в Ла Борд, где будет работать смотрителем, продолжая учебу на философском факультете и политическую деятельность. Он участвует в оппозиционной работе вместе с Tribune de discussion. Феликс дает ему почитать Троцкого и побуждает вступить в IV Интернационал. Когда в 1956 году Французская коммунистическая партия распустила ячейку философского факультета и создала UEC, он был секретарем распущенной ячейки. Вивьен вступает в La Voie communiste вместе с Гваттари, Жераром Спитзером, которого он глубоко уважает[136], с Дени Берже и будущим адвокатом Симоном Блюменталем.
До 1962 года La Voie communiste выступает эффективным рычагом в борьбе против преступлений, совершаемых в колониальной войне в Алжире, но после заключения Эвианских соглашений наступает время застоя. Кое-какие всплески политической активности еще случаются: в помещении на улице Жоффруа-Сент-Илер собирается Революционная социалистическая партия Алжира под руководством Мухаммеда Будиафа, поддерживающего контакты с La Voie communiste; Гваттари считает себя близким к нему[137]. Но очень скоро начинается распад, а затем в 1965 году группа исчезает. Нужно сказать, что некоторые переключились на маоизм под влиянием Симона Блюменталя и Бенни Леви, тогда как другие поют осанны первому президенту Алжира Ахмеду бен Белле. В 1961 году в La Voie communiste можно прочесть тезисы китайских коммунистов о «мирном сосуществовании»[138], но по-настоящему маоистскую окраску газета начинает принимать уже после войны в Алжире в 1963 году. Так, она публикует политическую программу из 25 пунктов, представленную руководством Компартии Китая[139].
Такая эволюция не нравится Гваттари. В своих статьях 1964 года он занимается критическим изучением советского режима и, чувствуя, что все больше отдаляется от политической ориентации газеты, в итоге резко рвет с ней: «Я вдруг разом со всеми разорвал. В 1964-м мне все это надоело»[140]. Этого ему не простят, особенно Жерар Спитзер, упрекавший Гваттари в том, что тот перекрыл финансирование La Voie communiste. Так будет и в дальнейшем: как только Гваттари чувствует, что институция начинает работать вхолостую, живя за счет своего накопленного культурного капитала, он будет без колебаний играть на опережение и разрушать ее, чтобы найти новые возможности в другом месте. В 1964 году свежую струю сулит студенческое движение, переживающее радикализацию.
Феликс: лаканианец первого призыва
В 1950-е годы, помимо репутации политического активиста, Гваттари становится известен и как специалист по Лакану. В Сорбонне он вызывает живейший интерес, так как известно, что у него можно взять почитать неопубликованные тексты Лакана. Он пользуется уважением как теоретик, способный представить новичкам эту темную теорию и в то же время имеющий реальную практику в мире безумия, руководя клиникой в Ла Борд: «В Сорбонне в то время меня назвали „Лаканом“. Я всех им доставал»[141].
В этом отношении знакомство Гваттари с Жаном Ури было судьбоносным событием. В 1945 году, по воспоминаниям, совсем еще юный Феликс, которому не было и пятнадцати, учился у Фернана Ури, часто устраивавшего встречи на молодежных турбазах. Именно в такой обстановке брат Фернана Жан, которому исполнился 21 год, знакомится с Феликсом в Ла-Гаренн-Коломб, где они оба живут. Когда Жан Ури уезжает в Сент-Альбан, знакомство с Феликсом на время прерывается. Фернан, в свою очередь, несколько обескуражен душевным разбродом, в котором пребывает Феликс, и в декабре 1950 года советует тому обратиться к его брату-психиатру. Жан тогда работал в клинике Сомери в департаменте Луар и Шер: «Фернан сказал мне тогда: „Только смотри не разбей его на кусочки“. Но я для этого ему был совершенно не нужен, он с этим и сам прекрасно справлялся»[142]. В этот период Гваттари изучает фармацевтику, которая наводит на него страшную тоску, зато психиатрия, которой занимается Ури, его совершенно захватывает.
В декабре 1950 года Жан Ури настоятельно советует ему почитать Лакана и даже просит держать его самого, Ури, в курсе его последних исследований, поскольку из-за загруженности работой в клинике он не может ездить на лекции в Париж. Жан Ури старше Феликса Гваттари на шесть лет и играет для него роль наставника, нового заместителя отсутствующей отцовской фигуры. В 1952 году Гваттари описывает в дневнике то, что он называет «Линией ЖУ» (Жан Ури): «Никакой защиты, всё допускать, пока нет конкретных травм (ударов и ран). Для этого нужны молчание и слабая эмоциональность. Быть проще»[143]. В 26 лет Жан Ури уже психиатр-экспериментатор. Из их бесконечных разговоров рождаются некоторые советы по профессиональной ориентации. Жан поддерживает желание Феликса бросить фармацевтику и пойти учиться на философский факультет. Он советует ему, что почитать: помимо Лакана – Сартра, Мерло-Понти. Это говорит о том, какую важную роль Жан Ури сыграл в жизни Гваттари и насколько важны были их отношения. В значительной мере это объясняет, как удалось образовать столь устойчивую «двухголовую» машину, позднее составленную ими в Ла Борд, на долю которой выпадет немало испытаний. Гваттари на мопеде мотается из Парижа в клинику Жана Ури в Сомери и обратно: «Мы спорили целыми ночами, у споров был живописный аспект в виде тестов Роршаха. Придумывали конкретную музыку, записывали пение птиц или играли в игру, которую теперь называют „мята с водой“: берешь объекты и составляешь о них фразы, чтобы создать новый синтаксис»[144].
Благодаря Ури Гваттари также гораздо раньше остальных интеллектуалов открывает тексты Лакана о «стадии зеркала», «агрессивности» и семье. Они производят на него такое сильное впечатление, что он почти заучивает их наизусть и в 1951–1952 годах декламирует их любому желающему. В 1953 году Гваттари присутствует в Коллеже философии на улице Ренн на лекции Лакана о Гёте. Этот человек его мгновенно очаровывает. В 1954 году Лакан приглашает его на свой семинар в больнице Святой Анны. Народу там еще очень мало: «Я был первым человеком, который не был психиатром или врачом»[145], присутствовавшим на этом семинаре, который пока еще не вошел в моду в Париже. В этот же период Гваттари открывает область, которую будет позднее изучать с особой интенсивностью, – область языка. 1953 год – это также год знаменитой Римской речи, в которой Лакан заявил о победе лингвистических методов в психоанализе. Но Лакан не единственный, кто вводит его в эту сферу: «Впервые я задаюсь проблемой языка. Для меня она стала вопросом, начиная с Лакана и его филиппик против Блонделя. Начиная с Изара и его беззаветной любви к поэзии. Начиная с Рудана, которому я объяснил, что только сейчас начинаю понимать его проект. Нет мышления без воплощения в языке»[146].
Наряду с интересом к тому, как функционирует язык, в период моды на лингвистику у него также возникает желание выразить себя, писать, которое станет повторяющейся темой, преследующей его всю его жизнь. 1 сентября 1953 года он записывает в дневнике заглавными буквами: «ХОЧУ НАПИСАТЬ КНИГУ», – а в конце месяца задается вопросом, что это могла бы быть за книга:
Писать! Я хочу писать. Это становится жгучей потребностью. Но что писать? Может быть, сначала о моих проблемах с письмом. Мог бы я писать философскую литературу? Например, написать о смерти? Но я ничего не читал. И так всегда – я ничего ни о чем не читал. Воспоминания детства? Но они не приходят по указке. Над ними нужно работать. ВЫКОПАТЬ первую яму. Это предполагает поэтическое углубление ситуации. Если исключить поэзию и философию, остается выбор между романом и дневником. Первый меня пугает, второй наводит скуку. Нельзя ли писать изо дня в день роман обо мне, Мишлин, ЖУ. «Идеальная девушка» и т. п.? Что-то, в чем бы передались и кристаллизировались мои увлечения. Написать книгу – великий миф моей юности[147].
Гваттари тогда говорил на «лакановском языке». Он пишет своему гуру, тот отвечает и приглашает его на встречи, дискуссии. Наконец, Гваттари ложится к нему на кушетку, опередив весь Ла Борд, платит по 50 франков за сеанс, немалую сумму по тем временам. Переубедив Клода Вивьена и устроив его в Ла Борд, он в 1956 году приводит его на семинар в больницу Святой Анны: «Там я по-настоящему впечатлился, потому что услышал человека, резко отличавшегося от известных мне профессоров Сорбонны, которые были не последние люди: Владимир Янкелевич, Жан Валь, Фердинан Алкье. Я был совершенно покорен, и Феликс отправил меня на анализ к Лакану»[148]. В 1954 году почти вся интеллектуальная деятельность Гваттари сосредоточена вокруг Лакана: «Философ ли я? Или я только студент философского факультета? Моя деятельность в последнее время носят на себе лишь один философский отпечаток: лекции Лакана»[149].
В его записях появляется тема, которую Гваттари систематизирует только позднее, но которая встречается в лекциях Лакана уже в конце 1954 – начале 1955 года, понятие машины: «Субъект как индивид-машина имеет бессознательные проявления, которые могут быть конкретизированы только при помощи специального лечения»[150]; «Декарт: машина – это часовой механизм. Эти машины в фундаментальном отношении очень человечны (Арагон восхваляет часы)…»[151]; «Если машина инкорпорирует деградировавшие формы знания, например, демона Максвелла, она сотворит чудо. Это поможет обратить вспять энтропию»[152]. Машинная тематика, противопоставляемая структуре, позднее станет одной из любимых у Гваттари, а затем и у «пары» Делёз – Гваттар[153].
Глава 2
Ла Борд: между мифом и реальностью
Легендарный замок Ла Борд дал приют особой психиатрической клинике, в которой с безумием обращались совсем не так, как в других местах. Со временем Ла Борд превратилась в осуществившуюся утопию: движение снова и снова испытывает в ней себя. Брешь, пробитая в традиции отгораживания от мира безумия, эксперимент, который проводится в самом сердце региона Солонь, в департаменте Луар и Шер, словно восстанавливает связи с другими, доклиническими способами общения с сумасшедшими, существовавшими, когда не проводилось различия между безумцами и нормальными людьми, между нормой и патологией. В то же время этот опыт не отрицает необходимости применения лекарственных препаратов для лечения психотического бреда.
Совершенно отдельный мир, корабль Ла Борд пускается в плавание на просторах обширного парка площадью 18 гектаров, в центре которого возвышается столетний замок, где в начале этой авантюры разместилась клиника с ее кабинетами, кухней, гостиными, процедурной, бельевой и спальнями на этажах. Вокруг замка располагается несколько павильонов, также входящих в его орбиту. Чуть в стороне теплица, огород, а еще дальше в лесу – конюшня с манежем, курятник, свинарник. Рядом с замком стоит столетний кедр, который позднее уничтожит гроза, а еще дальше обширное болото напоминает о том, что дело происходит в Солони. Поблизости есть зал на сто человек и небольшая часовня, переделанная в библиотеку. Именно здесь, в коммуне Кур-Шеверни, в регионе Центр, неподалеку от Шамбора и в 15 километрах от Блуа, обрел форму этот коллективный опыт, направленный на то, чтобы переделать мир, при этом держась в стороне от его потрясений[154].
Преемственность с институциональной психотерапией
У истоков этого особого мира стоит закон первой половины XIX века, определивший в 1838 году статус «публичных учреждений для душевнобольных». Его можно рассматривать в качестве ключевого элемента политики, которая приведет к заточению душевнобольных и предоставит неограниченную власть психиатрам. Но в то же время его можно счесть формой защиты от произвола: «Закон 1838 года был законом, который при правильном применении позволял защитить человека одновременно и от семьи, и от злоупотреблений административных властей»[155].
Центр обновления психиатрии, расположенный в Сент-Альбане в Лозере и основанный в 1921 году доктором Тиссо, стоит у истоков лечебницы Ла Борд. В этой лечебнице особого типа кристаллизировалось радикальное изменение психиатрической практики после Второй мировой войны, и этому способствовало ее уединенное расположение. Для несогласных Сент-Альбан станет любимым местом, поскольку во время войны лечебница принимала в своих стенах целую сеть членов Сопротивления. Сюда приезжали активисты Сопротивления, диссиденты, среди которых были и выдающиеся интеллектуалы. После реформы Пьера Балве, приравнявшей младший медицинский персонал к врачам, произошла гуманизация всей работы лечебниц. Люсьен Боннафе, новый директор клиники, назначенный в 1942 году, коммунист и глава партизанского подполья Лозера, разрешает больным выходить за пределы лечебницы и общаться с местным населением.
Появление в 1939 году яркой личности – Франсуа Тоскейеса – пошатнуло старые обычаи. Этот каталонский психиатр был начальником психиатрической службы испанской республиканской армии. Член партии POUM (троцкистская Рабочая партия марксистского единства), он бежал из франкистской Испании, перешел Пиренеи и в итоге оказался в лагере испанских беженцев в Сетфоне. Узнав от другого каталонского психиатра, Ангелса Вивеса, что Тоскейес находится в этом лагере, Поль Балве, хорошо знакомый с репутацией этого «красного психиатра», отправляется туда и привозит его в клинику в Сент-Альбане, чтобы тот поделился своим опытом и получил возможность осуществить свои идеи.
Тоскейес начал изучать психиатрию в 16 лет. Когда испанские республиканцы должны были выступить против pronuncia-miento[156] генерала Франко, ему было 24 и он уже четыре года работал врачом-психиатром в институте Пере Мата в Реусе. Он рано принял участие в новаторских экспериментах Государственной больницы Каталонии и там научился у профессора Миры-и-Лопеса оригинальной организации здравоохранения, вдохновленной немецкой психиатрией. Тоскейес пронес через границу книгу, для которой позднее закажет перевод на французский. Это была книга немца Германа Зимона, в которой тот рассказывал о своем пребывании в клинике Гютерсло и утверждал, что институт психиатрической лечебницы нуждается в лечении не меньше, чем больные, и что для этого необходимо поощрять трудовую деятельность и творчество всего больничного сообщества[157].
Тоскейесу с его авангардистскими взглядами подходит больница Сент-Альбана с царившей в ней во время войны атмосферой бурной интеллектуальной деятельности. Все психиатры принадлежали более или менее к одному поколению, им всем было меньше тридцати, и они хотели изобрести мир заново. Тоскейес, предложивший создать в лечебнице Сент-Альбан Клуб больных, быстро находит себя в интенсивной коллективной работе, которая приведет к созданию научного объединения Общество Жеводана: «Готовя светлое будущее, мы говорили о психиатрии, критически пересматривали основные концепции и типологию возможных действий»[158]. В 1952 году, когда дела заставили Боннафе вернуться в Париж, Тоскейес становится главным врачом лечебницы.
Общий контекст Сопротивления, оружие, сбрасываемое с самолетов, партизаны, которых прячут, связь с местным населением: все это делает Сент-Альбан открытым учреждением, которое сотрудничает с крестьянами и местными жандармами и практикует то, что в Обществе Жеводана называли «геопсихиатрией», то есть встраивает психиатрическую деятельность в местные традиции. Поскольку дело происходит в горах, принято посещать больных и вести медицинское наблюдение после выписки на дому.
У лечебницы были настолько тесные отношения с Сопротивлением, что набор медицинского персонала производился исходя из интересов местной подпольной сети. Этой деятельностью руководит директор Люсьен Боннафе. Он принимает Поля Элюара, который устраивает в Сент-Альбане подпольную типографию, а также важных координаторов Сопротивления, таких как Жорж Садуль или Гастон Бэссетт. Он встречается с философом Жоржем Кангилемом, который учился курсом младше него на медицинском факультете в Тулузе и на тот момент был помощником комиссара Республики в Клермон-Ферране: «Все это сыграло очень важную роль в истории Сент-Альбана: его связь с войной, со всевозможными движениями, возникшими во время войны: местное Сопротивление, партизаны Оверни, гора Муше, интеллектуальное сопротивление, подпольная типография»[159]. Этот опыт сыграет важнейшую роль, когда откроется Ла Борд. По мнению Жана Ури, он стал «горнилом», «матрицей»[160].
Сразу после войны множество юных интернов выбирают Сент-Альбан. В сентябре 1947 года туда приезжает Жан Ури вместе с новым поколением, которому предстоит профессионально сформироваться в этой школе[161]. Он сразу устанавливает контакт с Тоскейесом. У Ури есть проект, придуманный им еще в 18 лет, в 1942 году: создать коллективную рабочую группу анархистского толка. Как и на Гваттари, на него сильное влияние оказал опыт жизни в пригороде Ла-Гаренн-Коломб, сеть турбаз для юношества, молодежные движения, активизировавшиеся после Освобождения. Жан Ури родился в 1924 году, он выходец из народа: его отец работал полировщиком на заводе Hispano-Suiza, крупном и престижном предприятии в Ла-Гаренн-Коломб.




