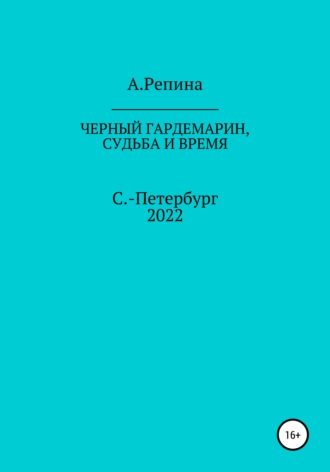
Полная версия
Черный гардемарин, судьба и время
«Многие лета, многие лета», – басами затянули победители…
Потом говорили о том, что футбол великое дело: объединяет сословия и способствует облагораживанию нравов. Еще недавно городу не было дела до погибающей в душных, грязных улицах столицы учащейся молодежи. Однако новый городской глава граф Толстой вызвался помочь молодым спортсменам. Глава принял депутацию, которую возглавил наш чех Вейвода. Городской думой для спортивных занятий выделено поле Петровского парка. Следующий сезон василеостровцы будут играть с петровцами (сейчас петровцы делят с нами плац) не в пыльном песке Кадетской линии, а в зелени окраины.
Произнесенные здравицы, однако, нисколько не подняли настроение Алоиза Вейводы.
«Плохо, все очень плохо, – сказал нам чех, когда духовные ушли. – Вы слышали, что наши футболисты не едут на Балтийские игры в Мальме?».
«Как не едут?».
«Так. Россию будет представлять Москва. Москва в июне одна выставляет сборную на матч с Германией».
Как? Почему?
Вейвода нам – о неких интригах в Российском футбольном союзе.
Всем известно: у Питера давние трения с москвичами, но чтобы так бесцеремонно оттереть?! При том, что слабые москвичи наверняка продуют мощным немцам?! У нас голкипер Борейша, у нас корнер Шюман, хавбек Штиглиц – лучшие русские игроки! Петербург учился у родоначальников футбола англичан, а в Москве даже правил толком не знают. У москвичей ни натиска, ни глазомера; а наши показывают такую быстроту и такие удары; и т.д., и т.п.
Вейвода продолжает перечень бед: более того, Петербург не пустили и на 2-ю русскую Олимпиаду. В июле в Риге разыгрывать будут только Москва, Ревель и Рига. Одесса и Киев, солидарные с Петербургом, свои команды не записали. Нашему возмущению нет предела.
«Чаша терпения спортивных нетактичностей переполнена! И переполнили ее москвичи! – горячится Вейвода, – пришло время сзывать съезд Российского футбольного союза».
Мы прощаемся с Вейводой на лето – за событиями будем следить со стороны.
«Господа, – напоминает чех, – на каникулах просьба не нарушать циркуляр Лиги футбола. Если кто-либо намерен играть в диких командах, хотя бы и дачных, берите открепительный талон. Никакие отговорки незнанием правил впредь не будут приниматься».
Перед отъездом мы с Жондецким 2-м берем талоны на себя и на Гаврилова, который уже уехал в имение к отцу. Жондюша на прошлых летних каникулах играл в «Левашово» – сборной команде всех дачных местностей по Финляндской железной дороге. Этим летом он едет в отеческое село в Великих Луках, где никогда прежде не был. Понятно, волнуется: как его примут? будет ли там футбол?
Кто ж мог предвидеть, что вскоре всем будет не до футбола, а наш матч с командой духовной академии станет последним в календарях С.-Петербурга.
Почтовый день в Кравотыни
В Петербурге лето 1914-го года было холодное, весь июнь и июль не более 12 градусов. Cелигер радовал привычным теплом, порой переходящим в жару.
Как я уже упоминал, вторник в селе Кравотыни – почтовый день. Служащий почты, разморенный июньским зноем, сопровождает выдачу писем тирадой, обращенной к сонму жужжащих под потолком мух:
«Вот. Дачники. Молодежь. Гимназисты и гимназистки. Кадеты. Семинаристы. Усиленно пользуются казенным учреждением для личных романических целей. Обременяют почтовое ведомство любовной перепиской. Я благонадежный гражданин. Честный семьянин. Содействую падению нравов. Следующий!».
Всем нам вместе письма от папы (он в это лето неотлучно на службе на заводе, так как среди рабочих столицы беспорядки). Открытки сестре Татьяне и племяннице Дуне от подруг; письма мне; газеты и заказанные мамой книжки иллюстрированных журналов – вторую половину дня мы погружены в чтение.
Мама листает столичные газеты: кошмар, в Петербурге холод и дожди, беспорядки на Выборгской стороне, в Лесном хулиганы рабочие даже опрокинули наземь все телеграфные столбы; 10-летний юбилей карьеры Распутина и покушение на старца… Дуня перенимает у нее газету с Чеховым: 10 лет со дня смерти писателя сумерек русской жизни… Слух о смерти Распутина не подтвердился…
Сплошь сумерки.
«Дуня, глянь лучше новую женскую моду в Берлине, – говорит мама, перешедшая на иллюстрированные журналы. – Пишут, ввиду сильной жары нынешнего года в Берлине вошло в моду не только среди мужчин, но и среди женщин ходить на улицах без шляп. А в Петербурге всего 12 градусов! Что с погодой? Пишут, климатический кавардак».
Не дослушав о модах Берлина, забираюсь на чердак. Мурка, «дражайшая Муренция», пишет мне регулярно и у нас установился особый, фатовской тон переписки. Люля на письма скупа, Мурка изводит намеками, связанными с дождями: де, из-за непогоды в Луге вынуждены сидеть целыми днями в доме и играть в винт. Интересно, с кем они там вчетвером винтуют?
Пишу своим товарищам по корпусу, Горилле и Жондюше: «Дачную команду не сколотили. Здесь учащуюся молодежь, среди которой преобладают москвичи, интересуют только танцульки, а не футбол. Играть не с кем. Тренируемся с моим товарищем, Верзиным. Укрепляем ноги, поясницу и мышцы шеи, это очень пригодится при игре головой».
Танцульки и прочий дачный флирт в селе прямо на улице, на плацу перед Введенской церковью. Кадеты и гимназисты, млеющие по вторникам над письмами от «Ней», в прочие дни недели по вечерам шепчут фривольности в ухо босым деревенским барышням. Безмятежное лето!
Балтийские игры
Другой, уже июльский, почтовый день приносит известие из шведского города Мальме, с Балтийских игр: немцы вздули москвичей! Результат матча 7:0. Матч «Россия–Германия» обернулся тем, что слабые москвичи играли против кильской команды «Голштейн» – одной из самых сильных немецких команд.
Из-за этого мы в пух и прах переругались с Верзиным.
Наш с Дуней упрек: кто дал москвичам представлять Россию? Хоть бы один гол со стороны москвичей! Позорное поражение: новая Цусима под флагом России! Москвичи, как заведено, говорят о необъективности судейских. Винят противника в бесцеремонной игре: де, немцы грубо работают ногами. Еще б винили небесную канцелярию!
На десятые числа июля намечено собрание Российского футбольного союза по этому поводу; мы ждем результат, а до той поры не прекращаем дискуссий с Верзиным.
Верзин оправдывается тем, что москвичи выигрывают сейчас на 2-й русской Олимпиаде в Риге. Смехотворный довод! Петербург, Одесса и Киев свои команды на Олимпиаду не записали; разыгрывают только Москва, Ревель и Рига; а Рига и Ревель, вследствие правила об игроках иностранного подданства, выставили на Олимпиаду довольно слабые команды, без немцев. Выигрыши Москвы несерьезны; еще б хвалились москвичи победами над дикими дачными командами!
Кравотынь волнуется и негодует. Из-за проигрыша Москвы на Балтийских играх дачники-петербуржцы перессорились с дачниками-москвичами. Даже в церкви слышишь: «ваши ботинки» и «ваши сапоги» – «сапогами», как известно, называют питерских спортсменов, которые по кадетской традиции играют в строевых сапогах.
Из-за трений по поводу Балтийских игр и 2-й русской Олимпиады мы даже отменили совместные с Верзиным тренировки. И я увлекся ловлей рыбы на удочку вместе с Лешкой – моим восьмилетним племянником. Как-то пошли на раннюю утреннюю рыбалку, но вскоре вынуждены были ее прекратить из-за неслыханной картины.
Ближе к 6 ч.утра нас заставил вздрогнуть резкий свисток парохода. Мы переглянулись: рановато для объезда селений «по требованию». Прошли считанные минуты и звуки со стороны Кравотынского плеса заставили уже не удивиться, а встревожиться. Свисток за свистком, а за ними набат с колокольни, которым сигналят о пожаре.
Что такое? Если пожар, отчего свистки парохода? Мы смотали удочки, выбрали якоря и выгребли на прямой курс к селу. Я на веслах, Лешка на корме. Всматривается, где горит. Сообщает: «Дыма не вижу. Пароход стоит. Публика на берегу».
Ни дыма, ни огня, а нечто происходит!
Это был четверг 17 июля 1914 года: день объявления мобилизации, с которого и начался отсчет последующих бед.
День объявления мобилизации
На пристани вой баб, гомон дачной публики, никто ничего не понимает – все с вопросами к уряднику Нарбуту: «Василий Федорович! Господин урядник! Отец родной, объясни!» – слышится со всех сторон. Урядник и сам в крик, осаживает молодую бабенку с орущим младенцем на руках: «Да унеси ты его! Никаких нервов не хватит слушать ваши вопли!».
Мама и девочки тоже на берегу; наперебой рассказывают: односельчане были созваны набатом; вначале думали пожар, сбежались по обыкновению к пожарной дружине; у дружины уже стояли урядник и волостной начальник; объявили мобилизацию в 1 час; пароход приплыл забрать парней призывного возраста и мужиков из запаса.
«Учения?» – переспрашиваю я.
«Нет же, нет, Поль, мобилизация! Война!».
«С кем война?».
«Сказали, с австрийцем», – кричат с одной стороны.
С другой стороны: «С немцем». По-любому, за братьев славян, сербов: австрийцы коварно перешли сербскую границу, бомбили Белград с аэропланов.
Слышу, Вася Верзин громко переспрашивает несколько раз кряду чина из уездного воинского присутствия: будут ли записывать в Сербию добровольцами?
Чин в свою очередь кричит уряднику: мол, заканчивайте; в один час уже не укладываемся; покуда все села объедем – к ночи в Осташков вернемся; посмешище, а не мобилизация!
Урядник строит мобилизованных с их чемоданами; дает команду священнику служить молебен; певчие поют громко, отчетливо, а все равно не могут перекричать усиливающийся вой баб. Молебен окончен – односельчане троекратно лобызают и крестят каждого из построенных парней и мужиков; на глазах многих слезы. Мобилизованных парней и мужиков уводят на пароход, буквально отрывая от облепивших их семейств.
Урядник обращается к оставшимся с призывом соблюдать спокойствие; дачников просит не предпринимать в ближайшие дни никаких шагов по возвращению домой: практически все вагоны направлены на мобилизацию, железные дороги будут перегружены; гужевой транспорт реквизируется для мобилизационных нужд. Господ кадет и учащуюся молодежь просят оставаться в местах отпусков и ждать последующих распоряжений: не исключено, начало учебного года будет отнесено на время окончания военной кампании.
«Да здравствует русское войско!» – коротко закончил урядник Нарбут.
Несколько дам вибрирующими голосками затянули мазурку «Гей, славяне». Кто-то из москвичей-дачников выкрикнул: «Взгреем немцев!». На что реплика со стороны петербуржцев: «Ага. Устроим им Балтийские игры. А они нам и шведский город Мальме, и японскую нам Цусиму».
На следующий день, в пятницу, мы с Верзиным поставили парусок на моей шлюпчонке и отправились в Осташков: в уездное воинское присутствие; узнавать о записи добровольцами в Сербию. Ответ в воинском присутствии дали уклончивый. Де, кампания будет недолгой: Сербия невелика, попрем врага в два счета; хватит вояк и без нас.
Спустя два почтовых дня пришло письмо от Жондецкого 2-го (он к тому времени уже вернулся в Петербург). Сообщал, из-за войны в петербургском футболе воцарился хаос. Мобилизовали в армию многих футболистов: немцев в немецкую, русских в русскую. Абсурд: корнер Коломяг немец Шюман призван воевать против своего товарища по команде голкипера Борейши!
Жондюша ходил к нашему тренеру василеостровцев, чеху Вейводе. Тот вне себя: при таких порядках футбольная жизнь Петербурга еще не скоро войдет в привычную колею. Немцев в клубах не будет, временно не будет и международных встреч; играть в осеннем сезоне будут одни русские да наши союзники – англичане. Начало матчей на осенний кубок питерской футбольной лиги 1914 года неизвестно. Скептики вообще сомневаются, состоится ли в 14-м году осенний сезон.
Позже, когда подданные держав противника стали переходить в русское подданство и менять свои имена на русские, наш чех Алоиз Вейвода, австрийский подданный, стал Алексеем Воеводиным. Футболу это не помогло: новый сезон сорвался из-за мобилизации подавляющего большинства игроков Петербургской футбольной лиги. Наш спортивный кумир, корнер Коломяг Шюман, германский подданный, попал в русский плен. Голкипер Борейша был ранен; у него как нарочно прострелили руку в правой ладони – шутили, он ловил рукой пули Шюмана. В списки раненых Борейша попал еще до начала футбольного сезона, где-то на 7-й неделе войны. На этом и завершу тему футбола.
Из Петербурга в Петроград
Поначалу войну мы считали днями: 3-й день мобилизации, 5-й, 10-й; после счет пошел неделями: 2-я неделя германского заговора против Европы, 4-я неделя, 8-я…
Мы оставили Кравотынь на 6-й неделе войны. Уезжали из Петербурга – вернулись в Петроград. На Николаевском вокзале увидели автомобили с ранеными. Как переменилась жизнь столицы, переведенной на военное положение! А что произошло с публикой! Публика в трамваях стала подозрительна; откуда-то вмиг взялись деятельные дамы, пресекающие разговоры о войне, кои могут быть растолкованы как сеющие уныние. Ведь уныние на руку противнику и фактически измена! У главного штаба стоит очередь дам за справками об убитых и раненых; длинная очередь и в здание музея императора Александра Ш – в помещении этнографического музея справочное бюро о военнопленных при Красном Кресте. Газеты сообщают, мы взяли в плен 30 000; а сколько взяли наших? Каковы потери русских? Военная тайна. В газетах белые пятна – цензура.
Гнетущая обстановка усугублена холодом. Лето в столице прошло при 12 градусах; в конце августа ранняя осень с заморозками. Холода русскому войску некстати. В корпусе собирают башлыки, шарфы, перчатки; маменьки кадет выстраиваются в очередь у нашего Церковного подъезда, где принимаются пожертвования вещами; солдат-приемщик командует барынями: «махорку, свечи клади сюда – одежу туда».
В Первом кадетском средний возраст ставит перед каникулами пьесу «О крестовом походе против турко-германцев, бусурман и тевтонов» – сочинения кадета фон Штрика.
Барышни Фиалковские на рождественских каникулах направлены от Василеостровской женской гимназии в госпиталь на Большом проспекте, пишут письма за неграмотных и малограмотных.
Люля досадует: их работа в госпитале почти бессмысленна. Диктует нижний чин письмо: «Здравствуй, дорогой родитель. Кланяюсь вам, тятя и мама, желаю от господа бога доброго здравия. Посылаю письмо на священника, чтобы он вам прочитал»; а адрес? Не понимает. Откуда ты? «Из крестьянского сословия, а хутор наш на тракте». Губерния, уезд, волость? «Я, барышня, карт не знаю. Расея огромадна. Ты начальство спроси, откуда меня призывали».
В госпитале залежи писем, которые не могут быть доставлены, с адресами на деревню дедушке: «Получить Андреяну Егоричу в руки от сына его Егора Андреяныча». Или однополчанину: «Действующая армия, подвижная гошпитель, воспитательный полк (вероятно, питательный пункт), получить драгому товарищу Макару».
В один из дней каникул мы с Гавриловым заходим за сестрами в госпиталь, у нас билеты в кинематограф. Люля сидит в палате подле койки рыжего псковича и слушает его повествование: «У острияков с собою карточки их семейств. Сам острияк, жена острийка, дети острияки. Как только мы острияка настигаем, он, трус тевтон, ложится наземь, вытаскивает из-за пазухи карточки, показывает на жену-детей, просит не губить семью и сдается в плен».
«Сам видел?» – сдерживает зевок Люля.
«Не. Сказывали. А чехов, сербов и поляков из острийских подданных немец ставит вперед, в заградотряд. А сзади идут острийские команды с пулеметами» – «Сам видел?» – «Не. Сказывали».
В палате душно; солдат-служитель недоволен: присутствие барышень мешает справлять нужды раненых.
Отправились смотреть пропагандный «Дранг нах остен» и комедию «Амур в психиатрической больнице» (на что попались билеты). Обе ленты одинаково глупые.
Провожаем барышень домой и Мурка вдруг начинает попрекать нас с Гавриловым «бездеятельностью». Мол, «все идут воевать, а вы остаетесь в Петрограде – живые, здоровые, счастливые». По ее мнению, мы обязаны бросить корпус за два года до окончания и бежать в действующую армию. Де, ученик 5-й гимназии, брат ее одноклассницы, утром вместо гимназии поехал на вокзал, сел на поезд и отправился в Варшаву, из Варшавы пешком в воинскую часть, где получил винтовку и амуницию. Его контузили, ранили, дали медаль. Единственное, вернули в Петроград под опеку родителей.
«Форменный дурак, этот брат твоей подруги! – говорит Люля. –
Добавил седых волос мамаше и едва не свел в могилу папашу. Кошмар что устроил; как они носились по вокзалам, в штаб, в полицию! Герой! Прислали назад в вагоне с арестантами».
Перемышль
Март 1915 года принес надежду на приближающееся окончание войны. Взятие Перемышля! Нашим войскам сдалась первоклассная австрийская крепость; воскресли времена Плевны! После Перемышля театром военных действий станут Силезия, Моравия, Чехия. Из Чехии, где семь миллионов чешского народа и четыре миллиона словацкого ждут освободительного появления русских войск, удобный путь по долине реки Эльбы ведет в Саксонию; оттуда прямая дорога: на Берлин! Так тогда рассуждали.
В Петрограде в день известия о взятии Перемышля публика неистовствовала, несмотря на ужасную метель. Занятия отменили; учащаяся молодежь заполнила Невский; пели гимны, кричали ура, «на Берлин!», целовались с незнакомыми курсистками. Вьюга, флаги; более я никогда не видел столь восторженной толпы. Все возбуждены, всем весело!
Идем с барышнями Фиалковскими мимо городской думы – на каланче безуспешно водружают флаги, ветер их срывает; один полетел вниз, в кого-то попал – в публике веселье! Барышни замерзли – мы отправились в кинематограф «Монтрэ» на Садовой; смотрели американские съемки военных действий в Черногории и танцоров-негров.
По Садовой вернулись на Невский – застали безумие восторга: приветствуют государыню императрицу Марью Федоровну. У ней выезд из Аничкова дворца; молодежь облепила сани со всех сторон и не пропускает. Хотели качать сани на руках; Марья Федоровна еле отговорилась и продвигалась среди толпы крайне медленно, счастливо улыбаясь всем и милостиво кланяясь…
Музей ужасов войны
Затем проходят месяцы – конца войне не видно. Из осколков впечатлений 1915 года: уже и поздняя осень. Петроград украшен флагами и ельником; учащимся дали отпуск от занятий по случаю очередной годовщины восхождения на престол государя императора.
Кадет Гаврилов, барышни Фиалковские и я шлепаем под зонтиками по лужам мимо Исаакия. Направляемся в Мариинский дворец, где открыли Музей ужасов войны. Там представлены труды чрезвычайной следственной комиссии сената для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками.
В музее картина апокалипсиса: фотографические снимки.
Скелет воина, повисший на заграждении из колючей проволоки; черный дым от сжигания груды мертвых тел на поле боя; сотни павших лошадей; британские врачи оказывают помощь немецким раненым; наши раненые, добитые штыками и ружейными прикладами; портреты нижних чинов с вырезанными языками и глазами, вытекшими из орбит от немецких газов… Европа усеяна телами убитых. Люди ХХ века сошли с ума.
Публики в музее нет. Служитель сообщает: посещают музей весьма немногочисленные любопытные, не у всех хватает нервов хладнокровно переносить ужасы германских и австрийских зверств, чинимых с нашими военнопленными.
Ко всему прочему публика притерпелась к войне, говорит служитель.
Бегство Гаврилова, фортель Мурки
Вот уже и вторая зима войны. В ноябре 1915 года кадет Гаврилов не является в корпус к началу занятий 2-й четверти. Выясняется, он отправился в действующую армию. Письмо от него приходит ближе к рождеству: Гаврилов несет службу нижним чином в 10-м Сибирском стрелковом полку.
Мурка страшно тосковала по Гаврилову! И выкинула фортель: рванула вслед за ним на театр военных действий. После уроков поехала на вокзал, поездом отправилась вначале в Гатчину. В Гатчине зашла в парикмахерскую, остригла себе волосы и здесь же их продала. На вырученное купила на рынке мужской костюм. По пути обратилась с каким-то вопросом к ремонтным рабочим – была задержана и доставлена в полицию.
Мы с Люлей с ума сходили в розысках Мурки, не потрудившейся даже оставить письмо о своих намерениях! Взяла и не явилась с уроков в гимназии домой – вместо этого села на трамвай и поехала на вокзал. Преступное безразличие к близким, гневалась Люля!
Только на второй день ее побега пришла телеграмма из Гатчины. Люлька испугалась, что Мурку отправят в Петербург в вагоне с арестантами, как это делали со всеми задержанными при побеге на фронт гимназистами и кадетами; и мы сами рванули в Гатчину.
Забирали Мурку в участке Гатчинского вокзала, под отеческое внушение пожилого полицейского чина:
«Патриотизм! Гимназисты бегут в добровольцы, девицы переодеваются в мужское платье! Бегут туда, где вы не нужны. Ради тщеславия, ради легкомыслия и жажды ощущений. Вы поступаете непатриотично, лишая свои семейства покоя! Судите сами: старшая сестра у вас скоро невеста, пойдут у ней дети. Я дочерям говорю: ухаживайте, милые, за детишками старших сестер, родине матери от этого более пользы, чем от ваших комитетов, концертов и кружечных сборов. Нет! Жертвуем в пользу. Бегут и бегут. Театр военных действий. Цирк!».
Выпуск из Первого кадетского
Май 1916 года: окончание корпуса. Последние дни «урочной системы», когда мы видим в классе преподавателей и слушаем их лекции. В заключение говорятся речи. Речи – теплые, с благодарностями, с извинениями и пожеланиями. Преподаватели тоже отвечают тепло и пространно, и мы расстаемся с самыми лучшими надеждами на близкое и далекое будущее, стараясь забыть все те мелкие шероховатости, которые неизбежно бывают в отношениях учащих и учащихся…
Последний урок окончен. Только преподаватель перешагнул порог, класс шумит. Все разбираются в книгах, сдают ненужные тетради, разговаривают об экзаменах и проч. Приходит капитан Беленков, наш отделенный воспитатель, читает аттестации и отправляет в отпуск перед экзаменами.
Ночью дома, засыпая, пробегаю в памяти прошедшее за 7 последних лет: вступительные экзамены, впечатления первого дня, знакомство с товарищами (Гаврилов!), первый отпуск в форме и первые опыты отдания чести (чуть ли не всем встречным), масса неприятностей и огорчений (Бельмо!), первая встреча с царем, и так до самого последнего дня с массою самых мелких подробностей; все радости и огорчения. Засыпаю, утомленный впечатлениями и воспоминаниями…
Экзамены сданы – встает вопрос товарищеского обеда. Обычай питомцев корпуса, традиционно не одобряемый начальством. Мы в положении преследуемых школьников, что добавляет азарта авантюре товарищеской складчины. По мнению Жондецкого 2-го, собираться надо за городом. Кто-то предлагает, по примеру ушедших на вакации депутатов государственной думы, ехать в Финляндию: предложение отклонено, выбираем ближнее Парголово. Там традиционно сдаются дачи под выпускные обеды.
Далее составление меню: самая важная часть, у нас дебаты по примеру думских. Когда меню одобрено и покупки сделаны, 15 кадет одного отделения (все молодецкого вида, 5 из них с корзинами с закусками и вином) штурмуют дачный вагон и вскоре идут по поселковой дороге бодрым маршем.
Первый тост был за здоровье Царя – да здравствует Государь; потом за присутствующих и отсутствующих товарищей (за Гаврилова); потом за долгое здравие однокашника цесаревича; потом за братскую любовь, за нас, будущих министров, полководцев и генералов; затем за готовность умереть за идею: да здравствуют Царь, Отечество и Вера! Подпили сверх меры; спать улеглись кто где.
Около 4 ч. утра просыпаемся на дерновой скамье в саду в обнимку с Жондецким 2-м; комары жалят, птицы поют.
Дюшка философствует:
«Свобода! После семи лет корпусной жизни! Репа, мы с тобой расстанемся, чтоб больше никогда не увидеться. Нет! Мы встретимся в кровавом бою, когда рука врага занесет шашку над тобою, а я отобью ее клинок. Нет! Шальная пуля убьет нас вместе!».
«Брось! Вместе не убьет».
«Почему?».
Потому что Жондецкий 2-й зачислен в Михайловское артиллерийское училище, я в Морской кадетский корпус. В одном бою встретиться практически невозможно.
Часть III
Морской кадетский корпус
Учебное плавание
В июне 1916 года, зачисленный в Морской кадетский корпус, я отправился в учебное плавание. Стояли в местечке Биорке Выборгской губернии, на южном побережье Финляндии. В Биорке познал первые стычки с матросами, будущей «красой и гордостью русской революции».
Товарищи выбрали меня артельщиком – я был огорчен: в ущерб морскому делу. В 6 ¼ побудка, в 7 молитва, чай – все идут на практические занятия, а я беру у офицера деньги под расписку и на берег за провизией; затем следить за изготовлением еды на камбузе и за корпусной прислугой; при том повара так и норовят устроить торговлю съестными припасами воспитанников! Команда относится к своим обязанностям невнимательно; чистота и порядок в кухонной посуде и в столовом белье достигаются зверскими усилиями.

