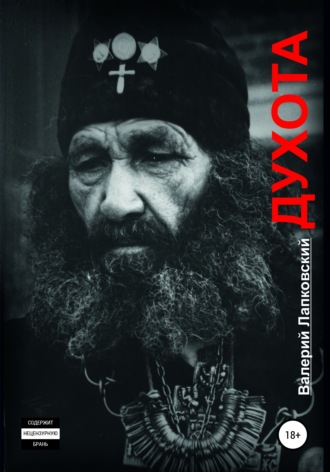 полная версия
полная версияДухота
– Что ты здесь бензином воняешь? Когда это кончится?
– Тсс! Соседи услышат, ребёнка разбудишь…
Коричневые сосцы супруги просвечивали сквозь тонкую ткань пеньюара круглыми пряниками из овса. Вокруг сосцов щетинились волоски. Жена раздражённо выстригала их ножницами или, опасаясь порезаться, убирала бритвой.
Глотая одну за другой фирменные сигареты, пилила мужа:
– Раньше думала, ты не такой, как все… Дура!.. Стихи мне читал… А сейчас?
– Перестань.
– Тебе разве меня нужно было брать в жёны? Тебе Сарру нужно было найти, Сарру, вот с такими гирляндами сисек, потную и вонючую, как ты сам! Мне из-за тебя даже ванну иной раз принять не хочется. Опустилась, как ты!
– Замолчи!
– Тянешь домой золото, хрусталь, деньги. Деньги – не всё!
– Пойди, заработай.
– У меня даже юбки приличной нет!
– Не прибедняйся… Ты хочешь, чтобы я, как Наполеон в ссылке щеголял в перелицованном мундире, а парижские модельеры гнали ему счет за ансамбли его жены?
– Корчишь из себя всезнайку, а кабы пойти, куда следует, да рассказать, чем ты занимаешься!
Весь город смеялся над ним, поскольку часовщик всем плакался, какая у него стерва, как недовольна суррогатными формами его половой активности.
Некий израэлит в публичном доме, – писал один остродум, изучая бытие и ничто, – узнав, что выбранная им проститутка оказалась хайкой, мгновенно потерял потенцию из-за личного ощущения участия в унижении богоизбранного племени. Еврей в борделе не стал бы импотентом, кабы ему досталась жена часовщика, украинка, и тем самым не оскорбила бы ни клиента, ни весь жестоковыйный народ, предоставив иудею возможность насладиться платным блудом чужестранки.
А сперва он даже мечтал (хоть и знал, что под обручальным кольцом обитает столько микробов, сколько жителей в Европе) с нею обвенчаться, но прошло время и змеиха заорала:
– Опять за старое? Венчаться? Когда из твоей головы дурь вылетит?
– Зачем же я тогда крестился?
– Жида окрести, да под лёд пусти!
Раньше будущее рисовалось бывшему студенту сквозь дымку сюрреалистической картины:
…золотая жара…, океан песка…, синее небо… В дюнах торчит горлышко полузакопанной амфоры… По раскалённой пустыне, будто по вышколенному асфальту Парижа, шастает шалопай в канотье, покуривая, сунув руки в штаны… И ему до лампочки то, что в двадцати метрах от него увяз в сыпучей массе дощатый баркас с наманикюренной дамой в позе капризницы Ватто! На лице бонвивана начертано: как бы вас ни уверяли в любви к вам, как бы нежно ни втолковывали, будто вас ни на кого на свете не променяют, но, если жена станет забывать на подоконнике в туалете или в хрустальной пепельнице обручальное кольцо, если у женщины при размолвке сорвётся замечание, что вы не единственный экземпляр в мире, на кого можно молиться, что история Ромео и Джульетты – миф, или, наконец, что жёны великих людей после смерти мужей сравнительно быстро утешались, подыскивая дубликат, если всё это вам скажут в лицо и тут же предпримут неуклюжую попытку смазать ваше впечатление от излишней откровенности – не заблуждайтесь, по-настоящему вас никогда не любили: вы приехали в тот город, где постепенно сносят старые здания – с ними связана ваша жизнь! – в одном из домов вы учились, во дворе другого – играли… Выветривается, уходит в ничто всё, что напоминало вам о вас, и сами вы скоро, даже не заметив как, станете забытой могилой… И вывод этот столь нестерпим, сколь жуток, что внутренне вы вздрогнете, почуяв, будто малознакомый человек назвал вас, зная ваше имя, именем вашего умершего в раннем младенчестве брата, которого вы никогда не видели!
В раскрытых воротах церкви показалась запылённая «Волга». Расфранченный часовых дел мастер выскочил из машины, распахнул заднюю дверь.
Наречённая с растрёпанной чёлкой, бледная, виновато улыбаясь, поправляя фату, заглядывая жениху в глаза, тараторила о том, как на полдороге пришлось вернуться домой: забыла перчатки.
На крыльцо высыпали первые зеваки, мешая фотографу навести точный прицел. Суженый скользнул пытливым взором по взволнованному лицу невесты… Будет ли отныне его жизнь столь же сладкой, как пайка тюремного сахара, которую боишься рассыпать и промозглой ранью несёшь каплей ртути к помятой железной кружке с чаем? Мать жены Муссолини (не хуже Герлыгиной) была категорически против брака Ракеле с Бенито. «А ведь знаешь, если бы не было такого противостояния, я бы на ней никогда не женился», – говорил дуче Кларетте Петаччи, которая пошла за ним на смерть; их тела после расстрела повесили вверх ногами, невольно превратив жребий казнённых любовников в отголосок древнего мифа о древе мира, чьи корни в звёздном небе, а ветви на земле.
Молодые взошли в храм, когда отец Иоасаф причащался в алтаре, пряча свои вставные зубы под разостланный на престоле антиминс. Вернув протез в рот и став после вкушения Святых Тайн похожим на размягчённую водой в чашке засохшую просфору, настоятель царскими вратами вышел в серебристо-голубом облачении к молодым, держа в руках кадило и крест.
Начался бестолковый с улыбками обмен кольцами в дверях храма. Батюшка успокаивал молодых, помогая не путать перстни.
Зажгли тоненькие восковые посохи и, обернув их в носовые платки, дали им в горячие ладони.
Длинная ковровая дорожка алым лучом рассекла толпу.
Тут были молодёжь и старики, девочки-ромашки по семьдесят лет. Многие знали жениха с той поры, когда продрались к нему с яблоками в зале суда.
Подле стола с ковшиком кагора и венцами белел на полу плат чистой ткани.
– Лана, осторожно! – предупредил избранник. – Видишь вон светлое пятно? Это маскировка… Там трюм… Сослепу шагнёшь – сотрёшь кости в порошок, провалишься, как Царица ночи в люк на сцене!
Бабки запорошили ковёр мелким «серебром»:
– Чтобы в доме была чаша полная!
Князь и княгиня (по свадебным обычаям на Руси так величали в день брака молодых) чинно двигались за батюшкой, но, когда до белого платка оставалось не более метра, жених почти прыгнул вперёд и первым очутился на подстилке.
Храм весело зашелестел.
Не помогли голубице консультации старух:
– Гляди-ко, не промахнись! Первая ступай на плат – править в семье будешь!
Отец Иоасаф взял венец:
– Венчается раб Божий…
Затем связал им руки новой косынкой.
– Морской узел! – вздохнули в толпе. – На всю жизнь!
И загремело под сводами:
– Мно-о-о-гая ле-е-ета!
Взмокший батюшка растроганно напутствовал молодых в царских вратах экскурсом в жития святых мучеников.
Толпа перегородила выход новобрачным. Град поздравлений, ливень подарков! Ночные рубашки, духи, простыни, тарелки, деньги, полотенца, цветы…
Ошалелые князь и княгиня, расцеловываясь с прихожанами, пробились на паперть. Во дворе, около машины, полно людей. Фотограф отчаянно жестикулировал жениху: кончилась плёнка!
(Снимок венчания молодожён отошлёт в центральную газету: «На долгую память редакции «Такой-то правды», столь успешно пропагандирующей новые безбожные обряды».
Москва скинет подарок в провинцию – горком закатит фотографу оплеуху).
Свадебная колымага выбралась за церковную ограду на шоссе. Вслед ей все махали, кричали, плакали, благословляли:
– Ангела Хранителя!
Хтось добавил:
– …и быка осеменителя!
«Это был удар по партии, – заключил бы Оруэлл. – Это был политический акт».
Ника
Комод страдал от боли в суставах и мечтал о пенсии.
Это был фамильный склеп, орнаментированный следами шашеля.
Молодой человек наткнулся на него в сарае, обследуя купленный дом. Выдвинул ящик в комоде и нашёл крупные фотографии. Бывшие хозяева, теперь жильцы того света (мужчина в гимнастерке с кубиками в петлицах, женщина в белой блузке), лежали в рамах под стеклом и открытыми глазами, как на посмертной маске египтян, задумчиво смотрели на грабителя их могилы.
Архивариус любил свой дом.
Он приобрёл его за четыре тысячи. Одну тысячу дал взаймы архиерей, а три удалось выцыганить у родни жены. После венчания, погрузив в контейнер облупленное трюмо да заикающийся стиральный агрегат, молодожёны – к вящей радости градоначальства, и, разумеется, папы, мамы, сестёр, тёток – снялись и полетели в «азиатскую Венецию» в устье Волги.
Епископ поручил мужу архив епархии, а жену вскоре назначил машинисткой вместо старухи, что всё норовила через адресок на конверте, как сквозь замочную скважину, выведать содержимое письма. Владыка наградил ягу почётной грамотой, выделил денежный подарок и спровадил за штат.
Наивно считать восемнадцатилетнюю женщину менее любопытной, чем даму преклонного возраста. Разница заключалась не в том, что Лана не устоит перед соблазном разобрать надпись на конверте с ватиканским штемпелем или не решится заглянуть в эпистолу с комсомольской маркой от Патриарха, а в том, что подругу бунтаря, верой и правдой служащего епископу, нельзя завербовать ни в один, ни в два приёма: удручительное обстоятельство для тех, кто, имея неограниченное число шансов щупать муштрованный пульс Церкви, всё-таки не хотел терять в корпусе доносчиков лишнюю единицу.
Избушка на курьих ножках, где поселились молодожёны, представляла из себя деревянный полупрелый особняк из двух комнат, кухни и веранды. По ночам в стенах, обшитых прессованным картоном, шуршали мыши.
Дом был для архивариуса не просто жильём с худым шифером на крыше. Это было отвоёванное, вырванное с мясом жизненное пространство, отторженное у тех драконов, которые мяли и гнули, катали и гнали его с детства, кидая то в интернатский дортуар, где молодые бесстыжие воспитательницы торчали над душой, дожидаясь, пока четырнадцатилетний отрок разденется на их глазах и ляжет в постель, то швыряя в студенческое общежитие, где грохотали дверями и горланили до полуночи, то бросая в тесную клетку тюрьмы, куда на Пасху теперь никогда не приходил оделять разбойничков подарками тишайший царь Алексей Михайлович.
Он без устали вылизывал свою нору. Менял старые выключатели, шпаклевал щели, красил полы, тащил в дом всё, что попадало под руку: кухонный, слепящий белизной шкаф со склада епархии (по благословению Владыки) и разысканный в магазинах Москвы мощный холодильник. Его задерживала на улице беспризорная, необыкновенной конструкции труба; валялась на дороге, озадачивая перспективами использовать её в качестве ещё одной пулемётной точки в его крепости.
– Идём, она не пригодится, – смеясь, тянула жена мужа за рукав.
Если в доме не хватало дров, стыла изба, Викентий мог в дремучую ночь выскользнуть на улицу, рыская по переулкам, найти заранее примеченное топливо, осторожно вытащить из груды досок под почивающими окнами старую дверь и волочить, волочить добычу, рыча, но не выпуская, в логово к обмёрзлой молоденькой волчихе.
Дом увеличивал его разлад с миром, был призмой, через которую он, по выражению прошлой эпохи, лорнировал мир. В книге одного западного философа ему импонировала мысль, что человек есть существо, строящее свой дом как слово истины.
Поутру наколов дров, затопив печь, архивариус заваливался на диван и с безграничным уважением и доверием читал местную газету, купленную за две копейки в ларьке.
Завтракал и обедал Гладышевский за чистым полированным столом вдали от прокисших харчевен с пустыми щами и толпы, тщательно изучающей меню, оттиснутое на папиросной бумаге.
Архивариус любил запах разглаживаемого выстиранного белья, только что занесённого с мороза в комнаты, тёплый дух выпекаемого в печи теста.
Когда осенью жена уезжала проведать родных в Крым, он сидел в кресле у окна, накрыв колени клетчатым пледом, перешитым его матерью из сношенного пальто… Потом выходил на улицу, где танцевал листопад, срывая с деревьев семь покрывал… Из ворот соседнего дома высовывалась баба в толстой фуфайке, держа за пазухой кошку… В городе уже чувствовалось дыхание ноября,… даже не потому, что было много луж от дождя, а потому что именно в это время здесь снова красили заборы в зелёный цвет… Когда вечер начинал ощупывать первые звёзды, как слепой Эдип лица своих сыновей, он возвращался; казалось, жена уже вернулась и дома его кто-то ждёт… Но на скамейке у запертой калитки никого не было, и почтовый ящик был пуст. Он ложился в постель, рассеянно слушая, как одинокий ветер глухо стучит на чердаке незакрытой дверкой…
– Боже, до чего хорошо! – ворковала молодушка, попадая в родные стены после поездки в Крым.
– Мещанство, – вздыхал муж. – Кулачество!
И, бурча, вставлял на зиму по настоянию супруги вторые рамы в окна, обдумывая, как бы кастрировать желание Ланы купить ему для солидности «котелок Рене Магритта».
Впоследствии лада призналась своему соколику, что первый год их совместной жизни пугал её.
До венчания всё делала для неё мать: стирала, шила, варила. Теперь на плечи восемнадцатилетней хранительницы домашнего очага свалилась куча проблем, забот.
Она боялась не угодить мужу. Тот, как истовый гувернёр, натаскивал супругу: подымал ни свет, ни заря, выбрасывал за порог немытые кастрюли, сам выбирал ей платья в магазинах, тыкал в книгу («Читай! Набирайся ума…»).
Весной Гладышевский поймал для Ланы стрекозу с перламутровым хвостом, слюдяными крыльями. Порхнув по веранде, попрыгунья села на оконный тюль. Лана захлопала в ладоши от восторга и – выпустила стрекозу через дверь на волю. Сверкнув крыльями, гостья улетела ввысь, мимо крыши в лазурь… А утром, когда архивариус чистил зубы, жена прибежала со двора и позвала его на крыльцо… У порога коченел труп стрекозы, может быть, той, вчерашней… Останки обитательницы цветов и небес потрошили санитары-муравьи…
Спозаранок жена обожала пить кофе в постели и беседовать со своим Пигмалионом, приготовившим и подавшим ей в чашечке «сироп из сажи»:
– Вик! – говорила Галатея, – а не приходило ли тебе в голову, зачем завешивают тканью зеркала, когда в квартире мертвец?… Мне бабушка покойная приснилась… Это делают для того, чтобы не тревожить домового?
– Вряд ли… У скифов, например, зеркало было атрибутом того, что мы называем Абсолютом. Если человек видит себя в Боге, как в зеркале, то, умирая, он как бы перестаёт отражаться в Нём, во всяком случае, в физическом облике…? Тёмный вопрос!
– А знаешь ли ты, что, дабы убедиться, что Папа скончался, секретарь Ватикана бьёт деревянным молотком по его лбу…
– Как женщина, которая легко ударяет веером мужчину, давая понять, что она его поняла?
– Скорее, как распорядитель, что лупит молотком по столу на аукционе по продаже антикварных вещей.
– Или, в конце концов, как мудрейший судья, определяя таким же стуком молотка в конце процесса срок наказания для преступника или немедленное освобождение из-под стражи!
– И Папа отправляется в ад или в рай? Кстати, я вчера вычитала не только про эту церемонию, но и то, что конструкция часов с колесом и боем изобретена аббатом, ставшим позднее Понтификом. Отчего ты, втайне симпатизируя католикам, игнорируешь ручные часы?
– Терпеть не могу механическое время.
– А бороду чего не отрастишь? Все пристают… Говорят, у тебя не подбородок, а лемех!
– Забыла? «Борода не делает козла раввином». До неё, как и до шляпы, нужно дорасти. Самая длинная борода была у императора Юлиана Отступника. Древние иудеи учили, что существует тринадцать частей бороды, то есть путей снисхождения благодати на человека. Хочешь, чтобы я, как еврей, три раза в день на молитве повторял названия этих тринадцати частей?
– Чем эта процедура хуже тысячи проблем, затронутых, по твоим словам, в «Граде Божием» Августина? Что он сочинял, касаясь отношений Адама и Евы?
– Блаженный Августин копался в их контактах не хуже современного учёного, изучающего половые хромосомы на клопах.
– Чем они занимались в раю?
– В ранце между ног Евы лежал маршальский жезл Адама. До грехопадения гениталии не считались срамом. Но совокупляться с женой муж должен был аккуратно, чтобы не повредить девственную плеву! Обсеменять сотворённый для сего снаряд нужно так, как рукой засевать землю…
– И супруг льнул бы к лону супруги без страстного томления, абсолютно спокойным душой и телом?
– Правильно, по методу сырого полена, брошенного в костёр.
– Но здоровое поколение рождается именно от страсти, а не от холодной сдержанности и равнодушия! А почему Гегель – не врёшь? – возмущался тем, что Шива сто лет лежал в объятиях Умы?
– Между прочим, – улыбнулся муж, слегка меняя направление их беседы, – вчера утром прихожу в спальню к Владыке, и он в длинной ночной рубашке, свесив ноги с кровати на пол, попивая кофе, спрашивает, явно задетый за живое: «А почему ты думаешь, что мне не могут сниться сексуальные сны?». И говорит это вместо того, чтобы как полагается иерарху, когда продрал очи от сна, благочестиво размышлять, что ему в первую очередь подобает надевать: штаны или сорочку (на чём сломал себе шею не один богословский коллоквиум)!
Я изобразил почтительное недоумение и вспомнил, что болтали о причине его служебного перемещения с севера на юг. Будто поводом стала фотоплёнка, которая засекла, как во время заграничной командировки наш архипастырь внимательно рассматривал витрину книжного магазина с открытками любовных сцен; после предъявления компромата его начальству на Родине это было сочтено нездоровым любопытством не к эротике, а к порнографии.
– Заглянул бы он в гроссбух нашей Филаретовны! На одной странице цитаты из книг отцов Церкви, на другой – график того, что бывает ежемесячно у каждой здоровой женщины… А в квартире у неё на дверных косяках, как под мышками, свечной копотью кресты. Да икон, как летучих мышей в пещере…
– Ты была у неё?
– Заходила с Таней, родственницей Владыки… Я тебе показывала, какие распашонки она привезла из Москвы для нашего сына!
– Ты уверена: «для сына»?
– Ты же хочешь мальчика.
– Надо попросить Татьяну, превосходно вышивает! Выткать бы древнегреческий орнамент золотом на пояс для подрясника… Мне так нравится меандр!… В нём что-то есть от названий старинных музыкальных инструментов: … чембало, …гобой д´ амур, фамилий полузабытых композиторов… Кариссими, Фрескобальди, …Букстехуде,… Пахельбель…
– А Россини?
– Любимчик Шопенгауэра и Ницше…
– Он был изумительный кулинар! Изобрёл рецепт нового салата и разрыдался, уронив блюдо с фаршированной индейкой… Вик, что приготовить на обед? Блинчики с мясом?
Галатея с улыбкой опиралась локтями на подоконник (диван, на котором спала, стоял рядом с окном), и смотрела в соседний двор, где мальчишка в потёртой солдатской пилотке пытался через кругляшку увеличительного стекла зажечь страницу, выдернутую из журнала «Мурзилка».
Она передвигалась по комнатам с тайной важностью, выпятив живот. Задирала перед зеркалом кофточку, рассматривая семимесячный бугор. Склонялась над пустой деревянной кроваткой и вела нескончаемый разговор с будущим ребёнком:
– Что тебе, мой хороший? Мой маленький… Я уже устала тебя носить…
Ехали трамваем – архивариус на службу, беременная – к врачам или на рынок. Вагон проносился мимо снесённого дома: щебень, доски, трубы, кирпичи…
– Смотри, – замечала жена, – все ушли, а сад остался…
В кабинете архиерея племянница епископа Татьяна, брюнетка двадцати лет, причёсывала куклу, заплетая в её косу оранжевую ленту.
Владыка, привстав из-за письменного стола, благословил сотрудника. Татьяна внезапно бросила куклу архивариусу. Тот успел поймать её и закачал на руках, будто спеленатого младенца.
– Ура! – закричала девушка, поправляя соскользнувшие очки. – Хочешь знать, каким будет отец – дай ему куклу.
Владыка заклеил конверт с письмом к своей старой приятельнице, кажется, родом из грузинских князей; писал ей, что у него чего-то болит нога, что недавно наградили орденом второй степени (о чём ни слова не сообщили в церковном журнале), что настроение его духа скверное и виноват в том, конечно, он сам. Через месяц по обыкновению отправится на север в духовную академию читать лекции… В перерывах будет расхаживать по длинному освещённому электрическим светом коридору, где висят масляные портреты маститых иерархов… Фиолетовые мантии, жезлы в женственных руках, нежные персты, сложенные для благословения… С одного холста на другой смотрит лобастый митрополит, борода лопатой; перед ним – его худой, интеллигентный преемник на посту ректора. Глядит на аскета Высокопреосвященный, точно купец на гувернантку… Только что приехала, торопливо достаёт из мелкой сумочки рекомендательное письмо… Вокруг купчины сыновья-балбесы: семинаристы…
Владыка приглашает грузинку в гости. Когда та в начале августа приезжает с молодой подругой, архиерей доказывает им: религия не кашляет кровью, а процветает, аки райский крин при потоке вод. И хитро – какой год подряд? – добавляет набившую оскомину прибаутку:
– Церковь – пасхальное яичко. Снаружи – красное, внутри – белое!
Когда поднимаются из-за обеденного стола, хозяин поворачивается лицом к иконам для благодарственной молитвы, и обе дамы, конфузясь, опускают взор, дабы не созерцать, как в расщелину между ягодицами епископа впивается подрясник: летом архиерей ходит без трусов…
Запечатав письмо жительнице Кавказа, Владыка присоединил к нему ещё конверт и попросил архивариуса отнести корреспонденцию на почту. Во втором конверте лежали бланки «Спорт-лото». Начальник епархии скупал лотерейные билеты кипами, тщательно заполняя их по никому не ведомой секретной схеме. Случалось, выигрывал три рубля.
Когда келейник доставил с почты письма и свежие газеты, епископ тут же принялся искать в «Правде» статью по вопросам атеизма, которую всегда печатали в этот период. Найдя, внимательно прочитал и перекрестился:
– Слава Богу, всё по-прежнему… Гайки закручивать, кажись, не будут… Почему вы нынче такой хмурый? – поинтересовался у подручника.
– Да как, Владыка, не быть хмурым? Дитё ещё не появилось на свет Божий, а забот и трат на него куча! Пелёнки, ванна, костюмы, зыбка!.. Позвольте Вам дать добрый совет…
– Пожалуйста.
– Никогда не женитесь!
– Спасибо, – рассмеялся монах. – Я уяснил это лет сорок назад… А ваши денежные затруднения мы попробуем поправить. Татьяна, дай мне, пожалуйста, сборник циркуляров… Вон в том шкафу стоит, справа… Спасибо… Так… Кому полагается пособие по беременности? Женщине. Ваша супруга – женщина? Женщина. Ждёт ребёнка? Ждёт. Итак, ей, как сотруднице епархии, предстоит получить…
Архиерей на три секунды задумался и назвал астрономическую цифру: свыше полутора тысяч рублей! Конечно, фининспекция обложит налогом, но львиная доля, четырежды перекрывая размер государственной дотации по беременности, всё же попадёт к будущей матери.
– Ну, как тут не рожать? – рассудила Лана, когда муж сообщил ей резюме епископа. – Напиши Микитину, пригласи стать крёстным отцом. А кумой пусть станет Танечка, она была восприемницей Ростроповича, когда его инкогнито крестил её дядя.
Микитин был поэт. Причёска на его голове смахивала на незашнурованный башмак Эйнштейна.
Он обитал на ул. Проломной, в старинной московской квартире, с подселенными в предвоенные годы вездесущими соседями. В комнате с подтёкшими потолками и клопами жил до ареста дед его жены, незаурядный боггослов, учёный, понимавший с полуслова экспериментальную электротехнику, расстрелянный за «идейное вооружение национал-фашисткой шайки».
Внучка теолога была веснушчата, плавно нетороплива, малоразговорчива. «В её лучистых глазах душа, казалось, затаилась, но не ушла в себя, а обнаруживала явное присутствие, даже насмешливую любознательность», – считал лирик.
Поэт пребывал в хроническом замешательстве – в заботах о хлебе насущном: надо было кормить семью, где подрастали трое чад… Преподавал, возился в редакции столичного журнала с начинающими талантами, помогая вытаскивать им и себе славу и хлеб. Ему стукнуло тридцать. Собрание его сочинений, отпечатанное на машинке, соседствовало на книжной полке с такими же творениями Рудольфа Штейнера и Марины Цветаевой.
Знаменитый мэтр Евгений Андрюхевский (флагман подмостков Политехнического института, где с огромным успехом поэтически чирикали птенцы послесталинской оттепели), зачёсывая косую прядь на академически лысеющее чело, похвально отозвался о стихах Микитина, чья символистская муза шкандыбала по кладбищам и церквям. В периодике сверкнуло несколько статеек и стихов поэта.
В квартире, перенасыщенной фолиантами, граммофонными пластинками, рукописями, воплями болеющих детей, деликатными упрёками всё понимающей супруги, сутулилась в углу икона. Иногда перед нею свербил огонёк покрытой пылью лампады.
Поэт верил в Бога и говорил, что станет рясоносцем, псаломщиком, в крайнем случае. Но сперва ему хотелось упрочить свой шаткий литературный статус, перебраться в новую квартиру без чутких соседей, с краном горячей воды, где у него был бы – о Господи, услыши раба Твоего! – свой кабинет.


