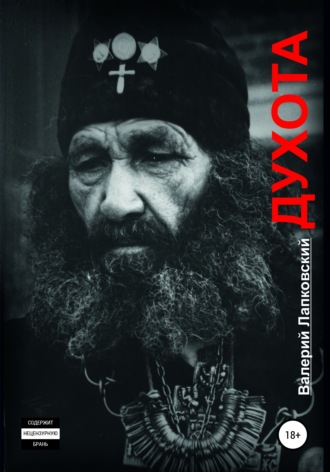 полная версия
полная версияДухота
Спешил по жаре домой мимо огромного универмага, соображая, откудова раздобыть денег матери на байковый халат.
На фасаде торгового здания висел трёхметровый портрет главы партии и государства. Вождь простирал немеющий взор на гору, где высился обелиск, меблированный пушками. Вонзённый штыком в небо, памятник был сложен пленными немцами из камней разорённого до войны («по требованию пролетариев») Троицкого собора. Под горлом генсека висела звезда маршала с бриллиантами: так по рецепту чернокнижников украшали шею измотанной лошади зубами убитого волка, чтобы коняга не сдохла от изнеможения. Мундиру генсека позавидовал бы нагрудник иудейского первосвященника, оснащённый драгоценными камнями в честь двенадцати колен Израилевых, принадлежащим (в анекдоте) если залезть под стол, шести ногам сидящих будённовцев. В последние годы нумизмат из Кремля, словно пенсионерка, которая методично копит имеющие для неё глубоко исторический смысл пустые пузырьки, коробки из-под пудры, пластмассовые гильзы, где нет губной помады, как пороха в костях, без устали коллекционировал на своей груди отечественные и закордонные ордена. Свинные пятачки медалей присосались к его кителю, как поросята к вымени хавроньи.
Пять золотых звёзд блистали около сердца; три повыше, две снизу. Никто не брался подсказать «дорогому Леониду Ильичу», что столь неуклюжее расположение регалий вносило беспокойство в эстетическое восприятие наград. Их размещение напоминало перевёрнутую пирамиду, чья фундаментальная подошва болтается в воздухе. Окажись в Кремле староста местного храма, где настоятелем служит отец Иоасаф, дело бы, конечно, поправили. Порука тому – один богомаз: накрасил деревянных яиц к Пасхе, принёс в церковь. Ктитор посмотрел и забраковал:
– Что ты мне Христа вверх ногами нарисовал?
– Как «вверх ногами»?
– Лик должен быть на остром конце, а ты его упёк на широкое основание!
Иногда бывший студент приходил на приморский бульвар и часами сидел на одинокой скамейке, глядя в синюю даль, будто, по выражению живущего в провинции европейского философа, пытался заглянуть за горизонт, в то время когда пролив называли Коровьим бродом в память о возлюбленной Зевса, которую громовержец, опасаясь ревнивой жены, превратил в белоснежную тёлку, что бежала в этот край, спасаясь от оводов, натравленных Герой. Прикатывал сюда на своей коляске и калека в капитанском картузе, чтобы наловить рыбы.
– Эге, дед, пора тебя штрафовать! – пошутил парень. – Знаешь, сколько бычков положено вытаскивать из пролива по закону? Ты вон сколько поймал!
– Ты, соседушко, дуй своей дорогой… «Штрафовать»!.. Вы завтра за то, что человек в сортир ходит, будете штрафовать!
– Дедунь, сматывай удочки… Видишь машину? Лягавые за тобой примчали!
– Не, не за мной.
– А за кем?
– За ногой.
–Какой ногой?
– Вон бултыхается…
Около берега и впрямь плавала незамеченная собеседником старика согнутая в колене нижняя конечность. Довольно стройная, со стружками отслаивающегося мяса, цвета селёдки на праздничном столе, очень белая от неумеренной дозы уксуса.
По набережной сновало туда-сюда озадаченное чрево в толстых очках: начальник милиции. Тарадымов! За ним – чины в форме. И шелестел между ними такой обмен мыслями:
– Как ты думаешь, – сопело брюхо, – чем это её? Топором?
– Не похоже… Пилой, наверно.
– Гладко отрезано… Гм.
–Откуда взялась, чёрт бы её побрал!
– Да из Турции приплыла!
– Из Турции?.. Ну-ка, Трахтенберг, сфотографируй её… Да рыбаков, мать их, прихвати на плёнку… На всякий случай.
Похож был в ту минуту Тарадымов на медведя, что на костыле кружит вокруг избы мужика. А крестьянин, ничего не ведая о том, варит в котле его отрубленную ногу…
Накануне праздников государственного значения, когда каждый гражданин должен вывешивать на воротах красный стяг, подобно тому, как древний еврей в египетском плену мазал косяк своих дверей кровью закланного агнца, дабы Ангел Губитель не коснулся его жилища, мать по телефону приглашали куда следует или в отсутствие «Ирода» навещали её и кротко просили присмотреть на время торжества за шалуном… Знаете, такое ликование, музыка, знамёна, и вдруг – листовки от руки, нездоровые речи в толпу, нехорошие призывы, взгляды… А взгляды у него, сами понимаете… Да, да, душевнобольной, ничего не поделаешь… Так вы уж, будьте любезны, пусть не выскакивает на улицу… А то как Мамай под стены Москвы!
Но в эту ночь поступили круче. И так хватали проблемных элементов по всей стране, стоящей через пень колоду на пороге коммунизма.
Уже пять минут у порога ворковал заспанный Маграм, уговаривая мать выйти во двор. Рядом с ним топтался флагом парламентёра милиционер в светлом халате.
Мать, дрожа от страха, отодвинула ёрзающий засов.
Блеснули семь лакированных козырьков. Белые балахоны были напялены прямо на шинели.
Обер-психиатр умолял мать ни о чём не беспокоиться. Сын должен сесть в машину.
– Сын должен сесть в машину!
– Куда? Зачем?
Этого Маграм «не знал».
– Я к вашим услугам! – Викентий вырос перед непрошенными гостями.
Дверь фургона щёлкнула за ним. Женщина кинулась к окошку автомобиля, но тот, взревев, рванул вперёд по едва освещённому переулку.
И понеслись строкой из Блока: ночь, улица, фонарь, аптека… Мелькнуло новое грандиозное зданьице горкома партии. По бокам у парадного входа застыли декоративные бородавки из песка и цемента, похожие, зараз на ядра для царь-пушки и на каменные слёзки номенклатуры, что выкатились из глаз после смерти Сталина, превратившись в горошины, подсунутые сказкой Андерсена под двадцать перин, чтобы партия, лёжа на них, чувствовала себя настоящей принцессой.
Весной власть прислала Гладышевским автоматически, как всем аборигенам, сверкающее золотой звездой на фоне кровавого знамени глянцевое поздравление с Днём победы над фашистской Германией.
Недолго думая, анфан террибль почтой вернул юбилярам их прокламацию, добавив на полях постскриптум из Канта:
«У каждого народа после дня победы должен быть день покаяния» (собр.соч., том такой-то, стр., год и место издания).
– Что вы этим хотели доказать?! – позёвывая, прищучили гадёныша в чистилище КГБ, куда огорошенный горком поторопился переадресовать втык-цитату…
Машина спешила мимо закрытого ещё в тридцатые годы древнегреческого собора Иоанна Предтечи… Раньше вокруг храма ютился погост, но творцы нового мира закатали под асфальт могилы людей, которые выстроили порт, гимназию, музей Тезея, крепость на берегу по чертежам защитника обороны Севастополя Эдуарда Ивановича Тоглебена, широкую лестницу на гору Митридат с реявшими над городом грифонами – ненавистными для геростатов в будёновках зверями, в которых таился образ Христа.
В последнее время внутри и вокруг собора археологи вели раскопки и набрели не на облезлые фрески сырой погребальной камеры богини Деметры, обнаруженной на окраине, а на чистенький выбеленный склеп, где чаял воскресения мёртвых металлический гроб с позеленелым распятием на крышке и львиными лапами по бокам внизу.
Печенеги двадцатого века, привыкнув пить вино массовой культуры из железобетонных черепов стадионных чаш, сунули уникальную находку в замусоренный сарай историко-краеведческого заповедника.
Колченогий сторож, по просьбе Гладышевского, поковырял гвоздём в висячем замке, открыл дверь в хранилище хлама.
По гофрированным стенкам саркофага скользили тихие волны… «Одна за другой… Рождение-и-смерть». – опять пришла на ум опальному интеллектуалу строка, похожая на руну. Четыре изящные рукояти зависли по бокам, будто шлюпки по бортам корабля на случай крушения. Изнутри крышка была застёгнута на потайные скобы.
Хромой повозился и отворил.
Экскурсант с замиранием сердца склонился над погребальной ладьёй.
Сквозь истлевшую матерчатую обшивку пробились жёлтые стружки. Фелонь с остатками позолоты спеклась с белым подризником. На голове уцелела фиолетовая скуфья. Лик облегал линялый покровец. Фаланги пальцев обуглено темнели, как вынутые из деревянных чехлов грифели чёрных карандашей.
– Боже мой! Да это же я! – чуть не вскликнул «Ирод», давно мечтая стать священником.
– У него даже сохранилась борода и кожа на лбу, – буркнул караульщик.
– А где наперсный крест? – оторопело спросил будущий батюшка, которому отец Иоасаф подарил такой же нагрудный крест (с вензелем последнего русского царя и наставлением из послания апостола на обороте).
– Крест? Дак ведь он из серебра… Народное достояние!.. Мы его в музей… Через шею стащили…
– А Евангелие, крест в руках?
– Изъяли… Крест у него в руке тоже из серебра, а книжка отсырела, сгнила.
Инвалид принялся закрывать экспонат.
– Что же вы теперь будете делать… с ним?
– Этот ход мысли, – заметил охранник бывшему студенту или тому, пожалуй, так показалось, – берёт исток в философии Декарта и в принципиальных чертах воспроизводится у Канта и в немецком идеализме, хотя и с существенными модификациями.
– …?!
– Что хлебало разинул? Похороним где-нибудь… Надо бы его из гроба вынуть… Уж больно ящик необычен, такие сейчас только в кино… Да и одежду от костей неплохо бы отделить.
– Зачем?
– Чтобы люди знали, как раньше ткали, из каких ситцев.
– Назад, в усыпальницу нельзя?
– Нельзя. Ограбят!
– Что грабить? Серебро ведь экспроприировали.
– Всё равно. Разроют!
– Здесь, рядом с милицией?!
– Ты с Луны свалился? У нас в центре города по ночам гадят под памятником Ленину, уборщицы каждое утро ругаются, а ты – «милиция»! Гони трёшку, как обещал…
Через полчаса «Скорая помощь» выбралась за город.
– Куда едем? – попробовал осведомиться «пациент» у милиционеров, изображавших медбратьев. – Угостите табачком.
Не ответили, но сигарету дали.
– Стану не благословясь, пойду не перекрестясь, не воротами – собачьими дырами, тараканьими тропами, не в чисто поле, а в тёмный лес! – пробормотал «странный тип» и подумал: – Завезут в овраг и прикончат!
Вскоре замигали справа редкие жёлтые огни. Короб на колёсах с красным крестом на фонарной скуле притормозил возле длинного приземистого барака.
– Чунгулек! – догадался наслышанный о сей обители похищенный гражданин. – База хроников сумасшедших.
Его ввели в тёплый хлев приёмного покоя. Перепуганные, как его мать, две томные, раскормленные, не то медсестры, не то сиделки тупо внимали тому, что им втолковывал офицер в штатском.
Разбуженная дежурная врачиха, стесняясь командующего незнакомца, расплёскивая сон, одёрнула на аэродинамических обтекаемостях бёдер жёванное спячкой платье, выстроила грамматически правильное предложение:
– Может, он буйный? Сделать ему укол?
И включила маленькую электроплитку, чтобы прокипятить шприц.
– Как хотите! – великодушно улыбнулся подтянутый инкогнито.
Пленник психиатрического ущелья слегка поклонился офицеру:
– Благодарю за доставку.
– Располагайтесь поудобнее! – ни за что не хотел отказать себе в вежливости, вероятно, лейтенант.
Приблизительно в таком же бедламе после демарша в посольство бывший студент «отдыхал» в Москве. Там его приветствовал истошным воплем «теоретик» в рваной робе:
– Во второй мировой войне сражались фашиствующая Россия и жидовствующая Германия! Зло против зла!
Ежедневно «теоретику» кололи инсулин, доводя до коматозного ража, когда с него пот градом, из глотки пена, хрип, сам он в отрубе, лежит навзничь, без памяти.
Его укладывали на тележку, везли в спецлабораторию. Там прикладывали к забубенной головушке стальной венец, к венцу – электропровода, а в рот между зубами втыкали кусок резинового шланга, чтобы язык не прикусил (хотя всё делали именно для того, чтобы он язык прикусил!). И током били по мозгам. Всё тело синело и плясало чечётку. Вечером тащили в женское отделение на танцы под надзором санитаров и медсестёр. Две подружки сидели тут за столом, и старшая медсестра, жужжа пожилой, как ей хорошо живётся с мужем, поглаживала ляжками толстых пальцев длинный нос эмалированного чайника.
Там, в московской психушке, экс-студент видел массивные, обклёпанные досками до пола, скошенные внизу на конус, круглые столы. Такое произведение мебельного мастерства ни «персидский шах», ни «внук Ленина» не мог схватить за ножку и в сердцах отблагодарить своих благодетелей перед тем, как они закатают ему в ягодицы три куба жидкой «серы».
В подошву мебели предусмотрительно вмонтировали что-то тяжёлое, наверно, железо. Угрюмые столы казались утопленниками на морском дне, в чьих саванах зашиты камни.
По этому дну сновал, как водолаз, Оскар Евгеньевич, доктор медицинских наук, мужчина атлетического телосложения. Отправляясь на деловую встречу с работниками охранки, нуждающейся в услугах карательной психиатрии, лейб-лекарь глотал нейролептики, чтобы не очень нервничать.
Балагуря со свитой помощников, профессор (из кармана белого халата торчал свёрнутый в трубочку список очереди медперсонала на покупку дефицитных ковров) приближался к беглецу в Америку.
Обнимал беглеца за плечи, тискал:
– Ну, как дела?
И лукаво, заговорщицки, поблескивал очками в сторону коллег, присаживался на край кровати, демонстрируя практикантам умение втираться в доверие к больному. Вытаскивал из-под подушки растрёпанную книгу.
– «Былое и думы»… Читал, читал!.. Вот вы неравнодушны к монархии, а помните у Герцена? Сколько талантов загубило самодержавие? Лермонтов убит на дуэли, Полежаев умер в ссылке, Радищев отравился, Пушкин…
– Доктор, Маяковский послал себе пулю в грудь, Есенин вскрыл вены, Цветаева повесилась, Гумилёв расстрелян, Мейерхольда утопили в бочке с нечистотами, Мандельштам…
– Н-да… Ну ладно… Отдыхайте!
В углу приёмного покоя Чунгулека жался в кальсонах пожилой небритый гном. Твердил без остановки:
– Бесконечно… Бесконечно… Бесконечно…
Медсёстры, путаясь, рядили в какую палату определить новичка. Молодой человек метнулся шёпотом к коротышке:
– Ты давно здесь?
– Бесконечно…
– Тебе сколько лет?
– Бесконечно…
Парню указали койку: тут он должен встретить несколько зорь и закатов, пока будни не смоют флаги с улиц.
Няня забрала у него вещи, выдала застиранную пижаму; укладываясь на боковую заметила:
– Жулик!.. По одежде видать.
И коллега, вполне удовлетворённая её диагнозом, согласно зевнула.
Детский альбом
Ночью бабка досыта ворочалась в постели, кашляла, кряхтела. Под утро внук услышал:
– Сорок восемь копеек осталось… Никогда так не было… Чем их кормить?.. Ишь поганец, деньги наделал… Страну поджечь… Ну подожди, вернётся дед с командировки, он тебе… Когда ж у девок зарплата? Тоже хороши… Ни гроша в дом!.. Лидка одно цветы артистам заезжим носит… А всё «дай», «дай», а где я возьму?.. Против власти здумал идти… Да разве можно? Лучше б мы тебя маленького удушили… От людей стыдно!
Ворчунья задремала.
Дыханье трёх ртов доносилось из другого угла.
Восьмилетний фальшивомонетчик, настигнутый словами старухи, как обвинительной речью прокурора, прилип под одеялом к стенке…
В просторной комнате с высоким потолком жили дед, бабка, две их дочери, а также девочка и мальчик, дети Лидки от брака с бухгалтером. Семейное предание повествовало, что, приходя с работы, он доставал из своей кишени свежий носовой платок, проводил им по столу, этажерке, подоконникам, и, если находил пыль… Сами понимаете! Ещё говорили, любил охотиться с ружьём на диких кабанов… После войны волочил домой мешки с деньгами, и Лидка считала их всю ночь… А потом обчистил кассу на производстве и исчез навсегда неведомо куда.
В сорок пятом году из-за нехватки жилья комнату перегородили. За каменной перемычкой обосновался кладовщик райбазы, известный всей улице тем, что воспитывал истеричную жену снятым с ноги деревянным протезом.
Переборка рассекла на потолке лепной крендель, разломив его на две квартиры. На дедовой половине из кренделя торчал крюк для люстры. Над скрипучим шифоньером, двумя облезлыми кроватями с полуотвинченными шарами свисал выгоревшей эполетой бахромчатый абажур.
Подоконники дружили с перочинным ножом и чернильницей. На одном нехотя цвёл в глиняном горшке колючеватый столетник, на другом пузырилась бутыль, заткнутая марлей: в посудине обитал сладковатый гриб, деликатес, обожаемый бабкой, тётей Верой и всей страной.
В простенке между окнами теснилось большое, закреплённое поклоном зеркало. Печь с широким кирпичным щитом топили вручную, дровами и углём.
Когда осень распускала нюни, в щите начинали гудеть боги огня. Но разве не были они здесь чужаками? Никто не вспоминал тут о Боге, никто не носил даже нательного креста, хотя Лидка после войны (жили во Львове) перед тем, как уложить крещённых в костеле детей спать, осеняла крестным знамением окна и двери, опасаясь бандеровцев… Печь просто была большой птицей, высиживающей своим теплом внучат деда и бабки.
В центре комнаты стоял стол, а в углу тулилась тумба, разрисованная под орех, с двумя толстыми книгами, в которых мальчик читал всё детство про седого Луку, захристанного четырьмя «Георгиями», про Григория, что рубил шашкой матросню, налетая конём на плюющий свинцом пулемёт, и про француза, не желающего снять китель по причине неопрятной сорочки, в то время, как русский граф Игнатьев намерен вручить союзнику орден, надеваемый на шею.
Было, впрочем, и собрание сочинений Иосифа Виссарионовича, «большого учёного, в языкознании познавшего толк».
Над кроватью деда красовалась полиграфическая картина под стеклом с изображением кремлёвской пасторали: тов. Сталин и др.руководители партии и правительства кушали фрукты, пили чай с пирогом из колхозной муки, слушая Максима Горького, кой, густо окая, читал, как сказочник царю на сон грядущий, поэму «Девушка и смерть», что, на вкус сына сапожника, была похлеще «Фауста» Гёте.
Деда внук боялся.
Экс-матрос царского флота (в его роду, по глухим, ничем не подпёртым слухам, затесался цыган), дед служил на железной дороге секретарём партийного бюро.
Старик присматривался-присматривался к лядащему внуку и убеждённо говорил:
– Не, ни чорта – батька, ничего с тебя не выйдет!
Пошёл внук в школу.
Поучился полгода и натворил беды.
Взвился на уроке из-за парты его сосед Лёнька Лагутин (отец – пьяница, ящики посылочные из ворованной фанеры сколачивал и на базаре продавал) и, держа палец во рту, тыча в дедова наследника, прошепелявил во всеуслышанье:
– Евдокия Семёновна, а ён гаварить: нада нашу родину поджечь! И гроши мне на ето даеть!
Учительница обмерла.
Пузатая, шурша зелёным крепдешином, в грозной тишине прошелестела, протискиваясь гуттаперчевой бочкой между партами к растерянному поджигателю, комкающему пачку самодельных кредиток, наштампованных карандашом.
Ахнула.
Мелко затряслась, отобрала «деньги».
– Дети, посидите тихо.
Вывела мальчика в коридор.
И, двигаясь на его лицо катком живота, срывающе, испуганно прошипела:
– Кто ж тебя научил?!
(– Господи! Что скажут в учительской?! Дети разнесут по домам… А директор школы?! О!)
– Да кто же тебя научил? Отвечай, негодник!
И загоняли мать по каким-то неизвестным ему учреждениям. Потому что ещё владычествовал Сталин, и потому что Евдокия Семёновна поисповедовалась не только перед декольтированным лысиной директором, но и в тот же Божий день – едва дождалась сумерек! – проинформировала о чрезвычайном происшествии своего мужа, долговязого водопроводчика, ходившего по городу с гаечным ключом в руке. Встречая знакомых, кланялся приподнимая кепку со словами:
– Моё почтение!
Рассудили дождаться из командировки деда, ибо от матери, таскающей цветы в клуб госторговли гастролёрам-певцам, толком добиться ничего не смогли.
Когда дед был дома, внук спал с ним на одной кровати. Глава семейства храпел. Потом затихал. И вдруг орошал комнату хрипом.
Мальчик цепенел от страха.
Чудилось: дед вот-вот умрёт. Струной отпрянув в угол, прислушивался: дышит ли?.. Дед рассказывал, что когда умрёт, его заколотят гвоздями.
Неужели в руки, ноги, вгонят большие, толстые, жирные от масла (чтоб не ржавели) гвозди?
А уж дед поглядывал в окна. Как несут по улице покойника под марш поляка Шопена, так и сигает к стеклу. И смотрит, смотрит. И глаза сухо блестят. А потом откинется на гугнивый диван, уткнётся в газету, высоко подняв её к лицу, так что даже седой бобрик – причёску «под Керенского» – не видно…
Во дворе у них жила Фроська. Ещё крепкая, лет за семьдесят. Раз летом поругалась с соседкой, препираясь из-за вишнёвых ягод, кому рвать с дерева у неё под окном, а осенью пошла эта самая вишня из её горла кровью; захирела, слегла. Тяжело сопела в своей конуре под образами, в полутьме, с прикрытыми ставнями…
Юркнули к ней парень и девка с другого конца улицы. Давай клянчить у родичей икону Спаса на горе Фавор, чтобы тайком загнать коллекционеру.
Запнулись на пороге и спросили шёпотом:
– Что с ней?
Фроськина невестка накрашенными губами тем же шёпотом пророкотала:
– Рак.
Полезли к образам.
Фроська заворочалась, через плечо прохрипела:
– Не трожь…
Через неделю угомонилась в розовом гробу. Подле неё в саркофаге лежала срезанная ножом с дерева тонкая жердь с белыми пятнышками – следами удалённых веток, похожая на свирель с дырочками, а вовсе не на аршин, которым снимали с её тела мерку для гроба.
На похоронах маячил выбритый до глянца Фроськин сын в подполковничьем мундире. Таращил глаза на бородищу молодого нервного дьякона; вместе с хиленьким попом и двумя хористками из Афанасьевской церкви, тот отпевал почившую. Когда грянул час последнего целования, родня и близкие, пригвождённые невзгодами, гримасничая, морщась, лобзали бумажный венчик на челе покойницы. Один мужик, уже подвыпив, гаркнул, перепугав жидкий хор и детвору:
– Ну, тётка, с Богом!
Дьякон махал над гробом кадилом, чем-то напоминающим небольшую гирю настенных часов-ходиков в квартире бессменного секретаря парторганизации вагонного депо.
Дед вернулся с похорон Фроськи, дерболызнул чарку водки:
– Царство Небесное копачам!
Нет, встречаться с ним после командировки, нынче утром, внуку явно не хотелось. И, когда в коридоре прояснились вкрадчивые шаги, кто-то вышел от молодящейся соседки, он, тихо выскользнул из постели, и, как солдат по боевой тревоге, оделся за минуту. Схватил портфель – и к двери. Стараясь не греметь, чтобы не разбудить спящих женщин и шестилетнюю сестру, нажал на медную ручку, уже надраенную мелом к приезду деда. Из-за непокорной и ехидной двери у внука с дедом возникали свары. Особенно зимой, когда январь выманивал мальчишку на свежий воздух драться в снежки. Дверь делала вид, будто полностью закрыта. Но дед чувствовал, что в его кости, ночевавшие в предках столетие назад у костра в таборе, просачивается предательский холод. Старик устремлялся к двери:
– Ну конечно: щель! Опять не закрыл… Вот я тебя! Вернись только, шельмец!
Фальшивомонетчику удалось без стука выбраться во двор, где спустя четыре года он… выстроит театр.
Театр? В провинции, выжженной войной и солнечным зноем?
Он будет представлять собой характерный для романтиков тип разностороннего художника, совмещая обязанности директора, актёра, драматурга, режиссёра. В труппу вольётся детвора, выросшая беспризорными лопухами на лоне еврейских кастрюль, кацапских клопов, туго закрытых дверей зубного техника, дощатых сараев, каменного колодца с протухшей водой в середине двора.
Рядом сломают дом. Старые, но ещё крепкие доски, гнутые венские стулья о трёх ногах, костыль с распоротой ватной подушечкой, пыльная шляпа, изношенный салоп, всё тряпьё пригодится для первой в уезде драматической сцены. Подростки сколотят помост, натянут кривую проволоку для занавеса из латанных простыней.
И прилетит к ним не чеховская чайка, а опять повестка к его матери в милицию.
Играя под открытым небом, дедов наследник будет ставить пьесы, выдуманные им самим. Перекраивая сказки Андерсена, станет преображаться в стойкого оловянного солдатика, в пляшущую ведьму. Конечно, не останется без внимания и близкое прошлое: партизаны, фрицы, бинты, винтовки. Оружие у босоногих поклонников Мельпомены будет настоящее. Не то, что игрушечные пистолеты из магазина, да их и не купить, денег нет. Зато разжиться оружием можно было на свалке близ железнодорожного тупика, где ржавели, дожидаясь отправления на переплав собранные с полей сражений исковерканные автоматы без прикладов, пулемёты без спусковых крючков.
Пригибаясь, прячась за вагонные колёса, воришки выдёргивали из кучи металла остов «шмайсера» или ствол «максима», задавая стрекоча с трофейной пасеки под ругань сторожей и смех рабочих.
Самодельная афиша с фотографиями артистов ДДТ (Детского Драматического Театра, сокращённое название которого бюргеры остроумно путали с аббревиатурой дуста для травли клопов, тараканов и прочей нечисти) на воротах дома измочалит душу удивлённой улицы, сгоняя обывателей с зачаженных квартир на любопытные эксперимент – спектакли.


