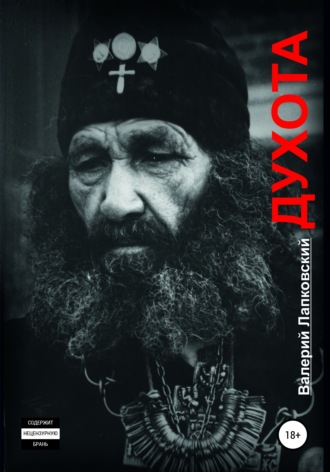 полная версия
полная версияДухота
Воняет сивухой в углу самогонный аппарат.
Маня битый час клянчит:
– Дай выпить!
– Нет, ты должна. Ещё за прошлый раз не рассчиталась.
– Дай.
– Нет. Иди прочь.
– Дай.
– Нет.
– Ну вот шапку мою возьми. Из меха.
– Нет!
– Дай!.. Я тебе тайну расскажу.
– Да зачем мне твоя «тайна»?
– Ты послушай… Дай!
– Нет.
– Я тебе открою, как с твоим попом спала!
«Алёша Попович» аж на кровати сел, свесив ноги на пол:
– Ну, за то, что удачно сбрехала, – расхохотался, – давай стакан!
И налил.
Проглотила, скривилась, утёрлась, поплелась…
Коли Маня застукает меня, будет волочиться за мной по всем улицам, площадям, закоулкам, приставая с расспросами и комплиментами. Чтобы здыхаться от неё, ныряю на остановке в подоспевший автобус. Эге! Поклонница, что злая карма, тут как тут!
– Я поставлю Богу свечку:
У меня сегодня течка!
– горланит Маня на весь салон, подтверждая слова Платона: Эрот делает каждого влюблённого человека, сколь бы он ни был образован, непременно, поэтом.
В квартирке Мани около пышной перины зачехлён на полу розоватым кружевом уютный гроб.
– Что это? – оторопев, спрашивает священник, нанятый освятить жильё прихожанки.
– Это наш вечный дом, – любезно разъясняет владелица.
И провоцирует батюшку вопросом, можно ли держать такие книжки?
– Какие? – недовольно гудит протопоп.
– Ну вот… Чёрт вызвал на дуэль пахаря… По условиям поединка (довольно аутентично повествует Маня) победит тот, кто оцарапает другого, может, даже до смерти.
Земледелец загрустил. Жена:
– Не дрейфь. Спрячься!
Приходит прохвост:
– Где соперник?
Баба охает, спиной на полу:
– Он меня мизинцем царапнул внизу живота. Помираю!
И юбку закинула до подбородка. Чуть увидел бес, что разодрал муж жене, кинулся изо всех сил наутёк!
– Мерзость! – изрекает протоиерей устами истребителя евреев эсэсовца Эйхмана (потомка Авраама, Иакова, Исаака), которому перед казнью на виселице дали в камеру почитать «Лолиту» Набокова, притаившуюся кастетом для защиты от критиков в бархатном кармане мемуаров прозаика.
XI
Раньше волосы на моей голове отливали чернотой пиратского флага, а теперь они – белое полотнище, вывешенное из окна полуразрушенного здания в час безоговорочной капитуляции.
Эскулапы лапают мой живот, пальпируют, расспрашивают, но толком ни гу-гу, очевидно, щадя нервы больного.
Температура, низкий гемоглобин, переливание крови, обследование в течение двух недель, покалывание в кишечнике… Бросает в жар подозрение: рак?!
В палате для тяжело хворых… дождь стучит по кромке железного навеса над окном: …стук из нутра подводной лодки; застряла на дне; моряки колотят в бок субмарины, чая их услышат, спасут…
Боюсь ли предстоящей операции?
Дождь тарахтит… Страх сыпет банальности: …Миры как брызги… Жизнь? Трёхмиллионная доля секунды… Из желчного пузыря вселенной мчит к Земле камушек, после свидания с астероидом ничего не останется… Мы разрушаемся, когда гибнет этот мир, и возрождаемся, когда возникает новый?
Всё повторяется?.. И в новом мире я опять буду за городом молотить цепом колосья пшеницы, разостланные на рогоже, а вечером залезу с одноклассниками под эту же рогожу и буду спать на подсобном участке интерната?.. Ночью грянет гроза, ливень, острые молнии. В лицо и шею вопьются остюки… Спрячусь с головой под брезент, захнычу, а утром буду осыпан насмешками мальчишек:
– Трус! Дождя испугался?
XII
Из коридора в палату врывается свирепый скрип… тоскливая перекличка ржавых колёс… И где они взяли такой драндулет для вывоза свежих трупов?
– Когда умру, – открыла покойница навестившей её перед кончиной подруге, – полгорода придёт посмотреть, положили меня в гроб плашмя или раком!
И правда, пришли многие.
Служитель алтаря лязгает кадилом вокруг саркофага.
Дочь умершей жмётся к бритоголовому, похожему на боксёра, мужу. Радуется обилию публики, тому, как помпезно, с батюшкой и певчими, провожают её мать кумушки и сплетницы, которые терпеть не могли языкатую, да и она их едва переносила, общаясь по долгу службы в бюро экскурсий.
Из разверстой могилы выскакивает поминальный обед в ресторане с плохо сваренной кутьёй.
За столом напротив трещат о делишках две сцыкухи, не обращая на меня никакого внимания, и я думаю об отсутствии пола у рабочих пчёл.
Изрядно выпив («укусил пирожка да за пазуху: помяни, Господь, бабушку!»), пробую под столом полюбезничать рукой с ногой соседки…
XIII
С каждым днём подкрадывается миг, когда меня помчат на каталке голого, с забинтованными до колен ногами, под простынёй в операционный блок.
Сиропистый и блаженный, по заверению отцов Церкви час, столь близкий Баху в священной песне «Приди, сладкая смерть», шокирует хирурга, коллекционирующего декоративные фигурки скарабеев, сопровождавших мумии фараонов. Александра Алексеевича восхищает искусство бальзамировщиков, умело рассекавших тело и отлично разбиравшихся во внутренностях, но его пугает возможность самому очутиться на операционном столе. Он порабощён игом примет: если пациент пожалует в операционную не в тапках, а в носках (да к тому же продранных, как у неожиданно позванного к обеду в зажиточном доме священника, который, сняв обувь в прихожей, шкандыбает, стесняясь дыр на пальцах) или… если сорвётся на кафельный пол звонкий скальпель… Трагический финал резекции подвергает медика подозрению, даже обвинению в невольном убийстве, и… коли он священнослужитель типа архиепископа Луки (в период войны у него, несомненно, случались летальные исходы), то, согласно церковным канонам, подлежит извержению из духовного сана, чего Лука благополучно избежал и проник во святые, став утешением для тех, кто ему молится, кому в коридоре переполненного взъерошенными людьми Пенсионного фонда льстит объявление:
Пособие на погребение выдаётся
без очереди
После ампутации из вуза я был так затравлен невзгодами со всех сторон, что единственной отдушиной, помноженной на четверостишие Вийона:
Я, Франсуа, чему не рад?
Ждёт скоро смерть злодея,
И сколько весит этот зад
Узнает скоро шея,
была присказка Ницше: никто не доживает до следующего дня без надежды на самоубийство.
Определил даже дату передислокации в лучший мир, но добиться успеха искушавшему меня сатане (лучшая мужская роль второго плана, премия «Оскар») не удалось.
Некая особа отвела в сторону ген самоубийства в тот вечер, когда рассчитывая переселиться на Елисейские поля: пил с этой (судьбой, что ли?) в погребке на Невском проспекте острую смесь водки с шампанским, а потом на улице глядел вслед, как она удалялась восвояси, козыряя задницей, плоской, точно игральная карта.
Благодаря случайной, мимолётной встрече с ней, остался жив, хотя после опять было до чёртиков тяжело и душно, как теперь перед ожиданием надвигающегося наркоза.
XIV
23-го сентября меня, вытянутого струной на тележке, заталкивают в лифт (расправа с недугом этажом выше)… Вернусь ли в палату? Комизм мировых катастроф…
Внезапно… надо мной склоняется непонятно как оказавшаяся рядом женщина.
Целует в губы!
Это сногсшибательно, как у Лотреамона: свидание на операционном столе зонтика и швейной машинки!
Это путает ужас от предстоящего и восторг от случившегося!
Это врачиха из физиотерапевтического отделения!
Мне она немного нравится, встречал в коридоре, и нечаянное лобзание внезапно приоткрыли, что и я ей не безразличен.
Однако, не давая опомниться, тащат к анестезиологу. И та, – летучая мышь, что продрав кожу, впускает в жертву обезболивающую слюну и пьёт кровь, – заводит со мною, чтобы отвлечь от гнетущей процедуры, тарыбары-растабары о рыбной ловле, люблю ли охотиться с удочкой?
– Да, на такую пиранью, как вы! – хочу сделать ей комплимент и… просыпаюсь в реанимационной комнате.
Молоденькие медсёстры ловко вытаскивают из-под меня, нафаршированного трубками для отвода мочи и прочих жидкостей, запачканную простыню, стелют ежедневно новую, словно в пятизвёздочном отеле. От их свежеснежных халатиков веет жасмином химстирки. Одна из них, чистюля, дважды в сутки принимающая душ, целую неделю спит, не меняя бельё в постели, где почивал любимый бойфренд, уехавший в длительную командировку.
Жуткий электрический скат тяжёлым хвостом сечёт по глазам и нервам: свет не отключают ни утром при обходе больных холёной профессурой, пахнущей хорошо сигаретами, дорогими дезодорантами, умеющей по биению пульса распознать двенадцать недугов; ни в полночь при мягком ворковании медсестёр с пригожим фельдшером в уголку, где вместе с ними дежурит картонный образок на стене: целитель Пантелеймон, чью поцарапанную икону я отнёс из церкви на реставрацию знакомому художнику.
– Пантелей вам это не забудет, – пообещала, прислуживая в алтаре, болящая монашка.
В реанимации так скверно, так сильно периодически тошнит, что, не выдержав, прошу настырную медсестру изменить отношение ко мне, посулив сотню долларов, если вовремя подаст тазик или влажную салфетку для сохнущих губ.
– Вы не один! – отрезает пренеприятная девица (зубы в промежности). – Я занята.
Наконец переправляют в обычную палату.
В туалете отшатываюсь от зеркала: глаза столь страшные, невозможно смотреть! …Трижды в неделю на стол под общий наркоз… …А теперь по воле Зевса в белом халате каждый день клюёт моё тело – коршуном печень Прометея – целебная перевязка.
В палате двое выздоравливающих беспрестанно мелют языками обо всём на свете: о политике, ценах на харчи, лекарствах, погоде, врачах, работе, жёнах, Горбачёве, внуках, журналах, Сталине…
Одного, слава Богу, выписывают, и тот, кто осиротел без трёпа, удручённо шастает, скованный немотой.
– Иисусе претихий, монахов радосте, Ангел благого молчания! – даже тишина помыслов обволакивает меня действием благодати Святаго Духа.
Но вот приходит проведать моё состояние племянница с крохой. Девочка оседлала стул и молча разглядывает необычный опрятный интерьер.
Болтун вертится туда-сюда, накалён безмолвием. Не выдерживает:
– Барышня, сколько вам лет?
Смущённо отвечает.
И понеслось всё сызнова, вскачь: где ты учишься, что предпочитаешь, где живёшь, слушаешь ли маму, папу, «Би-би-си», как твоё имя, в какой школе, в каком классе?
Табуретом бы в мерзавца! Но вся клиника протыкана, прострочена сотнями электромагнитных спиц, излучением телефонов, рентген-аппаратов, в кармане каждого врача и пациента – мобильник. Не больница, а УЗИлище!
И нет тишины…
Уединяюсь на лестничной площадке и вдруг встречаю женщину (алый цвет по лицу расстилается, белый пух на груди рассыпается) да, ту самую, что отважилась перед операцией меня поцеловать. Застенчиво спрашивает:
– Вы уже ходите? И уже улыбаетесь?
– Когда вижу вас!
XV
Спустя полмесяца Александр Алексеевич («врач же хитростию и внешней премудрости мног») оборачивается у двери ординаторской, тычет в меня пальцем:
– Симулянт! Тунеядец!
– Реанимать вашу! – смеясь, парирую перлом, подхваченным у санитаров, выпад хирурга. – Дохтур, золотые слова!
И спешу к начальнику лекарей (принимавшему участие в моём выживании), дабы отблагодарить, будто Сократ Асклепия петухом, бутылкой шотландского виски в бумажном кульке.
Над входом в комнату главврача – новенькая икона великой княгини св. Елисаветы, убиенной большевиками, а внутри кабинета пышет под стеклянным колпаком чуть потёртое бархатное знамя с золотошвейным тотемом Ленина, багряное, как подпись менструальной кровью на договоре женщины с дьяволом во время праздничного шабаша на Лунной горе.
XVI
В последние две недели главу нового государства мучила страшная бессонница. Его раздражали не только секретные сводки с фронта, телеграфные вопли голодных губерний, головотяпы из правительского аппарата – выводил из равновесия даже стынувший на столе стакан бурачного чая с ломтиком хлеба на тарелке. Барахлил телефон, лифт не работал, пакеты из будки у Троицких ворот вовремя не приносили!
Как ни странно, после приёма многочисленных делегаций (от чего ломило виски) он, приняв представителей бывших политкаторжан, с умилением, даже с лёгкой кручиной, вспомнил свою первую ссылку и невольно сравнил лихорадочную деятельность нынешней жизни с теми днями, когда он не был, как писали в старину, лыс, точно линяющий орёл…
Дешевизна в глухомани, куда его загнали, была поразительная: восемь рублей – комната, кормёжка, стирка и чинка белья. Телятины до отвала, молока и шанежек вдоволь. Частенько хозяева резали для него барана. На всё это государственный преступник получал денежное пособие от царских властей.
Он завёл собаку, выучил её делать стойку, таскать сумку и стал с нею промышлять зверя. Бил зайцев, тетеревов из новенького тульского ружья.
Растолстел, подлечил нервы, обеими руками рвал щавель.
– Живу я по-прежнему безмятежно! – писал дорогой маменьке в далёкую столицу. И просил прислать соломенную шляпу (парижскую, чёрт возьми!) и лайковые перчатки.
Просьба свидетельствовала о его физическом благополучии, о том, что под влиянием увеличивающегося светового дня в его бунтарской крови накапливаются половые гормоны. В соответствии с полученной от рождения генетической программой он в определённом возрасте (а возраст сей уже подкатывался к тридцати) должен был обзавестись собственным участком (домом) и охранять его от прочих взрослых самцов. Рано или поздно здесь должна была появиться самка.
И она появилась.
Приехала… Глаза чуть навыкате, высокие шнурованные ботинки.
Товарищи по партии звали её: Минога. (Эта рыба имеет, кроме глаз, сбоку ещё по одной ноздре и по семь жаберных щелей.)
Такова была её подпольная кличка.
Ему нравилось, что обручальные кольца у них из обыкновенной меди. Их выковал местный кузнец. Это вызывало в памяти железную корону, которой венчал себя Наполеон. Да, хорошо, что из меди, а не из серебра или золота!
– Из золота, – усмехнулся про себя жених на вопрос попа в церкви «Почему кольца из простого металла?», – мы станем нужники строить!
А как подвыпили за свадебным ужином, то без обиняков брякнул, грассируя, ссыльному поляку, сиявшему в белом подворотничке:
– Происшедшее сегодня похоже на сказку. Но русская сказка, батенька, удивительно ядовита! Какой-нибудь её герой, как правило, архидурень, взваливает на плечи в интересах домостроительства Божия дверь спасения и прёт в чащобу жизни, воображая, что тащит массивный крест на Голгофу.
– Ха-ха-ха! – хмелели от острот жениха гости.
– Бедная Россия! – весело вздыхал молодожён. – Она всегда носит старомодные, выкинутые Европой шляпки!
Когда гости разошлись и супруги остались одни, он, лёжа на взбитой перине, сказал, блаженно, мечтательно прищурясь, будто нащупывая в туманной дали видимое только ему:
– Всё общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы…
Минога с жаром прижалась к мужу, и тот понял, что научный факт причинной связи между нагреванием железного стержня и его удлинением содержит в себе чувственную фиксацию повышения температуры и увеличение размера штыря…
– Философия и изучение действительной жизни так относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь! – процитировал он как-то Маркса, когда Минога, отрезав подол своей старой юбки, латала штаны, в каких супруг ходил на охоту. Она была похожа на лисицу, которая отгрызает себе лапу, попав в капкан.
Чмокнув Миногу в щёку, Бычий Хлоп – так прозвали его сокамерники за выносливость и стойкость в тюрьме – нахлобучивал котелок и, помахивая тростью, насвистывая мотивчик из Вагнера, отправлялся к знакомым на вечеринку.
– Мне, – говорил близким, – вообще шлянье по разным народным посиделкам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров и пассажей!
А супруга садилась к столу у окна, слушала щебет соседской шалуньи:
– Дедушка! Ты видел, как воробей умирает? А я видела! Он лежал и ртом вот так делал, а изо рта кровь. Потом отполз к стене, пожил ещё немножко и умер. Мы его палкой трогали – не шевелится…
Минога угрюмо вздыхала и принималась писать ответ свекрухе, спрашивающей, не намечается ли прибавление в их семействе:
– Нет, пташечки всё нет. Не прилетела.
И перескакивала на другую тему:
– Скоро праздник. Муж сердится, но я всё равно буду красить яйца и варить пасху!
Много воды утекло от той ссылки до того часа, когда помятые супруги вернулись из эмиграции в Россию. На перроне их встретили гудящая толпа, знамёна, почётный караул, духовой оркестр, прожектора, освещающие путь от вокзала до дворца балерины Кшесинской, где им отвели временную резиденцию. Бычьего Хлопа водрузили на пыхтящий броневичок и с триумфом провезли по взвинченному городу, словно императора на слоне.
С той напряжённой митинговой страды начался у него чад бессонницы, от которой теперь, после захвата власти и постоянно возникающих государственных проблем, не было никакого спасения. Если сон сжаливался над ним и приходил, то сны… сны… мучали, не давали передышки… То раздавливаешь дверью прищемлённую крысу, то шлюха тебя нагишом в ванне моет!
За день до рокового события Бычий Хлоп долго ворочался под утро в постели, пытаясь сквозь тягостное полузабытьё припомнить, подписал ли декрет об обеспечении республики банями. Никак не мог вспомнить… Лез под руку чудесный грузин с осанистыми интонациями… Вставал перед закрытыми глазами скандальный второй съезд партии… Он тогда вёл себя бешено, хлопал дверью, возмутил всех своим поведением. Ну что же, господа проститутки, из этого следует?
– А то, что съезд как две капли воды вышел смахивающим на сборище подонков в «Бесах» нелюбимого вами Достоевского!
– Э, батенька, вы этим сравнением блоху ущемили, не меня!
Бычий Хлоп вспомнил, как совсем ещё недавно, скрываясь от ищеек Временного правительства, он с большим искусством пользовался гримом и париком. Его фотопортрет той поры сейчас мог бы висеть в гримёрном цехе столичной киноиндустрии, где замоскворецкие барышни тачают накладки и шиньоны для актёров.
Опасаясь ареста, он день и ночь обмозговывал план экстренного вооружённого восстания, поглядывая из окошка подпольной квартиры на водосточную трубу, прикидывая, как в случае облавы удачно сверзиться по трубе вниз и нырнуть в дыру в ограде…
– Ничего не вижу смешного. Ведь драпал же апостол Павел из Дамаска в корзине, спущенной с городской стены!
Дал указание высадить несколько досок в заборе…
После восстания Бычий Хлоп засел в здании Института Благородных девиц, облюбовав себе кабинет за дверью с табличкой «Классная дама».
Классную даму революции охраняли два усатых кавалера из Красной гвардии с трёхгранными штыками на длинных винтовках…
Почему хорошо знакомый ему ссыльный задолго до революции ухлопал себя пулей из револьвера?.. Заели сплетни?.. С кем теперь консультироваться по вопросам философии?.. Ни один сколько-нибудь образованный или сколько-нибудь здоровый человек не сомневается, что земля существовала, когда на ней не могло наблюдаться никакой жизни, никакого ощущения, никакого большевика (фу, какое бессмысленное, уродливое слово), никакого члена нашей партии и самого меня!
– Шваль, пустолайка! Жалкий прихвостень! – выпалил он вслух в адрес профессора-медика, на днях пытавшемуся ему доказать обратное…
Умывшись, одевшись, Бычий Хлоп вышел в коридор, чтобы подняться на второй этаж. Было тихо. Из комнаты Миноги не доносилось ни звука.
Каменную лестницу на второй этаж мыла баба.
Здоровенная деревенская эмансипе.
Стояла задом.
Бычий Хлоп в душе был немного художник, и поэтому не мог не заметить, что отклонение от золотого сечения в бабьих формах составляло всего лишь четыре тысячных доли процента.
Формы загораживали путь наверх.
– Товарищ, – прищурился Бычий Хлоп, – как теперь, по-вашему, лучше при новой власти, чем при старом правительстве жить?
Уборщица выпрямилась, смахнула пот с лица рукавом. Смерила плюгавыша спокойным взглядом (она тут работала недавно, мало кого знала в лицо).
– А мне что, платили бы только!
Бычий Хлоп, сконфузясь, засеменил вперёд. Потом обернулся:
– Как вас зовут?
– Олимпиада.
– А по отчеству?
– Ну, Олимпиада Никаноровна… Журавлёва.
– Очень приятно. Будем знакомы.
И, назвав себя, юркнул в кабинет от огорошенной домработницы. Через минуту в кабинете вился, как таракан перед гусем, недреманный секретарь.
Бычий Хлоп радушно поздоровался с ним и сказал:
– Вы только подумайте, до чего правы древние ваятели!
Секретарь изобразил на лице почтительное внимание и подумал, что вождь говорит о бронзовой фигурке на письменном столе. То была волосатая горилла с оттопыренными ушами. Одной лапой обезьяна почёсывала выпуклую лодыжку, другой держала череп человека, чуть с удивлением всматриваясь в пустые глазницы. Безделушку подарил врагу капиталистов американец-миллионер, сказав, что по мнению африканского пролетариата, череп предка обладает магической силой и даёт тому, кто им владеет, власть почти над всем миром.
Но вождь, видимо, говорил о чём-то другом.
– Древние лепили из глины условно трактованные фигурки: пышный бюст, бёдра, объёмистый живот и – почти полное отсутствие головы! Или, если она была, то едва намечалась… Давайте бумаги. Что у вас?
Быстро пробежав глазами несколько листов, глава государства уставился на секретаря в упор:
– Расстрелов мало. Я – за расстрел по такому делу! Что с этими… ну, теми, что в Екатеринбурге?
Почёсывая кривым мизинцем кончик волосатого носа, секретарь вторично доложил, что вся семья, включая государя, государыню и детей, согласно постановлению провинциальных властей, пущена в расход.
Профессор-медик, к которому Бычий Хлоп обратился вчера за средством от бессонницы и с которым он чуть не до хрипоты спорил о текущем положении в стране, на прощанье, после паузы, вымолвил:
– Кант считал… убийство монарха, отрёкшегося от престола, преступлением… остающимся навеки… и совершенно неизгладимым… ни на этом, ни на том свете…
– Да что вы носитесь с Кантом, этой кабинетной тундрой! – взорвался Бычий Хлоп. – Вы лучше у моей жены спросите, как бы она расправилась с ним!
Профессор знал, что пожилой узкогрудый Кант в истрёпанном, однако, опрятном сюртуке от такой дамы, как Минога, бегал бы с одной конспиративной квартиры на другую… Канту не давал покоя крикливый петух, которого сосед ни за какие деньги не хотел продать (в глубине души возмущаясь, что философ намеревался отправить крылатого вокалиста в суп)… Канту мотали нервы тюремные лицемеры – уголовники, распевавшие во всю глотку псалмы в кутузке, торчавшей рядом с домом, где жил мало кем понимаемый мыслитель… Не то евреи, не то пруссаки, тающие от истомной признательности к великому современнику, поднесли земляку, кажется, к шестидесятилетию, аляповатый брелок: на одной стороне медали – сутулый профиль сухопарого кенигсбергца, на другой – силуэт падающей Пизанской башни (весьма двусмысленный символ, учитывая старость отца «Критики чистого разума»)… Но это всё же было лучше, чем перспектива попасть в руки живой супруги русского диктатора, вскользь и всего, видимо, разок что-то читавшего из сочинений Канта.
Сама Минога вряд ли когда открывала книги по трансцендентальной логике. Но инстинктивно смекнула, что опусы Платона, Канта или Шопенгауэра рядом с художеством мужа будут вне конкуренции. И мигом сделала мат пешкой (Бычий Хлоп всю жизнь до азарта любил играть в шахматы), запретив печатать в стране труды гносеологических жуликов – великих греков и немцев. Запустила в 150-тысячный тираж в качестве душеполезного чтения для народа протоколы о судебных процессах над оппозицией новому режиму, иллюстрируя нетривиальную ситуацию, когда два кота стоят друг против друга, раздумывая, как бы вцепиться в рожу противника.
От обывателя Миноге не было покоя. Выйди она сейчас с мужем погулять, худо-бедно, а всё же увидишь, как по замусоренной улице маршируют дети. У каждого в руках шест с дощечкой со словом «Труд». Не «Бабочки», не «Али-баба и сорок разбойников», не «Пузыри в лужах», а «Труд».
А раньше вместо такой картины – куча домохозяек на углу, и стоит им увидеть Бычьего Хлопа с Миногой, так хлебом не корми – дай поорать:
– Плешивый! Где ты взялся на нашу голову со своей пучеглазой? Из-за вас совсем жрать нечего!
Баб арестовывали. Ненадолго. Держали и выпускали.
А то был ещё случай. Сидел недалеко от дворца на улице крестьянин. Бычий Хлоп цап Миногу под руку и к нему: мол, как жизнь, товарищ?


