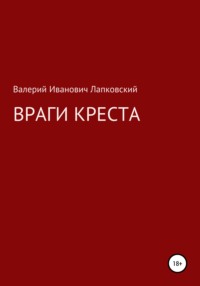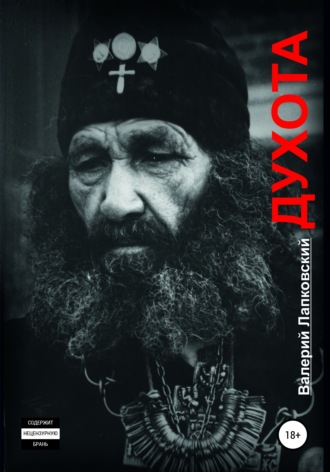 полная версия
полная версияДухота
Но бывало и так, что, опьянённая собственной силой, земная власть обоготворяла себя, восставала против Единого Владыки вселенной, скатываясь до сатанократии. «Но такая извращённая власть сама себя обрекает суду Божию, который неизбежно сокрушит её в назначенный день: связав своё дело с силами зла, она в конце-концов и падает вместе с ними» («Словарь библейского богословия», Брюссель, 1974).
Именно это проповедовал Св. Иоанн Креститель. Именно за это казнён.
В день его памяти благочестивые люди не берут в руки ножа.
Даже хлеб режут загодя, накануне.
Аминь.
Неподкупная
«Благословен Тот, Кто соделал смерть неподкупною,
и она равно поемлет и добрых и злых»
Преп. Ефрем Сирин
Когда человек отходит в вечный дом свой, догорая на смертном ложе, мы почти все считаем правилом хорошего тона обманывать его, утешать надеждами на туманное выздоровление или прибаутками о том, что он, по крайней мере, протянет ещё лет пять. Мы врём в глаза умирающему, как это делал он другим, и как, не исключено, будут лгать и нам, когда нагрянет «гостья немилая и нальёт нам горькую чашу смертную».
В современной философии стало общим местом то, как «пастух бытия» увёртывается, бросается наутёк от мыслей, намёка на смерть. Но жизнь человека есть бытие к смерти. Смерть – это наша самая наиреальная, самая сокровенная неизбежность. «Смерть – велика. Мы все принадлежим ей с улыбкой на устах и, когда мним себя среди жизни, она может внезапно зарыдать внутри нас» (Р.М. Рильке).
Человек маскирует своё жуткое знание о смерти. Повсюду не принято всерьёз обращать внимание на гробовой финал нашей суеты. Мало ли умирает? Как будто нас это не трогает. Мы тщательно стремимся забыть, заглушить, уничтожить в себе предощущение конца. Размышления о смерти порой даже считают не то слабостью, не то трусостью, не то психической неполноценностью. Грохот будней напористо требует от нас равнодушия, животного спокойствия перед зевом могилы. Вокруг только и делают, что занимаются бизнесом, кто торгует семечками, кто качает нефть. Люди старательно ускользают от разговоров о потустороннем, маневрируют так и сяк, ибо будущее неотвратимо связано с конкретностью исчезновения любого из нас.
Каждый умирает в одиночку. Предстоящая смерть обособляет меня, вырывает из монотонного потока обыденности, стадного образа жизни. Смерть всегда неопределённа, всегда рядом. Проснёшься ночью, и она вот тут, близко. И не понимаешь, зачем живёшь, зачем работаешь, «зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное»? Зачем отдельный человек подменяет историю своей жизни заботой о мировой истории, о будущем, о том, что по сути дела никого из ныне здравствующих не касается. Ведь подлинная история – это история личности, от рождения до смерти.
Церковь всегда была повёрнута лицом к смерти, ибо центр христианства – смерть и Воскресение Христа. Церковь беспрестанно твердит: «Чада, поминайте денно и нощно безвестный и трепетный час смерти».
Задумывались ли вы о том, почему на кладбище у могил нередко вкапывают в землю небольшой стол? Понимают ли делающие это ради выпивки за помин души усопшего, что в древние времена вкушение пищи имело религиозное значение? Бог – Податель жизни и хлеба. Ритуал объединения людей за одним столом превращался в обряд священных уз как между сотрапезниками, так между ними и Богом. Для христиан такой трапезой является Таинство Причастия, когда под видом хлеба и вина верные принимают в себя истинные Тело и Кровь Спасителя. Таинство Причастия – не только залог благодатного прощения, очищения и приобщения к вечной жизни, но и память об усопших, в честь которых из просфоры, поданной в алтарь, вынимается частица и опускается в Чашу с Кровью Христа. Первые христиане служили обедни на могилах своих братьев, замученных за веру или мирно отошедших ко Господу с надеждой и упованием. Здесь отчётливо просвечивает связь между Таинством Причастия и молитвенным общением с мёртвыми. «Древнерусскому человеку вообразить себя на том свете без заказного поминовения на земле было так же страшно, как ребёнку оставаться без матери в незнакомом пустынном месте» (В. Ключевский, «Курс русской истории», т.2, М., 1973).
Литургию на Руси называют «обедней». Тем самым подчёркнут священный характер общей трапезы, общей еды (в переводе с греческого слово «литургия» означает «общее действие»). Обедня – поминальный пир, где живые приобщаются к той же Божественной снеди, которой приобщались и мёртвые. Более того: частица, вынимаемая из просфоры за упокой и опускаемая в потир с Кровью Христа, как бы напояет и того, кто находится в потустороннем мире. Таинство Причастия сочетает живых и мёртвых. Вот почему, заказывая заупокойную обедню, необходимо самому при этом причащаться. Да обрящем милость и благодать со всеми святыми от века благоугодившим Богу и со всяким духом праведным, в вере скончавшимся!
Аминь.
Серафим Саровский
Подарил мне знакомый батюшка красивый узкий поясок. Было это в ту пору, когда мне ещё не исполнилось тридцать лет. Я обрадовался, потому что давно мечтал о таком кушаке. Поясок представлял из себя пасхальную красно-зелёную ленту с кистями на концах, с вышитыми по всей длине словами: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». Я не придавал сей надписи особого значения, поскольку, к стыду своему, житие и подвиги Саровского старца в то время не знал, так, кое-что слышал. Поясок мне очень нравился, я его тщательно берёг, надевал только по праздникам.
Между тем, обстоятельства складывались так, что стать священником, несмотря на все мои старания, я никак не мог. Ездил из одного города в другой, обивал пороги архиерейских покоев и гражданских властей, служил иподиаконом в нескольких епархиях, но удостоиться рукоположения в духовный сан по разным, вполне понятным мне и тайной политической полиции, причинам было недоступно.
И вот, почти без всякой надежды на успех, едва не срываясь в отчаяние, попал в Курск.
И где, в каком храме, был возведён в сан священника?
В кафедральном соборе, в Сергиево-Казанской церкви, выстроенной родителями преп. Серафима Саровского, поясок с молитвой к которому я все эти трудные, тесные годы постоянно возил с собой!
Празднуя память Серафима Саровского, в молитвах не усыпающего за нас, грешных, мы, если внимательно всмотримся в свою личную жизнь и в то, что происходит в церковно-общественном бытии, неожиданно обнаруживаем знаки несомненного чуда и проявления Промысла Божия.
Преподобный Серафим родился в Курске, жил всего двести лет назад. Причислен к лику святых, благодаря усилиям благочестивейшего императора Николая Второго. Что необычно в этом стяжателе Духа Святаго, что привлекает к нему наши огрубелые сердца? То, что он отроком упал с колокольни и остался жив? Или то, что кормил в лесу медведя, как преп. Сергий Радонежский? То, что отвечал на приходящие к нему письма, не распечатывая конверт? То, что сам выдолбил себе из дерева гроб и держал домовину в сенцах? Или, наконец, что терпел притеснения от своего духовного начальства, со стороны игумена, который из-за собственной ограниченности не понимал, зачем подчинённый ему иеромонах то удаляется в дремучую чащобу и живёт в голой избе наедине с Богом, то прячется в затвор, в келью при монастыре. «Часто Божественное Провидение позволяет, чтобы примерные люди изгонялись из лона христианства в результате безудержных интриг слишком плотских людей», – сетовал в своё время отец Церкви Блаженный Августин.
Чем же всё-таки для нас ценен человек, который состарился над чтением Священного Писания, который двенадцать раз сподобился лицезреть наяву Пресвятую Деву Марию, которого церковная администрация даже спустя сто лет после его успения не хотела видеть в сонме святых, который всех приходящих к нему и нас сегодня приветствует тысячелетним возгласом: «Радость моя! Христос Воскресе!»?
Он дорог нам своим учением о стяжании Духа Святаго, одной из самых замечательных страниц православной мистики. Преподобный Серафим учил: «истинная цель нашей жизни есть стяжание Святаго Духа. Пост же, бдение, молитва, милостыня и всякое Христа ради делаемое добро суть средства для накопления Духа Божьего».
«Лишь только ради Христа делаемое добро приносит нам плоды Духа Святаго, всё же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего века нам не предоставляет, да и в здешней жизни благодати Божией не даёт».
Добро, ради Христа содеянное, всегда радовало Саровского чудотворца. Он был постоянно благостно спокоен и весел. Мы склонны осуждать человека, если заметим, что лицо его озарено в храме улыбкой. Непотребный смех, говорильня в церкви – кощунство, но радость и веселие во Святом Духе вытекают из глубины христианства, ибо оно жизнеутверждающе, соткано из всевозрастающей надежды, полно сильных переживаний, стремлений, восторгов, полно солнца! Преподобный Серафим наставлял: «нет повода нам унывать, потому что Христос всё победил! Веселие не грех, оно отгоняет усталость…, сказать слово ласковое, да приветливое, да весёлое, чтобы у всех пред лицем Господа дух был всегда весел, а не уныл был, вовсе не грешно». Здесь он созвучен ранним отцам Церкви, особенно Ерму, который в книге «Пастырь» писал: «Итак, облекись в радость – средоточие божественных наслаждений… Ибо всякий человек в радости творит доброе и мыслит справедливое, бросая себе под ноги уныние… Молитва унылого не имеет силы вознестись к престолу Божию… Итак, очисти сердце твоё от злого уныния, и будешь жить для Бога».
Говорят, Серафим Саровский как-то был в поле. Окинул взглядом Курское раздолье, колосящееся хлебом, перекрестил землю и сказал: «Никогда голода не будет».
Никогда не будет духовного голода на Курской земле и по всей России, пока сияют невечерним светом имя и дела убогого Серафима!
Аминь.
Нищие духом
«Блаженны нищие духом…»
С какой «нежной придирчивостью, трепетным беспокойством, упорным сравнением» всматривается человек в первую заповедь блаженств, дарованных нам Христом и звучащих на каждой литургии!
С одной стороны, Церковь – океан духа, россыпи духовного жемчуга, с другой – самое ценное в ней: голь перекатная, нищета духа. Кто отвалит нам камень от сей тайны? Как понимаем мы, христиане, первую строку блаженств и как относятся к ней люди, чуждые Богу?
Традиционное православное толкование первой заповеди сводится к тому, что верующий должен денно и нощно помнить пред Господом о своём ничтожестве. Человек – прах, трава, сегодня цветёт, а завтра сечётся и вметается в печь. Расстояние между Творцом и тварным созданием, впрочем, не такое, как между звёздными галактиками, а, скажем, как между горшечником и глиной.
Противники Церкви с раздражением заявляют: первая строка блаженств крайне унизительна для достоинства человека. Нищета духа трактуется ими не как рычаг смирения, а как духовная ограниченность, эмоциональная тупость, интеллектуальная недалёкость.
Чтобы разобраться, кто прав или нет, нужно помнить, что в христианстве всё необходимо расценивать с точки зрения троичности, вовлечённости человека в жизнь Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы.
Творение мира есть дело Божие, покоящееся на том, что Бог как бы совлёк с Себя Свою предвечную славу, как бы обнищал, умалил Себя, принизил, дав от преизбытка собственных сил бытие миру, противоположному чем Он Сам. Бог жертвует Собой, Своим Сыном ради созданного Им мира. Бог Сын, во всём послушный воле Отца, отдаёт Свою жизнь ради твари. Бог Святой Дух посылается в юдоль плача как Утешитель. Это обнищание, уничижение Себя Друг перед Другом, жертвенность в недрах Триипостасного единства нисколько не противоречит всеблаженству Господа: полнота блаженства распинается на кресте обнищания ради малых мира сего, подтверждая, что, если Бог есть Любовь, Он есть и Жертва.
Жертва Бога Сына в том, что Второе Лицо Пресвятой Троицы как бы забывает Себя и опознаёт Себя в посюстрононней действительности. Небесный Человек делает Себя, Своё «Я» единосущным с тварным созданием, внося в бытие Бога «тощее полубытие твари, и… ставит тварь как бы вровень с Собой» (Вячеслав Иванов, «Символика эстетических начал», собр. соч., т. 1, Брюссель, 1971).
Христос – Предвечный Бог – становится Богом, Который приемлет в Себя несовершенство мира, Он впитывает в Свою бесконечную жизнь конечные времена и сроки. Царь небес становится слугой, одним из жалких рабов Римской империи. Бог отныне объединён с нами чашей страданий. «Бог плачет над человеком, человек плачет над Богом».
В жизни Христа всецело воплощается блаженство, которое Он предлагает нам. Блаженство и нищета, как две стихии божественного и человеческого, неразрывно, нераздельно сочетаются в одной Личности Иисуса, возводя, возвышая слабейшее, человеческое в сферу высочайшего могущества.
Красота в облике Христа, нисходя на землю с дарами неба, знаменует вечное обручение Божьего духа с посюсторонним миром, становясь прообразом, обетованием грядущего преображения, как отдельного человека, так и Вселенной.
Но то, что в Богочеловеке является божественным снисхождением, в человеке должно быть восхождением (прот. Сергий Булгаков, «Агнец Божий», Париж, 1933). Для Христа нищета духа, уничижение Себя ради других – Его собственная жертвенная природа. Для нас же заповедь нищеты духа – дар Божий, задача, чьим решением становится каждая жизнь.
Первая заповедь блаженств нацелена против беспощадной конкуренции в кошмаре человеческой мошкары. Только тогда будет преображён падший человек, а вместе с ним и весь космос, когда в мире воцарится принцип обнищания, снисхождения одного человека к другому. Лишь тогда, по слову псалмопевца, радостью холмы препояшутся, луга оденутся стадами, и долины покроются хлебом, восклицая и распевая песни (Пс. 64, 13-14).
«Не существует ли, действительно, большее ради меньшего, величайшие дарования ради пользы малых сил, высшая добродетель и святость ради слабых?.. Люди менее всего её заслужили, но более всего нуждаются в ней» (Ф. Ницше, «Вагнер в Байрейте).
Блажен, кто нищает, снисходя к меньшим по духу братьям. Это порыв к Богу, в бесконечность. Это взмах крыльев влюблённой в Бога души, для которой нищета духа – самое величайшее богатство!
Аминь.
Антихрист
Учитывая небывалый уровень грамотности в нашей стране, все, конечно, знакомы со сказкой Пушкина «О попе и работнике его Балде». Среди её персонажей – отпрыск сатаны, маленький бес, который залез под крестьянскую кобылу и, силясь её поднять, едва не околел.
Мы часто путаем сатану и его аггелов с Антихристом. Антихрист – не дьяво л. Он не мифическое олицетворение зла, а прежде всего реальный человек, «из персти земной».
Понятие «антихрист» имеет в христианстве двойное значение. Антихрист – всякий, кто отвергает, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, что корни нашего спасения в вере в Отца, Сына и Св. Духа. В строгом смысле, атеист – только предшественник, предтеча настоящего великого и воследнего Антихриста, который воспримет всю чудовищную силу от дьявола.
Священное Писание и отцы Церкви говорят, что антихрист родится на земле. Но в какой части света, в каком народе? Либо в еврейском, либо в языческом, либо в среде христиан.
У каждого человека есть имя. Жуткое, смрадное имя Антихриста не открыто и никому не известно. Имя Богу: «Слово Божие»; сатане же присуще не имя, а только цифра шестьсот шестьдесят шесть (666).
Антихрист будет выдавать себя за Христа, будучи смертельным врагом Агнца Божия. Сыну Погибели свойственны: острота ума, опытность, быстрота движения, обширное могущество, предвидение человеческой смерти, знание человеческой души и Священного Писания.
Нелегко распознать лже-Христа под искусной маской добродетелей, кротости, человеколюбия. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца». Лишь после привлечения к себе с помощью чудес широких масс, покажет ставленник сатаны свой звериный оскал. И будет дано ему право «вести войну со святыми и победить их».
Антихрист – зверь «багряный, выходящий из бездны» – явится перед кончиной мира, перед Вторым Пришествием Христа. Симптомы манифестации Антихриста: небывалое оскудение веры и любви, последнее дыхание христианства.
Многие изощрялись в предсказаниях о неминуемо близкой встрече с «красным драконом». В Антихристы зачисляли римского императора Нерона и русского царя Петра Первого. В двадцатом веке Антихрист напялил на себя будёновку с пятиконечной звездой. Как бы не заблуждались люди, нельзя, однако, не видеть в их прогнозах и предчувствиях правильности того, что фальшивый Христос будет обладать – в соответствии с библейской истиной – колоссальной властью для борьбы с Церковью.
Русский философ Владимир Соловьёв допускал в книге «Три разговора» столкновение с Антихристом в двадцатом-двадцать первом веке. Соловьёв делал акцент на том, что сверхчеловек, возведённый на престол сатаной, будет исключительно гениален, красив, благороден, ему будут присущи величайшие воздержание, бескорыстие, и при этом он будет из верующих.
Трудно решить, насколько прав В. Соловьёв или тот, кто когда-либо пытался или пытается заглянуть вперёд. Никто не может точно или даже приблизительно определить, когда Христос вновь зашагает по нашей многострадальной, истерзанной грехами земле. Следовательно, составлять график движения к нам в ближайшее время полномочного представителя сатаны в лице Антихриста, по крайней мере, некорректно.
Сие совершенно не противоречит, впрочем, тому, что утверждал в Апокалипсисе евангелист Иоанн Богослов: «дух антихриста… и теперь есть уже в мире». Именно: дух, а не сам Антихрист. Идея борьбы с господством сатаны и его подручным Антихристом – отличительная черта писаний любимого ученика Спасителя. Один из матёрых атеистов так отозвался об Откровении Иоанна Богослова: в нём есть «ощущение того, что ведётся борьба… и что эта борьба увенчается победой; есть радость в борьбе и уверенность в победе…» (Ф. Энгельс, «К истории первоначального христианства»).
День гнева, семь чаш ярости Божией, четыре всадника, сокрушающий землю со всех сторон – это и есть наш грядущий, предсказанный в Библии, триумф над Антихристом!
И как бы сегодня ни возился, ни пыжился какой-либо мелкий или крупный антихрист, для нас он остаётся анекдотично пушкинским бесом, неосторожно сующимся под копыта апокалиптического коня.
Ей, аминь.
Сергий Радонежский
Один человек имел большой дом и много земли. Отправляясь в чужую страну, он поручил имение своим рабам, дал каждому из них некоторое количество талантов, денег на содержание жилья и приумножение богатства. Когда владелец вернулся, он попросил у слуг отчёта о том, как были употреблены в дело полученные ими средства. Двое из трёх вошли в радость господина, ибо способствовали подъёму его благосостояния, а лукавый и ленивый раб вызвал гнев хозяина, поскольку ничего не внёс в расцвет имения.
Такова притча о талантах, рассказанная Господом нашим Иисусом Христом. Самое простое толкование её смысла: жизнь – талант, полученный от Бога, и вернуть его Начальнику жизни нужно сторицей.
Преподобный Сергий Радонежский удостоился от Бога не одного, а многих талантов. Среди них – талант одиночества, стремления к максимальному уединению, глубокой сердечной молитве, шептанию с Богом один на один, почти ускользанию в затвор, хотя бы на время Великого Поста, как это было у преп. Феодосия Печерского, когда он забирался в пещеру, засыпал землёю вход, оставляя лишь небольшое оконце для приёма от братии немного воды и хлеба.
Можем ли мы представить игумена Сергия в роскошной обстановке современного храма? Чем драгоценнее камень, тем проще должна быть его оправа. Так диктует нам православный вкус. Как ни заманивали преп. Сергия в богатые церкви и на самые высокие церковные должности, он вежливо уклонялся от непрошенных почестей. По внушению Божию, святой, гласит житийная литература, нередко уходит искать новое место жительства. Вспомним хотя бы богоносных Павла Обнорского, Кирилла Белозерского… Дупло старой липы – ставка святых. Бегал людей и преподобный Сергий, рубил просеку в чащобе и там, подальше от житейского шума, строил себе келейку и церковь. И евхаристические сосуды у него были не из золота или железа, а из дерева, и освещала его убогий храм не свеча из чистого пчелиного воску, а обыкновенная лучина. Летела на эту лучину, словно мошкара на огонь, разная публика. Селилась вокруг да около подвижника, чьим закадычным приятелем был медведь, и частенько портила поклоннику тишины нервы и кровь. Не только монахи в основанной им обители, но даже родной брат охотно подтверждали преподобному правоту библейских строк, что враги человеку не звери, а домашние его. Иные из иноков не выдерживали ига строгого благочестия своего духовного наставника, роптали на нехватку самого необходимого для прожиточного минимума, а из уст игумена по поводу их бунта, как улыбка, лишь струился лёгкий дымок от трухи, гнилого хлеба, который он заработал у какого-то крестьянина за починку не то клети, не то крыльца. И в этом также угадывается его неиссякаемая тяга к независимости от кого бы то и чего бы то ни было. Он специально носил заплатанную рясу, запрещал собирать милостыню по богатым дворам, чурался ласки князей, опасаясь, вероятно, как бы орлиные крылья Церкви не подшили тяжёлым бархатом, такой увесистой парчой, что взлететь уже не будет никакой возможности.
Князья, впрочем, к нему и сами приезжали, кто за советом, кто за благословением на ратный или другой труд. Говорят, религия – не политика. Правильно. Однако, что такое политика, как не попытка изменить мир к лучшему в соответствии с теми идеалами, что у нас в груди и голове? Не искусство ли она, как говорит Платон, управлять стадом? Был ли преп. Сергий политиком? Безусловно. Не менее, чем великие библейские пророки Исайя, Иезекииль… Они жгли словом пороки своего народа, каменели колодцем свежей чистой воды в раскалённой пустыне, когда жестоковыйный Израиль надменно поворачивался к Богу спиной. Преп. Сергий мирил враждующих русских вождей, расширяя богосознание нашей земли, где всюду должны царить единство, взаимопонимание, готовность к жертве ради ближнего, обоюдно ненасытимая любовь, как у Лиц Пресвятой Троицы, во Имя Которой он возвёл под Москвой ставшую сердцем Руси древнюю лавру.
Чему учат нас вот эти немногие факты жития светоча в рясе из дерюжки? Тому, чтобы каждого из нас, прежде всего, по выражению великого философа, благословило спокойное око, могущее без зависти взирать на любую житейскую роскошь, комфорт. Тому, что религия побуждает нас порой идти к Богу тропой глубокого одиночества и молчания. Тому, что Церковь всегда и во всём должна быть начеку своей независимости. Что не исключает её энергичного участия в преображении мира на евангельских началах.
Талант, полученный от Бога, нужно вернуть сторицей Господу нашему Иисусу Христу, Ему же подобает слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков!
Аминь.
Псалом 21
Среди шедевров Ветхого Завета, как среди высоких, теряющихся в небесном просторе гор, высится чистый белоснежный пик Псалтири – вершины молитв и благочестия.
Вся Священная История несёт на себе отпечаток молитвы. Дивные дела Творца неба и земли, пророчества, заповеди, премудрость – все основные темы Библии сомкнулись в Псалтири.
Псалтирь – не сборник застывших формул и обрядовых предписаний. Это документ личного отношения к Богу, переживания опасностей и вопля, восклицания, призывания Спасителя.
Псалмы в Ветхозаветной Церкви всегда пели, а не читали. Пели в сопровождении музыкальных инструментов, когда священник в торжественной процессии нёс воду в золотом сосуде из Силоамского источника, когда утром и вечером воспламенялась всесожигаемая жертва, на которую жрец возливал багровое вино.
Ныне псалмы полностью или отдельным стихами входят у христиан в состав всех церковных служб.
Псалтирь читают над усопшими. Текстами Псалтири навеяны многие сочинения великих композиторов и поэтов.
Кто же сочинил Псалтирь, словами которой молился Христос?
Автор большинства священных песен – древний предок Христа иерусалимский царь Давид.
Давид был человеком сложной, нелёгкой, интересной судьбы. Сначала он пас овец, потом стал другом царского сына, наконец, сам был помазан на царство в Израиле. В первый период жизни его преследовали; чтобы уберечься, он прикидывался сумасшедшим, пускал слюну в бороду. Заняв трон, Давид уничтожал своих врагов с той беспощадностью, с какой некогда прикончил на поединке грозного недруга иудеев Голиафа; вёл опустошительные войны. Собирал золото, драгоценные породы деревьев для постройки в Иерусалиме Божьего Храма, который мыслился им как центр религиозного объединения будущей нации.
Белокурый, голубоглазый, он вплоть до старости влюблялся.