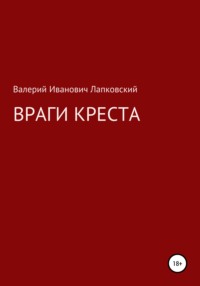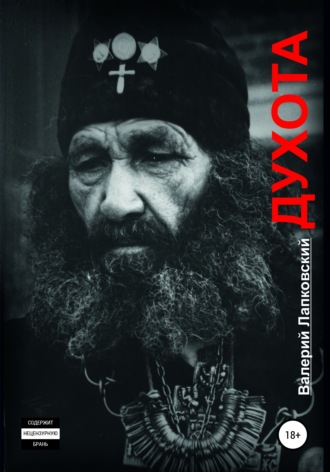 полная версия
полная версияДухота
Тому же, кто уделит им внимание, скажем, что некто из видных православных иерархов, прочитав сии опыты, отправил автору телеграмму: «Это новое слово в гомилетике»! Впрочем, не менее уважаемое лицо, издатель русского журнала в Париже, нашёл диатрибы нашего вольнодумца несколько брутальными.
Но разве апостолы носили одежду из тонкого шёлка, а не из грубой ткани?
Истина
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Если ты молод и служишь телохранителем великого правителя, что может быть более заманчивым, чем перспектива стать в государстве вторым человеком после монарха, роскошно одеваться и ездить на колеснице с конями в золотых уздцах?
Трое юношей из охраны персидского царя Дария (один из них, сообщает Библия, – пленный еврей по имени Зоровавель) решили состязаться перед своим властителем в мудрости. Чьё слово окажется разумнее других, тому даст царь все преимущества. Лишь бы каждый открыл, что сильнее всего.
Изложив свои мнения на бумаге и запечатав записки, молодёжь положила их под изголовье государя, дабы, когда тот проснётся и достанет конверты из-под подушки, сам беспристрастно понял, кого следует возвеличить в ранг ближайшего помощника, а то и родственника.
Один начертал: «Сильнее всего вино». Другой не согласился: «Сильнее царь».
Третий выдохнул: «Сильнее женщины». И добавил: «А над всем одерживает победу…»
Не будем пока открывать тайну Зоровавеля. Кто или что одерживает победу над всем – узнаем чуть позже, а сначала выслушаем, как объясняют царю свои речи двое друзей.
– О, как сильно вино! – воскликнул первый слуга. – Оно приводит в помрачение ум всех людей, превращает царя, сироту, раба и свободного, бедного и богатого в глупцов, когда те пьянеют. Пьяному море по колено!
Вино, – скажем и мы, внимая пылкому юноше, – несомненно, очень сильно.
Сваливает крепыша с ног, может увлечь в преступление. Но может и поддержать, по слову апостола, в болезни; врачи советуют иным больным принимать в небольших дозах коньяк и кагор. А главное – вино идёт на приготовление Святых Тайн. Господь наш – виноградная лоза, а мы – ветви, питаемые Его Кровью. Нет на свете ничего сильнее Причастия, сопрягаемого из вина, и по молитвам Церкви, наитием Святаго Духа, пресуществляемого на богослужении в Пречистую Кровь Спасителя, нашего подлинного Царя.
– О, не сильнее ли всех царь? – произнёс второй телохранитель. – Царь превозмогает и господствует над миром. По его приказу сражаются на войне и возделывают землю. Ему платит дань всё живущее. Кто могущественнее царя, когда так повинуются ему?
Господь наш, Иисус Христос, – заметим мы вслед за вторым юношей, – Царь Вселенной. Ему, Единому, принадлежит всякая власть на небе и на земле. Когда утверждают, что нет власти, как только от Бога, это нужно понимать так, что начальствующий в народе будет угоден Небесному Заступнику лишь при том условии, если он постоянно воздаёт должное Господу, а не противится установлению Его Царствия, Ему же не будет конца. Какому Царствию? Царствию Духа, Благодати, лета Господня благоприятна, восходящего над нами, как солнце во всей силе своей, шествующего наперерез злу, «как полки со знамёнами» (Песнь песней, 6, 10)!
Кто же более прочих достоин этого Царствия? Что сильнее Его? Кто над всем удерживает победу?
– Велик Царь и сильно вино, – начал говорить Зоровавель. – Но кто господствует и владеет ими? Не женщина ли? Жёны родили царя и народ. Народ вскормил виноград, выдавил вино. И вельможи, и плебеи, раскрыв рот, смотрят на красивую женщину, прилепляются к ней, забыв о золоте и серебре, не помня ни себя, ни отца, ни матери, ни страны своей. «Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибали и сбились с пути и согрешили через женщину» (2 Ездры, 4, 26-27).
Зоровавель видел, как наложница снимала корону с царя, возлагала её на себя, наотмашь хлестала левой рукой самодержца по щеке. Тот улыбался и упрашивал даму помириться с ним.
Не такова та женщина, что предстала апокалиптическому взору апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Любимый ученик Христа зрел жену, облачённую в солнце; под ногами её луна, а на главе – венец из двенадцати звёзд (Откр., 12, 1). То была женщина, ставшая сильнее всех. По благоволению Святой Троицы Она родила Сына Божия, подарив миру непобедимую силу, способную одолеть дьявола.
Мы толковали о могуществе вина, царя, женщины.
– Кто, однако, сильнее их? – вопросил Зоровавель. – Кто над всем берёт верх?
– Истина.
«Вся земля взывает к истине, и небо благословляет её, и все дела трясутся и трепещут пред нею» (2 Ездры, 4, 36).
Что же есть Истина? Она, молча, стоит на всех площадях мира в оборванном хитоне, с запекшимися ранами, униженная и оскорблённая, в терновом венце.
Она идёт к нам «из дымной дали. И ангелы с мечами с ней. Она такая, как в книгах мы читали, порой скучая и не веря им» (А. Блок). Мы любим её в притчах и ризах парадоксов. Мы Ею движемся и живём.
Издревле истина присутствует в вине как крови Бога, истина является нам в облике истинного Царя небес, истину выражает женщина, когда любит и поклоняется Тому, Кто начинал свои речи со слов: «Истинно, истинно говорю вам…», Тому, Кто воистину воскрес от гроба! Истина созидает Церковь, подобно Зоровавелю, который после мудрого ответа Дарию получил право на воссоздание разрушенного Иерусалимского храма. Свет христианской истины через таинства Церкви – через материнскую утробу Крещения и вино Нового Царствия – просвещает всякого человека, грядущего в старый мир. Когда мы причащаемся Истины, она, по выражению одного Святого, становится нам ближе, чем мы сами себе.
Веруем и уповаем на Её надвигающийся нелицеприятный Суд; «нет в суде Её ничего неправого; она есть сила и царство и власть и величие всех веков» (2 Ездры, 4, 40).
Благословен Бог Истины!
Аминь.
Сусанна и старцы
Когда Бог вывел еврейский народ из египетского плена, Он сказал пророку Моисею, что царь, которого изберёт себе Израиль, должен «списать для себя список закона… с книги, находящейся у священников,… и пусть он будет у него, и пусть он читает во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога» (Втор. 17, 18-19)
После ожесточённых кровопролитных войн иудеи поселились в земле обетованной, где правнуки Авраама черпали воду из колодцев, вырытых не ими. Здесь евреи часто принимались служить чужим богам. Может, это случалось потому, что взысканное милостями неба диковатое племя не торопилось назначить из своей среды монарха, чья богобоязненность, кабы она имела место, стала бы дополнительной преградой для многогранной, легко увлекающейся жестоковыйной души, впадающей в идолопоклонство, если оно влечёт за собой широкий доступ к объёмистым котлам с жирным мясом, душистым дыням и крепкому чесноку.
Господь воздвигал в такие скоромные времена судей для Израиля. Те руководили народом, предохраняя его от внутренних и внешних врагов. Однако и самих судей порой покидал Дух Господень.
Два старца постоянно посещали дом почтённого Иоакима. Иоаким – имя, знакомое каждому христианину. Так звали отца Приснодевы Марии.
Пользуясь гостеприимством Иоакима, старейшины судили и рядили под крышей его просторных покоев спорные дела; к ним обращались пекари, воины, женщины, странники.
Иоаким был женат на Сусанне, пригожей дочери праведных родителей. С детских лет они обучили своё чадо закону Моисееву, внушили верность Богу, упование на Творца неба и земли. Тому же наставили в своё время и Приснодеву Марию её домашние.
Иоаким до самозабвения любил Сусанну. Никакие воды не могли потушить его чувств к ней (Песнь песней, 8, 7).
В полдень, когда тяжбы и разбирательства заканчивались и народ расходился из жилища Иоакима, Сусанна появлялась в саду своего мужа.
Судей-старцев уязвляло до боли вожделение к ней.
Как-то в жаркий час жена Иоакима захотела вымыться в саду.
Старейшины, глухо сопя, притаились в кустах. Одному в бок впилась колючка, но он её не замечал.
– Принесите мне мыла и масла и заприте двери сада, – сказала госпожа служанкам. Девушки исполнили повеление и вышли.
Тогда стряпчие схватили раздетую Сусанну за руки.
– Ложись с нами!
Женщина пронзительно закричала.
Люди вскочили в сад.
Старцы взахлёб затараторили, будто застали супругу Иоакима с юношей, но тот убежал!
Чёрной тенью прильнула смерть к нежному лицу жертвы. Прелюбодейку у евреев принято побивать камнями.
Иоаким верил жене и любил её в сей страшный час ещё с большей силой. Дети Сусанны, её родственники плакали… Как доказать невиновность Сусанны разъярённым мышиным жеребчикам, негодующей толпе, чрезвычайно пристыженной тем, что никогда ничего такого за Сусанной не замечали!
Сусанне, по слову Библии, приличествуют красота, кротость, непорочность, искренняя преданность избраннику души и тела. Эти высокие качества присущи и Церкви Христовой.
С кем отождествляет Писание соблазнителей Сусанны, «состарившихся в злых днях»? С «управляющими народом» (Дан., 13, 6). Седовласые мудрецы хотят увлечь Сусанну на ложе с ними. Пострадавшая возмущается, громко взывает к Богу! Ей могли бы, вероятно, нравоучительно процитировать Священные книги: всякая душа да будет покорна предержащим властям. Поэтому Сусанна обязана смириться, так хочет Господь.
Господь хочет, чтобы цветущая как Церковь Сусанна лежала в липких объятьях слюняво-старческого безбожия? Разве Сусанна – блудница в золоте и жемчуге, что сидит на багряном звере, держа в руке драгоценную чашу с нечистотами и мерзостями своих сожителей? «Женщине не прощается, если первый попавшийся проходимец изнасилует её», – молвил в девятнадцатом веке один старец, ненавидящий христианство.
Старцы любого возраста и калибра, нападающие на Церковь – это евнухи, желающие растлить девицу. Читают ли управляющие народом книгу, находящуюся у пастырей, не извращают ли её мысли, научились ли бояться Живущего на небесах? Не все ли они «пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем» (Ос., 7, 4)? А «владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием» (2 Царг., 23, 3)!
Господь услышал вопль Сусанны. «И спасена была в тот день кровь невинная» (Дан., 13, 62).
И так же да услышит Бог голос Церкви!
Аминь.
Молитва Товии
Если бы сегодня воскрес Наполеон и его армия, с которой Бонапарт мечтал покорить Россию, наличие солдат в этом войске не уступало бы количеству семейных разводов в нашей стране.
Вспоминаю сию статистику, перечитывая книгу Товита в Ветхом Завете, где говорится, сколько мужей было у дочери одного именитого еврея. Сарре, девице прекрасной и умной, долго не везло в браке. «Я читал о многих видах печали, но сомневаюсь, что где-либо можно найти столь же глубокую печаль, как та, что была заложена в жизни этой девушки» (С. Кьеркегор).
Служанкам её отца Сарра казалась не только чересчур привередливой и капризной в выборе суженного, но даже убийцей тех, кто предлагал ей руку и сердце.
– Уже семерых извела, – пеняла грубая челядь застенчивой Сарре прямо в лицо. – Разве тебе не совестно? Зачем задушила их?… Они умерли – иди и ты за ними!
Накануне свадьбы одного из нареченных Сарры призвали, как нынче сказали бы, в военкомат, бросили в бой с врагами, и, положив меч под голову, он навеки уснул. Другого загрыз на охоте медведь. Третий неизлечимо заболел и отправился с тоскою в гроб. Четвёртый пропал без вести. Пятого испепелил удар молнии. Шестой… и так далее: седьмой…
Сарра, конечно, не была причастна к смерти её соискателей в брачной комнате. Женихов убивал не рок, а лихой дух – Асмодей, очарованный ею.
Сарра весьма кручинилась. Вдова, не познавшая мужа, семь раз носившая траур, в расцвете лет став притчей во языцех, она в горнице у раскрытого окна молилась чтобы Создатель не попустил ей броситься с верхнего этажа вниз головой, чтобы Ткач бытия сам перерезал нить её жизни, взяв от земли, где сплошь слышит незаслуженные укоризны.
Когда в доме появился новый кавалер, глава семьи, узнав, что он сын его далеко живущего брата Товита, согласился отдать за него единственную дочь, надеясь, что Бог на этот раз всё устроит наилучшим образом.
Сарра услышала данную новость от матери с тупым равнодушием. Девушка мельком видела молодого человека, по имени Товия… Он прибыл с другом Рафаилом и весёлой собакой… Глаза у Товии кроткие и смелые… А Рафаил чем-то неуловимо похож на ангела… Служанка носила сапожнику рваную обувь Товии… Утром друзья были на рыбалке, поймали большую рыбу…
Мать привела Сарру вымытую, умащённую благовониями, в праздничной одежде в спальню, куда должен был пожаловать новый жених.
Ужин гостей с родителями затянулся. Товия всё не приходил… Из тёмного угла комнаты, казалось, некто корчил гримасы…
Сарра присела на постель и тихо заплакала.
Товия же после ужина – по совету друга, прямо-таки, как ему чудилось, посланного ему Богом, друга, с которым он пролетел почти на крыльях немало вёрст к дому невесты – взял в руки курильницу, положил в неё рыбью печень, высек огонь, и, подобно тому, как горящей серой вытравливают из жилища клопов, принялся так дымить, так посверкивать искрами, что любая рогатая или безрогая нечисть, а не только Асмодей, сочла бы за благо скорей рвануть из горницы молодожёнов!
В полночь отец невесты поднялся с кровати. Спотыкаясь, вышел на задворки… Он рыл могилу, рассчитывая засветло скрыть от людей ещё одну утрату… Блестел при луне заступ и пот на усталом лице…
Сколько заскорузлых упрёков мы слышали по поводу приниженного положения женщины, якобы постулируемого Библией! Вчитайтесь в книгу о Товии: муж называет жену сестрой (Товит, 6, 21)! Много ли сейчас людей, которые с такой предупредительностью относятся к своей спутнице? Многие ли начинают супружескую жизнь с молитвы или таинства венчания, которые освящают, придают высший смысл заповеди «плодиться и размножаться»? Вспомните описание брачной ночи в романе великого рассказчика Франции: молодая женщина, лёжа в постели, с содроганием слышит, как бренчит в брюках её раздевающегося супруга медная мелочь… «Драгоценностями из серебра их завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их», – отозвался бы о такой семье пророк Осия (Ос., 9, 6). «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс., 126, 1). Первым проявлением божественности Иисуса Христа было Его присутствие на браке в Кане Галилейской, где Он благословил супружеский союз, претворив для сотрапезников воду в вино. Совместная жизнь мужчины и женщины, долгая или короткая, будет исполнена чудес не потому, что Бог постоянно станет наполнять их чашу, а только в том случае, если они всегда будут обращены ко Христу. Это и станет тем чудом, которое поможет превратить семью в малую церковь, где свет Христовой истины станет ярче сиять в наших детях, чем в нас. И никакие духи злобы поднебесной не разобьют такую семью, как не уничтожат они духовный брак Церкви со Своим Небесным Женихом Господом нашим Иисусом Христом!
… Утром отчаявшийся отец, возликовав, что молодые живы, благословил Бога благословением чистым и святым. И приказал рабам своим зарыть могилу.
Аминь.
Пещное действо
В Священном Писании, в книге пророка Даниила, выражаясь современным языком, содержится информация о том, как царь Навуходоносор сделал золотой истукан и пригласил на его открытие представителей широкой общественности. Со всех концов страны съехались областные правители, военачальники, министры, судьи, представители нацменьшинств, жрецы. Грянула музыка, с монумента поползло вниз покрывало, и взорам многотысячной толпы предстал грандиозный золотой болван. Бурные, долго не умолкающие, переходящие в овации, аплодисменты сменились всеобщим падением ниц и поклонением идолу. Каждый из присутствующих знал: коли не последует примеру других, его ждёт крематорий.
Три молодых человека, верующих в Бога, наотрез отказались участвовать в массовом психозе. Их имена: Анания, Азария и Мисаил. Царь исполнился ярости, вид лица его изменился. Он приказал немедленно связать строптивцев и швырнуть в раскалённую печь. Но пламя не убило бунтарей, и внутри печи раздался благодарственный гимн Богу, Который послал друзьям Ангела, росой оградившего мятежников от огня.
Металл в наши дни плавят в домнах, где температура выше тысячи градусов. Остановка домны на ремонт – весьма дорогостоящая операция. Учёные сконструировали специальный костюм, в котором человек может без риска для собственной жизни устранить поломку, находясь в печи под защитой огнеупорных доспехов, когда вокруг бушует пламенная буря.
Но что возможно твари, тем более доступно Творцу. Нет ничего удивительного в том, что обречённые отроки спокойно двигались внутри пылающего пекла и славили вместе с Ангелом Господа!
В первой половине пятнадцатого века на Руси существовал один из самых древних обрядов, нечто вроде духовной драмы под названием «Пещное действо». Это действо ставили в Москве, Новгороде, Вологде и других городах накануне Рождества Христова. В церкви, на амвоне, сооружали массивную круглую деревянную печь, напоминающую трёх-четырёхярусный иконостас. Её расписывали золотом и красками, изображали на стенках святых, внутри ярко освещали свечами. В первом ярусе были проёмы, отверстия, через которые можно наблюдать, что творится в печной утробе.
Шили по заказу костюмы: для жертв Навуходоносора – белые стихари с бархатными оплечьями, для палачей – платья из красного сукна, отороченного горностаем. Шапки-венцы для отроков украшали крестами, литыми из серебра. На роли Анании, Азарии и Мисаила тщательно выбирали красивых парней из певчих архиерейского хора.
Горожане, народ из окрестностей и деревень, диаконы, священники, епископ, а в Москве царь и царица, бояре с радостной серьёзностью отправлялись на праздник. Начиналось действо в субботу на великом повечерии и продолжалось на другой день, в воскресенье.
После острой перебранки мучители втаскивали связанных противников идолобесия в печь и затворяли двери. Под печь влезал ражий детина и раздувал там горн с горящим углем. Юноши, «разжигаемые любовью к благочестию», пели «Благословлен Бог наш…»; чекисты Навуходоносора грозили им и кочегарили ещё жарче.
Но вот в печь слетал дивный ангел (заранее приготовленное подобие), опричники персидские падали навзничь от страха, диаконы искусно подпаливали им края одежд в память о том, как сгорели настоящие палачи, когда бросали в жерло топки самоотверженных друзей.
Отроки крестились и трижды вместе с ангелом триумфально шествовали в печи по кругу. Затем ангел улетал. Мучители кричали жертвам: «Неймёт вас ни огонь, ни смола, ни сера!» и выводили ребят из печи по одному к архиерею. Молодёжь кланялась Владыке, пела ему «Многая лета» и удалялась в алтарь. Богослужение продолжалось, и в положенный момент протодиакон читал во всеуслышание внутри печи Евангелие.
В память о тех бесстрашных парнях, чью веру не сломил персидский крематорий, Церковь на вечерних службах постоянно поёт несколько стихов канона, хотя само «Пещное действо» уже ушло в историю. Последний раз оно было поставлено русскими эмигрантами во второй половине двадцатого века в Нью-Йоркском кафедральном соборе Св. Иоанна Богослова. Не исключено, что за рубежом при постановке «Пещного действа» были использованы оригинальные духовные песнопения видного русского композитора Александра Кастальского, автора многих религиозных вокальных композиций и поныне звучащих в наших храмах. Кроме Кастальского к «Пещному действу» проявил внимание в 1970 г. ленинградский композитор Валерий Гаврилин, создавший одноимённую оперу. Она прозвучала в том же году в концертном исполнении в городе на берегу Невы. А ещё ранее режиссёр Сергей Эйзенштейн включил фрагменты «Пещного действа» в кинофильм «Иван Грозный».
Библейские события, описанные в книге пророка Даниила, их воспроизведение в шестнадцатом веке на Руси… Казалось бы, всё это так далеко от нас… Но не похож ли наш мир на раскалённую печь, внутри которой ходит горстка христиан, которых спасает Ангел Великого Совета Господь наш Иисус Христос?
Аминь.
Глас в пустыне
Помните ли вы тот день, когда мать или бабушка, может, тайком от отца и соседей, впервые привела вас в церковь? Вам было лет пять или семь, и вас, вероятно, поразила невиданная доселе торжественная, непонятная красота внутри храма. В пламени свечек, сиянии икон, среди вздыхающих, крестящихся, а кое-где и плачущих женщин, бабушка тихо водила вас по храму и что-то шептала такое новое, такое ласковое. И в тот час вас, вероятно, ничто так не поразило, как Человек, Который распахнул разбитые в кровь руки на кресте. Вам грезилось, будто именно Его отрубленную голову на блюде вы видели на иконе в другом углу.
Шли годы, под лепет пятилеток безбожия вы стали взрослыми, и когда встречали в городе или деревне на блюде площади, как отсечённую голову Иоанна Крестителя, закрытый храм, не закрадывалась ли вам в сердце, словно в детстве, некая тревога? Двери храма, как веки, были сомкнуты, а вокруг, точно во дворце Ирода, шумел житейский пир.
На пьяном торжестве у Ирода дочь Иродиады, жены царя, покорила властителя Иудеи чувственной пляской. Царь сгоряча поклялся дать ей даже полцарства, коли попросит. Потная балерина потребовала смерти арестованного пророка, который пришёл из пустыни в столицу и принялся, призывая народ к покаянию, не только крестить людей в водах Иордана, но и громогласно обличать Ирода за то, что тот взял в жёны супругу брата своего Иродиаду.
Прельщённый танцем Саломии, Ирод в ответ на её просьбу слегка заколебался. В глубине души Иоанн, вероятно, ему чем-то нравился, может, тем, что ни к кому не подлизывался. Сухой посох в руке пророка звенел, как топор, а речь словно рубила дерево, не приносящее плода, и бросала сучья в костёр. Куда почётнее было отказать падчерице в удовлетворении её просьбы, чем сдержать слово, данное впопыхах, но Ирод сделал знак рукой, и палач вместе с Саломией скользнул из дворца в темницу.
На одной из многочисленных картин, посвящённых этому сюжету, можно увидеть, как молодой солдат припал на колено, и, точно заслоняясь от Саломии, держит над собой, будто щит, глубокое медное блюдо с отрубленной головой. Рядом мускулистый палач, широко растопырив налитые железом ноги, молча вытирает тряпкой кровь с блестящего меча. Рабыня с проваленными глазами машинально обмахивает большим веером зардевшуюся от бешеного танца дочь Иродиады. В углу узницы торчат загрубелые ступни остывающего трупа. Склонив чуть свисающие холёные груди над спекшейся от крови спутанной бородой, Саломия двумя перстами осторожно приоткрыла веко на откромсанной голове и с бабьим любопытством заглянула в остекленелый глаз. Взяла в руки холодное блюдо из цепких пожатий солдата и понесла тяжёлую ношу к заждавшейся мамаше. Она плыла навстречу пиру во дворце, вероятно, воображая себя Иудифью, праматерью иудеев, что некогда спасла народ.
Иудифь была богатая, статная, красивая вдова. Едва армия ассирийского полководца Олоферна осадила стены её родного города, Иудифь сняла одежды вдовства. Подобно грациозной Саломии, омыла тело, намастила себя драгоценным миром, благоухающими притираниями. Обула стройные ноги в мягкие сандалии, возложила на себя запястья, кольца, серьги, зная, чем прельстить мужчин, которые давно в нелёгком походе, стынут без женского тепла. Тихо позванивая дорогими браслетами в такт напоенному отвагой и страхом сердцу, вдова отправилась в стан врага, где прикинулась беглянкой, пообещав чужеземцам показать редкую тропу для проникновения в непокорный город.
Душа Олоферна взволновалась. Полководец жаждал победы над вдовой. Генерал устроил в своём шатре роскошный ужин в честь прекрасной еврейки.
Упился в стельку. Гости учтиво разошлись. Иудифь, помедлив, трепеща приблизилась к воеводе, схватила его за волосы и двумя ударами острого меча обезглавила войско ассирийцев. Отлетела с плеч косматая голова, нагретая парами вина и вожделения, голова военного гения, где никак не укладывалось, что на небе и на земле может быть кто-то могущественнее царя, которому он исправно служит. «Разве Навуходоносор не бог» – удивлялся бравый служака.
Ни Ирод, ни Навуходоносор не бог! – как бы через века отрезал Олоферну Иоанн Креститель. Пророк возвещал гибель старому миру, занёс топор над магическим ореолом земной власти, правом царя вершить произвол; «вера сохраняла ему сознание, что он покорен власти не ради её самой,… но ради… Бога, Который будет судить держателей власти наряду с ним самим» (С. Аверинцев, «Поэтика», М., 1977)
Христианские императоры знали о зыбкости своих прерогатив и умели усмирять свою волю пред Вседержителем. Византийский государь по праздникам имел право восседать только на левом пурпурном сидении трона. Более почётное золотое сиденье на престоле многозначительно оставалось пустым, уготованным для грядущего Царя всех – Христа.