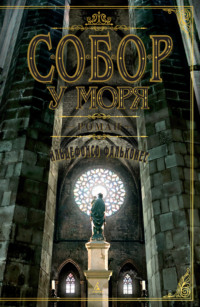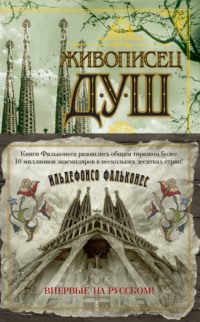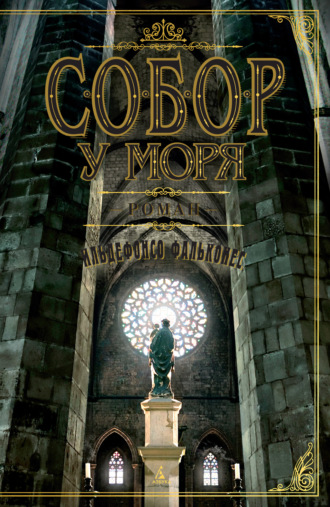
Полная версия
Собор у моря
На четвереньках, вслепую, Бернат попятился к лестнице, дрожа, как в детстве, когда его не покидали ночные кошмары.
Никто не шелохнулся. Все молчали. А солнце продолжало сиять.
– Я сожалею, Франсеска, – пробормотал Бернат, когда, с трудом поднявшись по лестнице, приблизился к ней в сопровождении солдата.
Он спустил штаны и стал на колени рядом с женой.
Девушка продолжала лежать неподвижно.
Бернат посмотрел на свой свисающий член и подумал о том, сможет ли он выполнить приказ своего сеньора. Он протянул руку и мягко провел пальцем по голому бедру Франсески.
Франсеска не ответила.
– Я должен… мы должны это сделать, – настаивал Бернат, беря ее за руку, чтобы повернуть к себе.
– Не прикасайся ко мне! – крикнула Франсеска, выходя из оцепенения.
– С меня спустят шкуру! – Бернат с силой перевернул жену, прижимая к себе ее голое тело.
– Оставь меня!
Они боролись, пока Бернату не удалось схватить ее за оба запястья и немного приподнять. Несмотря на это, Франсеска сопротивлялась.
– Если не я, придет другой! – шепнул он ей. – Придет другой, который… возьмет тебя силой!
В глазах девушки читалось осуждение. Она отвернулась от него.
– С меня снимут шкуру, – с мольбой шептал он. – С меня снимут шкуру…
Франсеска не прекращала бороться, и Бернат набросился на нее с новой силой. Слез девушки было недостаточно, чтобы охладить желание, пробудившееся в Бернате от прикосновения к молодому телу, и он вошел в нее, не обращая внимания на то, что Франсеска кричала во весь голос.
Эти вопли удовлетворили солдата, следившего за Бернатом. Он без всякого стыда наблюдал за этой сценой, стоя на лестнице.
Бернат еще не закончил, когда Франсеска прекратила сопротивление. Постепенно ее крики сменились всхлипываниями.
Плач жены беспрестанно звучал в ушах Берната…
Солнце достигло зенита.
Льоренс де Бельера, услышав отчаянные крики, доносившиеся с третьего этажа, дождался подтверждения солдата, что супружеский долг исполнен, и потребовал лошадей. Зловещая компания покинула дом. Бо́льшая часть гостей, подавленных ужасным зрелищем, последовала его примеру.
Тишина наполнила комнату.
Бернат, лежа на истерзанной жене, не знал, что ему делать. Лишь осознав, что по-прежнему с силой держит Франсеску за плечи, он отпустил ее, чтобы опереться на тюфяк, но тут же обессиленно повалился рядом с ней. Повинуясь инстинкту, он вновь приподнялся, вытягивая руки, чтобы опереться на них, и встретился взглядом с пустыми глазами Франсески, которая, казалось, смотрела сквозь него. Любое движение причиняло ей новую боль. Бернат всем сердцем сочувствовал Франсеске, но не знал, что сделать, чтобы она перестала мучиться. Он готов был взлететь, лишь бы оторваться от Франсески и больше не соприкасаться с ней.
Наконец Бернат поднялся и тут же опустился на колени рядом с женой. Но и теперь он не знал, что делать: лечь рядом, уйти из комнаты или попытаться оправдаться…
Он отвел глаза от тела Франсески, повалился на спину и, лежа с открытым ртом, подумал о том, как непристойно он сейчас выглядит. Проведя ладонью по своему лицу, Бернат опустил глаза, и вид голого члена внезапно заставил его устыдиться.
– Я сожа…
Неожиданное движение Франсески застало его врасплох. Девушка повернулась к нему лицом. Бернат попытался найти понимание в ее взгляде, но ее лицо было совершенно отрешенным.
– Я сожалею… – опять начал он, но Франсеска продолжала смотреть на него все тем же бессмысленным взглядом, – я сожалею, очень сожалею. С меня… с меня бы шкуру спустили, – бормотал он.
Бернат вспомнил сеньора Наварклеса, стоящего с вытянутой рукой в ожидании кнута, и вновь стал вглядываться в безучастное лицо Франсески. В ее глазах он вдруг почувствовал страх: они беззвучно кричали – так же, как недавно кричала она сама.
Инстинктивно, желая дать понять, что он всем сердцем сочувствует ей, Бернат протянул руку к щеке Франсески, как будто перед ним был ребенок.
– Я… – начал было он, но, внезапно осекшись, замолчал, так и не прикоснувшись к жене.
Когда его пальцы приблизились к ней, все мышцы Франсески напряглись. Бернат закрыл ладонью свое лицо и заплакал.
Франсеска оставалась лежать без движения, на ее лице застыло потерянное выражение…
Бернат перестал плакать, поднялся, надел штаны и скрылся в проеме, который вел на нижний этаж.
Когда его шаги затихли, Франсеска встала и подошла к сундуку, единственному предмету мебели в спальне, в который складывали белье. Одевшись, она собрала свои разорванные вещи, среди которых была ее драгоценная белая льняная рубашка, аккуратно сложила ее – лоскуток к лоскутку – и спрятала в сундук.
2
Франсеска бродила по дому как неприкаянная.
Она выполняла домашние обязанности, но делала это в полной тишине, источая неизбывное горе, которое вскоре овладело всем домом Эстаньолов, вплоть до самого потаенного уголка.
Множество раз Бернат пытался попросить у нее прощения за случившееся. После того как прошел ужас, охвативший его и всех селян в день их свадьбы, Бернат смог пространно объяснить, что им двигало: прежде всего, это был страх перед жестокостью сеньора, а также мысль о последствиях, которые мог бы повлечь за собой отказ повиноваться, как для него самого, так и для нее. Но эти «я сожалею», тысячи «я сожалею», которые раз за разом произносил Бернат, обращаясь к Франсеске, приводили лишь к тому, что она смотрела и слушала его, не проронив ни слова, как будто ожидала момента, когда он в своих аргументах дойдет до самого главного: «Пришел бы другой. Если бы не я, то это сделал бы другой…»
Однако Бернат молчал, чувствуя, что любое оправдание теряет смысл, воспоминание о насилии вновь и вновь становилось между ними непреодолимой стеной. Эти «я сожалею», попытки оправдаться и молчание в ответ, конечно, затягивали рану, которую Бернат хотел залечить во что бы то ни стало, да и угрызения совести растворялись в каждодневных заботах, но Франсеска оставалась равнодушной, и Бернат, вконец отчаявшись, опустил руки…
Каждое утро, на рассвете, когда Бернат поднимался, чтобы приняться за тяжелую крестьянскую работу, он выглядывал из окна спальни. Он всегда так делал, как и его отец, который даже в последние дни, опираясь на широкий каменный подоконник, смотрел на небо, чтобы предугадать, какой день их ожидает. Вместе с отцом он оглядывал земли, плодородные, четко очерченные вспашкой, так что был виден каждый участок. Поля простирались на бесконечной равнине, начинавшейся у подножия дома. Они наблюдали за птицами и внимательно прислушивались к звукам, которые издавали животные на подворье. Это были короткие моменты единения отца и сына, а также обоих Эстаньолов с их землями – те редкие минуты, когда казалось, что к отцу возвращается рассудок.
Прислушиваясь, как жена хлопочет по хозяйству этажом ниже, Бернат мечтал разделить с ней эти мгновения, а не переживать их в одиночестве. Ему хотелось рассказать ей о том, что он когда-то услышал из уст своего отца, а тот узнал от своего – и так на протяжении многих поколений.
Он мечтал, что расскажет ей о времени, когда эти земли были свободны от ленных повинностей и принадлежали Эстаньолам. О том, как его предки возделывали их с радостью и любовью, собирая выращенный урожай и чувствуя себя уверенными оттого, что не надо было платить оброк или налоги и склонять голову перед сеньорами, надменными и несправедливыми. Он мечтал поделиться с ней, его женой, будущей матерью наследников этих полей, той же грустью, какой его отец делился с ним, когда рассказывал о причинах, из-за которых сейчас, триста лет спустя, дети, рожденные ею, вынуждены будут стать рабами. Ему хотелось с гордостью поведать ей, как триста лет тому назад Эстаньолы, наряду с другими, такими же, как они, держали оружие в своих домах, как они, чувствуя себя свободными и независимыми, были готовы прибыть по приказу графа Рамона Борреля и его брата Эрменголя Уржельского на защиту старой Каталонии от набегов сарацин. Ему хотелось рассказать ей, как по велению графа Рамона несколько Эстаньолов попали в победоносное войско, разгромившее сарацин Кордовского халифата у Альбезы, за Балагером, на Уржельской равнине. Его отец рассказывал об этом с блеском в глазах, но как только старик вспоминал о смерти графа Рамона Борреля в 1017 году, его возбуждение переходило в уныние. Судя по рассказам, именно эта смерть превратила их в рабов: сын графа Рамона Борреля в пятнадцать лет занял место отца; его мать, Эрмессенда Каркассонская, стала регентшей; а бароны Каталонии – те самые, которые плечом к плечу сражались с крестьянами, – когда границам графства уже ничего не угрожало, воспользовались безвластием, чтобы обобрать крестьян, убить тех, кто не уступал своего имущества, и стать владельцами земель, позволив бывшим хозяевам обрабатывать их и платить сеньору частью своего труда. Эстаньолы уступили, как и многие другие, но огромное количество крестьянских семей были жестоко убиты.
– Будучи свободными людьми, – говорил ему отец, – мы, крестьяне, боролись рядом с кабальеро, пешим порядком разумеется, против мавров, но так и не смогли противостоять сеньорам. И когда последующие графы Барселоны захотели вернуть себе бразды правления над каталонским графством, они столкнулись с богатой и могущественной знатью, вынудившей их заключить соглашение – опять же за счет крестьян. Сначала это были земли старой Каталонии, а потом мы поплатились нашей свободой и честью, а также собственными жизнями…
– Речь идет о твоих дедах, – уточнял он дрожащим голосом, не переставая смотреть на землю, – которые утратили свободу, став сервами. Им запретили покидать свои поля, их превратили в рабов, привязав к земельным наделам, так же как и их детей, как меня, и внуков, как тебя. Наша жизнь… твоя жизнь находится в руках сеньора, который вершит суд и имеет право дурно обращаться с нами и оскорблять нашу честь. Мы даже не можем защитить себя!
Если кто-нибудь обидит тебя, ты вынужден обращаться к своему сеньору, чтобы возместили ущерб, и если он согласится, тебе придется отдать ему половину возмещенного.
Отец очень часто рассказывал ему о многочисленных правах сеньора, и Бернат, который никогда не осмеливался прерывать его гневный монолог, хорошо запомнил все, что услышал во время этих бесед.
Сеньор в любой момент мог потребовать от серва клятвы в верности. Он имел право отобрать часть имущества у серва, если тот умер, не оставив завещания, или если серв был бездетным; если его жена совершила прелюбодеяние; если был пожар в его доме; если он закладывал дом; если венчался с подневольной крестьянкой другого сеньора и, разумеется, если он хотел уйти от своего сеньора. Сеньор мог переспать с невестой серва в первую брачную ночь; мог потребовать от женщин вскармливать грудью его детей или чтобы дочери подневольных людей прислуживали в замке. Сервы должны бесплатно обрабатывать земли сеньора, принимать участие в защите замка, платить ему частью урожая со своих усадеб, принимать сеньора или его посыльных у себя в домах и кормить их во время постоя, платить за использование лесов или пастбищ, платить вперед за возможность пользоваться кузницей, пекарней или мельницей сеньора, посылать ему подарки на Рождество и прочие праздники.
– А что же Церковь?
Когда его отец задавал себе этот вопрос, то приходил в еще большую ярость.
– Иноки, монахи, священники, дьяконы, архидьяконы, каноники, аббаты, епископы, – гневно восклицал он, – все они такие же феодалы! Они даже запретили крестьянам принимать сан, чтобы мы не сбежали с наших земель и чтобы таким образом сделать наше услужение вечным!
– Бернат, – предупреждал он сына со всей серьезностью в те моменты, когда размышления о Церкви доводили его до белого каления, – никогда не верь тому, кто будет пытаться убедить тебя, что надо служить Богу. С тобой будут говорить спокойно, произнося добрые, возвышенные слова, которые ты не сможешь понять. Тебе будут приводить такие аргументы, которые только они умеют придумывать, чтобы завладеть твоим разумом и волей. Все эти священники постараются предстать перед тобой добропорядочными людьми, они будут говорить, что хотят спасти нас от лукавого и искушения, но на самом деле их мнение о нас давно известно, и все эти солдаты воинства Христова, как они себя называют, преданно следуют тому, что написано в книгах. Их слова – это оправдания, а доводы годятся лишь для несмышленых.
Бернат вспомнил, как однажды, во время одной из таких бесед, он спросил отца:
– А что говорится в их книгах о нас, крестьянах?
Отец направил свой взор вдаль, туда, где поля сливались с небом, потому что ему не хотелось смотреть в ту сторону, где обитал тот, от чьего имени говорили люди, облаченные в сутаны.
– В них утверждается, будто мы – чернь, животные, не способные понять, что такое хорошее обращение. В них говорится, что мы ужасны и отвратительны, бессовестны и невежественны, жестоки и упрямы, а потому не заслуживаем никакого снисхождения. Мы, считают все эти святоши, недостойны уважения, поскольку не можем ценить его и готовы воспринимать что-либо только под угрозой силы. Они говорят…[1]
– Отец, а мы действительно такие?
– Сынок, втаких они хотят нас превратить.
– Но вы же молитесь каждый день, и когда умерла мать…
– Мы молимся Святой Деве, сынок, – перебил его старик. – Она не имеет ничего общего с монахами и священниками. В нее можно верить, не сомневаясь ни секунды.
Бернату Эстаньолу хотелось бы так же облокачиваться на подоконник по утрам и разговаривать со своей молодой женой – рассказывать ей то, что рассказал ему отец, и вместе с ней смотреть на поля…
В оставшиеся дни сентября и в продолжение всего октября Бернат запрягал пару волов и обрабатывал поля, срывая и поднимая твердую корку, покрывшую их, чтобы солнце, воздух и удобрения обновляли землю.
Затем с помощью Франсески он засеял пашню: жена шла с корзиной, разбрасывая семена, а он с упряжкой волов сначала перепахивал, а потом ровнял уже засеянную землю тяжелой бороной. Работали молча, молчание лишь изредка прерывалось покрикиванием Берната на волов, которое раскатывалось по всей равнине. Бернат думал, что совместная работа сблизит их хоть немного. Но нет – Франсеска оставалась безразличной: она несла корзину и разбрасывала семена, даже не глядя на него…
Наступил ноябрь, и Бернат принялся за работу, которую обычно делали в это время: выпасал свиней перед убоем, собирал хворост для дома, удобрял землю, которую предстояло засевать весной, готовил сад, подрезал и прививал виноградники. Когда он возвращался домой, Франсеска уже занималась домашними делами, возилась в саду, кормила кур и кроликов. Каждый вечер жена молча подавала ему ужин и уходила спать; по утрам она поднималась раньше его, а когда Бернат спускался вниз, на столе был готов завтрак и котомка с обедом. Пока он завтракал, было слышно, как она ухаживает за скотиной в хлеву.
Рождество прошло в одно мгновение, а в январе закончился сбор оливок. У Берната было не слишком много олив, только для нужд дома и уплаты оброка сеньору.
Потом Бернат занялся забоем свиней. Когда был жив отец, соседи, почти не навещавшие Эстаньолов в другое время, никогда не пропускали день забоя. Бернат вспоминал эти дни как настоящие праздники. Сначала забивали свиней, а потом ели и пили, пока женщины занимались мясом.
Незадолго до родов однажды утром к нему в дом явилась семья Эстеве: отец, мать и двое из братьев. Бернат встретил их во дворе, Франсеска стояла за ним.
– Как ты, дочка? – спросила мать.
Франсеска не ответила, но позволила себя обнять. Бернат наблюдал за этой сценой: мать, соскучившись, обнимала дочь, ожидая, что та тоже ее обнимет. Но Франсеска этого не сделала и продолжала стоять как вкопанная.
Бернат перевел взгляд на тестя.
– Франсеска, – только и сказал Пере Эстеве, глядя куда-то вдаль, мимо дочери.
Братья поприветствовали сестру взмахом руки.
Франсеска, не проронив ни слова, пошла в хлев за свиньей; остальные замерли в ожидании. Никто не осмеливался заговорить, и лишь одно глухое всхлипывание матери нарушило молчание. Бернат хотел было успокоить тещу, но удержался, увидев, что ни муж, ни сыновья не сделали этого.
Франсеска появилась со свиньей, которая упиралась, как будто знала, какая судьба ей уготована, и молча отдала ее мужу. Бернат и оба брата Франсески уложили свинью и сели на нее.
Пронзительный визг животного разнесся по всей долине Эстаньолов. Пере Эстеве забил ее одним точным ударом, и все молча ждали, пока кровь животного стекала в кружки, которые женщины меняли по мере их наполнения. Они старались не смотреть друг на друга.
Мужчины даже не выпили по стакану вина, пока мать и дочь занимались уже разделанной тушей.
По окончании работы, когда стало смеркаться, мать попыталась снова обнять дочь. Бернат смотрел на это, ожидая увидеть реакцию со стороны Франсески, но та осталась такой же безучастной, как и всегда. Ее отец и братья попрощались, стыдливо опустив глаза. Мать подошла к Бернату.
– Когда ты увидишь, что начинаются роды, – сказала она, отводя его в сторонку, – пошли за мной, я не думаю, что она сама справится.
Эстеве отправились домой.
В ту ночь, когда Франсеска поднималась по лестнице в спальню, Бернат не мог оторвать взгляда от ее живота…
В конце мая был первый день жатвы, Бернат осматривал свои поля с серпом за плечом. Удастся ли ему собрать весь урожай без потерь? Вот уже пятнадцать дней, как он запретил Франсеске любую тяжелую работу, потому что у нее уже было два обморока.
Она молча выслушала его приказ и подчинилась.
Бернат снова осмотрел бескрайние поля, которые его ожидали.
Время от времени он спрашивал себя: «А если это будет не мой ребенок?» Зачастую женщины-крестьянки рожали прямо в поле во время работы, но, увидев, как она упала один раз, а потом второй, Бернат не мог не обеспокоиться…
Бернат сжал серп и с силой размахнулся. Колосья взлетели в воздух.
Был уже полдень, но он даже не остановился пообедать. Поле казалось необъятным. Он всегда жал вместе с отцом, даже когда тот ослаб. Сжатые колосья как будто возвращали ему утраченные силы. «Давай, сынок! – подбадривал отец. – Не нужно ждать, пока ураган или град испортит зерно». И они жали. Когда один уставал, то просил подменить его. Ели в тени и пили хорошее вино, отцовское, выдержанное, болтали, смеялись…
А сейчас был слышен только свист серпа, режущего ветер и колосья; ничего другого, только «с-серп, с-серп, с-серп» – в воздух как будто взмывали вопросы об отцовстве будущего ребенка.
В течение последующих дней Бернат жал до заката солнца; один день он работал даже при лунном свете. Когда он возвращался домой, ужин ждал его на столе. Он мылся в лоханке и ел без аппетита…
Однажды ночью он заметил, как люлька, которую он вырезал зимой, когда беременность Франсески уже не вызывала сомнений, качнулась. Бернат увидел это боковым зрением, но продолжал есть суп.
Франсеска спала этажом выше.
Он снова посмотрел в сторону люльки. Люлька снова закачалась. Бернат стал пристально наблюдать за колыбелью. Он внимательно осмотрел остальную часть помещения, пытаясь найти признаки присутствия тещи…
Но нет. Франсеска, судя по всему, обошлась без чьей-либо помощи, родила сама.
Бернат встал, но не подошел к люльке, а остановился, повернулся и снова сел. Сомнения насчет ребенка овладели им с новой силой. «У всех Эстаньолов есть родинка возле правого глаза, – говорил ему отец. У него она была, у его отца тоже. – У твоего деда была такая же, – уверял его отец, – и у твоего прадеда…»
Берната одолевала усталость: его дни проходили в работе от восхода до заката.
Он снова посмотрел на люльку и наконец решился. Поднявшись, он медленно подошел к младенцу. Ребенок спокойно спал, выпростав ручонки из-под покрывала, сшитого из лоскутков белой льняной рубашки.
Бернат повернул ребенка, чтобы разглядеть его лицо.
3
Франсеска даже не смотрела на сына. Она давала ребенку, которого назвали Арнау, сначала одну грудь, потом другую, но избегала смотреть на него. А ведь Бернат видел, как крестьянки кормят грудью, как у всех – от самой счастливой до самой жалкой – на лице появлялась улыбка, как они опускали веки от блаженства… Некоторые матери ласкают своих детей, пока те сосут молоко. Франсеска вела себя иначе. Она мыла его и кормила, но за два месяца жизни новорожденного Бернат ни разу не слышал, чтобы жена нежно разговаривала с малышом, не видел, чтобы она играла с ним, брала сына за ручки, нежно покусывала его, целовала или ласкала.
«Чем он виноват, Франсеска?» – думал Бернат, когда брал Арнау на руки. Он уносил мальчика подальше от матери, от ее холодности, туда, где можно было поговорить с ним и приласкать его.
Потому что это был его ребенок.
«У всех Эстаньолов она есть, – говорил Бернат, целуя родинку, которая выделялась у Арнау возле правой бровки. – Она есть у всех нас», – повторял он, поднимая ребенка к небу.
Но вскоре эта родинка превратилась в нечто большее для Берната, чем просто знак его рода.
Когда Франсеска ходила выпекать в замок хлеб, женщины приподнимали пеленку, чтобы посмотреть на Арнау. Франсеска позволяла им это делать, а они потом шутили между собой на глазах у пекаря и солдат. Когда же Бернат ходил работать на землях сеньора, крестьяне похлопывали его по плечу и поздравляли в присутствии управляющего, наблюдавшего за работами.
Льоренс де Бельера имел много незаконнорожденных детей, но, разумеется, никаких претензий по этому поводу не возникало. Его отказа было достаточно любой забитой крестьянке, хотя потом, среди друзей, он постоянно хвастался своей мужской силой. Все понимали, что Арнау Эстаньол не был его сыном, и сеньор де Наварклес стал замечать насмешливые улыбки крестьянок, которые приходили на работу в замок; из своих покоев он наблюдал, как они, случайно встретив жену Эстаньола, шушукаются друг с дружкой и даже с солдатами. Слухи просочились за пределы крестьянского круга, и Льоренс де Бельера превратился в объект насмешек со стороны ему равных.
– Ешь больше, Бельера, – как-то сказал ему один барон, когда пришел к нему в гости, – до меня дошли слухи, что тебе не хватает силенок.
Все присутствующие, сидевшие за столом, встретили эту остроту со смехом.
– В моих землях, – заметил другой, – я не позволяю крестьянам ставить под сомнение свою мужскую силу.
– А может, ты запретишь родинки? – продолжил первый, уже будучи под хмельком от выпитого вина.
Шутка послужила поводом для нового взрыва хохота, на что Льоренс де Бельера ответил лишь натянутой улыбкой…
Это случилось в начале августа.
Арнау лежал в своей люльке в тени смоковницы, во дворе, у входа в дом; его мать мелькала то в саду, то во дворе, а отец, постоянно поглядывая на деревянную люльку, водил за собой волов по разбросанным на эспланаде колосьям, чтобы выбить из них драгоценное зерно, которое будет кормить их в течение года.
Он не услышал, как к дому подъехали непрошеные гости.
Трое всадников на крупных боевых лошадях галопом ворвались во двор: управляющий и двое вооруженных людей. Бернат обратил внимание, что лошади не были в полном боевом снаряжении, как при обычном сопровождении сеньора. Возможно, их не сочли нужным снарядить для того, чтобы запугать простого крестьянина. Управляющий остановился немного поодаль, а двое других, когда лошади перешли на шаг, пришпоривали их вплоть до того места, где стоял Бернат. Лошади, приученные к боям, не остановились и набросились на него. Бернат пытался отступить, но спотыкался на каждом шагу и в конце концов упал на землю, под копыта возбужденных животных.
Лишь тогда всадники остановили их.
– Твой сеньор Льоренс де Бельера, – крикнул управляющий, – требует, чтобы твоя жена пришла на службу кормить грудью дона Жауме, сына сеньоры Катерины!
Бернат хотел было подняться, но в это время один из всадников вновь хлестнул лошадь. Управляющий двинулся к тому месту, где стояла Франсеска.
– Возьми своего ребенка и иди с нами! – приказал он ей.
Франсеска взяла Арнау из люльки и пошла, опустив голову, за лошадью управляющего. Бернат закричал и попытался подняться на ноги, но едва ему это удалось, как один из всадников направил на него лошадь и снова свалил на землю. Когда Бернат опять попытался встать, все закончилось тем же: оба всадника, громко смеясь, играли с крестьянином, преследуя его и сбивая с ног.
В конце концов истерзанный Бернат, весь в синяках, остался лежать на земле, в ногах у лошадей, не перестававших покусывать уздечки. Как только управляющий скрылся вдалеке, солдаты развернули лошадей и ускакали прочь.
Когда в доме воцарилась тишина, Бернат посмотрел на облако пыли, тянувшееся за всадниками, а потом перевел взгляд на волов, поедавших колосья, которые они только что топтали.