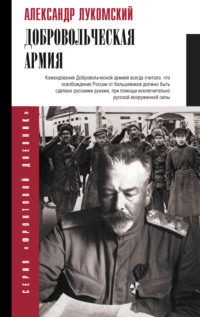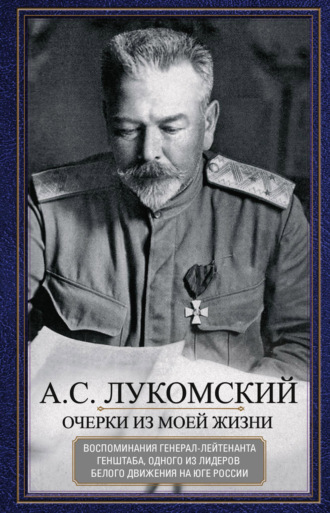
Полная версия
Очерки из моей жизни. Воспоминания генерал-лейтенанта Генштаба, одного из лидеров Белого движения на Юге России
На другой день мы были подняты рано утром; напились чаю, закусили и разобрали номера. Мне достался номер между Ф.Н. Еранцовым и А.Е. Варыпаевым. Когда нас расставляли на первый загон, то Варыпаев мне сказал: «Будьте внимательны. Новичкам всегда везет. Я уверен, что на вас выйдет козел, и вам будет стыдно, если вы промажете».
Стал я на указанном мне месте, зарядил ружье и стал внимательно прислушиваться. Прошло приблизительно полчаса, и я услышал где-то вдали, впереди голоса гончих. Сначала как бы неуверенные, отдельные, но через несколько минут голоса гончих слились, и ясно стало, что гончие кого-то погнали.
Прошло еще минут десять, и я услышал в лесу какие-то странные звуки и скоро разобрал, что что-то скачет, приближаясь ко мне. Резкие, гулкие звуки, как бы ударов по твердой земле, быстро приближались. Я замер. Вдруг, казалось совершенно неожиданно, шагах в шестидесяти перед собой я увидел мелькавшего среди деревьев и кустов козла. Он несся полным ходом, несколько закинув голову, на которой ясно были видны рога; скакал он мимо меня. Я вскинул ружье и выстрелил. Когда дым рассеялся, я ничего не увидел. Решив, что промахнулся, я в полном отчаянии не знал, что делать…
Гон собак приближался, и вдруг я увидел, что они с остервенением бросились по направлению к кусту, около которого я в последний раз видел козла. Я бросился вперед и увидел, что козел лежит убитый.
Отогнав собак, я, гордый и довольный, закурил папиросу и в непринужденной позе, как будто ничего особенного для меня не произошло, стал около убитого мною козла. Вскоре собрались охотники и стали меня поздравлять. Пришедший егерь выпотрошил козла.
Следующие загоны были для меня менее удачны, хотя мне исключительно везло. Во втором загоне на меня вышел целый табун коз, штук шесть; но они остановились от меня шагах в ста и спокойно стали пастись. Собак не было слышно; вероятно, они потеряли след. Я страшно волновался и в конце концов не выдержал. Решив, что на дистанцию в сто шагов выстрел картечью должен дать хороший результат, старательно прицелился и выстрелил. Табунок коз шарахнулся в сторону, и я ничего не убил. Старые охотники крепко меня выругали за отсутствие выдержки. По проверке оказалось, что до ближайшего козла, в которого я стрелял, было 125 шагов.
В третьем загоне я опять понял, что гон идет на меня. Но от волнения у меня случилось расстройство желудка, и я, спустив штаны, присел, судорожно сжимая в руках ружье. В этот самый момент, шагах в тридцати передо мной, выскочила коза, а за ней козел. Я сделал два выстрела, но позорно промазал. Еранцов ругал меня долго, а я чувствовал себя опозоренным чуть ли не на всю жизнь.
Четвертый, последний загон происходил уже перед заходом солнца, и деревья бросали длинные тени. Гон направлялся куда-то в сторону от меня. Я напряженно прислушивался и молил всех святых повернуть на меня козла, чтобы исправить позор предыдущих загонов. Посмотрев случайно в другую сторону, я замер от волнения: шагах в пятидесяти от меня сидел волк и внимательно смотрел на меня. Я ясно видел каждый волос на его морде, глаза и поднятые уши. Осторожно поднимая ружье, я не спускал глаз с волка. Наконец ружье поднято, хорошо нацелено в грудь зверя, и выстрел загремел. Каково же было мое изумление, когда, после того как дым рассеялся, я не увидел никакого волка, а передо мной торчал простой пень срубленного дерева. Я не верил своим глазам. Подойдя к пню, я увидел, что весь заряд картечи хорошо лег в дерево. По-видимому, сильное напряжение и игра теней от заходящего солнца сыграли надо мной злую шутку. К моему счастью, Еранцов убил на этот раз козла и, будучи в прекрасном настроении, не только меня не выругал, а рассказал ряд интересных аналогичных случаев, бывших с ним на прежних его многочисленных охотах. Рассказчик он был превосходный, и мы все слушали его, с наслаждением закусывая в домике лесника. Поджаренные печени от убитых козлов, запиваемые красным вином, казались мне удивительно вкусными.
Через несколько дней после нашего возвращения в Севастополь к вечеру стало холодно, выпал снег и термометр показывал несколько градусов ниже нуля. На другой день рано утром отец меня разбудил, сказав, чтобы я скорее одевался и пришел к нему в кабинет. Он мне сказал, что мы сейчас поедем на охоту на дроф, что много дрофных стай тянет через город. Я много уже слышал про зимнюю охоту на дроф, но никогда не принимал в ней участия. Быстро одевшись, я прошел к отцу. Он вывел меня на улицу и показал на две дрофиные стаи, тянувшиеся довольно низко через наш дом. Я увидел стаи примерно штук по сорок дроф.
Дрофы летели углом, как летят гуси и утки. Впереди каждой стаи отчетливо были видны очень крупные дрофичи, которые были колонновожатыми.
Во время чая, пока кучер запрягал лошадей, отец мне рассказал следующее. Когда наступает зима и в губерниях Херсонской, Подольской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Екатеринославской выпадает снег, все дрофы, там находящиеся, перекочевывают к югу, и очень большое количество их скапливается в Крымских степях к югу от Перекопа. В этой части Крыма оттепель и дождь часто сменяются зимой резко наступающими морозами, и часто случается, что большие стаи дроф с обмерзшими крыльями на несколько часов теряют способность летать. Жители деревень и промышленники этим пользуются, окружают такие стаи дроф и перебивают их просто палками.
Когда же и в Крымских степях выпадает снег, дрофы летят к морю и, по-видимому, стараются его перелететь, направляясь к югу. Но, отлетев далеко от берега, видя, что земли нет и чувствуется усталость, возвращаются назад. Когда дрофы летят к морю, они обыкновенно держатся очень высоко, а возвращаясь, усталые, назад, летят очень низко и стараются тут же, на берегу, опуститься и отдохнуть. Все это, конечно, знают охотники, и все имеющие ружья стремятся в такие дни к берегу моря. «Впрочем, ты сам все это сегодня увидишь, – закончил отец. – Дроф летит много, и охота обещает быть удачной».
Через час мы уже подъезжали к морскому берегу недалеко от Георгиевского монастыря. По берегу я действительно увидел группы охотников, чего-то ожидающих. Некоторые были вооружены биноклями.
Наконец с разных сторон раздались крики «летят!», и все попрятались за камни или за кусты. Залегли и мы с отцом. Жадно я смотрел по направлению моря. Через некоторое время я увидел несколько дрофиных стай, низко летящих над самым морем к берегу. От мороза от воды подымался пар, и я понял слышанное мною прежде выражение: «дрофы парятся». Усталые птицы действительно летели над самым паром (испарением), поднимавшимся от воды.
Через несколько минут по всему берегу началась канонада. Конечно, это не охота, но бойня, садочная стрельба. Но должен все же сказать, что эта стрельба очень оригинальна и действовала захватывающе. Отец и я убили по две дрофы каждый и довольные вернулись домой.
В этот же приезд в Севастополь я в первый раз в жизни участвовал в облаве на волков. Дня за два до моего отъезда в Полтаву пришли к нам П.В. Колюпанов и А.Е. Варыпаев и предложили отцу и мне поехать вечером на волчью облаву, которую устраивает начальник охотничьей команды Белостокского пехотного полка. Мы согласились.
Варыпаев мне рассказал, что, опять-таки в связи с выпавшим в Крымских степях снегом, к Инкерману пригнано большое количество отар овец. Передвижение же овец к югу сопровождают их всегдашние спутники – волки. Что начальник охотничьей команды Белостокского полка получил сведение, что появилось около Инкермана много волков, и решил устроить на них охоту.
Часам к 10 вечера мы были уже на месте и устроились в сторожке у лесника. Спрошенные пастухи наговорили столько про волков, что я от волнения и нетерпения не спал всю ночь.
С 9 часов утра начались загоны. На первых трех загонах, в ожидании волков, не разрешалось стрелять не только по зайцам, но и по лисицам. Как назло, в этих загонах на меня выкатила отличная лисица и несколько зайцев. Я проводил их глазами. С четвертого загона, потеряв надежду на волков, было решено стрелять и зайцев. В одном из загонов я убил одного зайца.
Солнце стало совсем снижаться, и мы решили устроить последний заячий загон около самой сторожки лесника, рядом с пасущимися овцами. Я стоял на номере рядом с Колюпановым9 (моряк, тогда лейтенант; хотя возрастом был много старше меня, но был моим большим другом), шагах в семидесяти от него.
Только начался загон, как я увидел, что Колюпанов поднял ружье и что-то высматривает перед собой. Посмотрев в ту сторону, я увидел двух волков, медленно пробирающихся между кустами прямо на моего соседа. Колюпанов подпустил их шагов на двадцать и выстрелил. Один из волков как подкошенный свалился, а другой повернулся и бросился назад. Колюпанов выстрелил второй раз. Я увидел, как второй волк поджал зад, как-то заметался в разные стороны, а затем повернулся и бросился прямо к Колюпанову. Последний успел переменить один патрон и новым выстрелом уложил волка в каких-нибудь пяти-шести шагах перед собой.
У меня создалось впечатление, что раненый волк бросился на Колюпанова, но П.В. объяснил это проще и правдоподобней: тяжело раненный зверь просто потерял соображение и направление и случайно бросился бежать по направлению Колюпанова. Картина была чрезвычайно интересна и эффектна; я только позавидовал соседу и упрекал судьбу, что не на меня вышли волки.
Директор корпуса, престарелый Семашко (если не ошибаюсь, Франц Иванович) доживал последние годы своего директорства. Будучи очень преклонного возраста и отличаясь чрезвычайной добротой, он распускал всех и все. На инспекторе классов, полковнике Анчутине10, лежала тяжелая обязанность подтягивать то, что распускал директор, и вносить поправки в управление корпусом. Это ему не всегда удавалось, так как действовать надо было очень осторожно, чтобы не обидеть доброго и самолюбивого старика.
Единственная часть, за которой неустанно наблюдал Ф.И. Семашко и продолжал которой прекрасно руководить, было преподавание математики. Будучи сам отличным математиком, он сумел подобрать и отличных преподавателей. Большинство кадет полюбили математику и занимались очень успешно. С глубоким уважением вспоминаю своего учителя математики Данкова.
Не то было с другими предметами. Общего руководства, по-видимому, было мало, и все зависело от случайного подбора учителей. Русский язык, к сожалению, был представлен очень плохо; хороших учителей не было. Мой класс, начиная с третьего до выпуска, вел по русскому языку Боровский, который, насколько мне известно, получил впоследствии крупное назначение по Министерству народного просвещения. Боровский был полной бездарностью и вел дело отвратительно. Большинство из нас окончило корпус полуграмотными и очень мало знакомыми с отечественной литературой. Он заставлял нас вызубривать назубок небольшие куски из различных произведений русских писателей и в буквальном смысле слова душил сочинениями. Но Боже, что это были за сочинения! Требования Боровского были такие: должно быть написано возможно больше, на хорошей бумаге, каллиграфическим почерком и обязательно с красивой закладкой, и должно подаваться в приличной папке и сшито аккуратно и красиво. Разрешалось делать каких угодно размеров выписки из сочинений подходящих авторов. Он объяснял, что этим путем он заставит нас хорошо познакомиться с русской литературой. Но мы приспособлялись, читали мало, а представляли громоздкие сочинения чисто компилятивного характера. По наружному виду сочинения были великолепны, а по внутреннему содержанию – жалки.
По истории был один хороший преподаватель, но к нему я, к сожалению, не попал. Мой учитель истории был Павловский. Это был просто шут гороховый и мало чему нас научил. Уроки были сухие и малоинтересные.
Учитель физики и химии, Гнедич, был очень знающим физиком и прекрасным преподавателем. Мы все занимались этими предметами с любовью и с большим интересом.
Учитель естественной истории, Шевелев, был прекрасный человек, но довольно слабый преподаватель, не умевший внушить любовь к предмету. Но надо ему отдать справедливость в том, что он очень умел и ловко пользовался кадетами для пополнения естественного кабинета, давая каждому из нас перед отъездом на летние каникулы поручения привезти то или другое. Помню, что я был в большом затруднении выполнить одно из таких поручений: достать хороший экземпляр омара, положить его на муравьиную кучу и затем, аккуратно собрав части омара, очищенные муравьями от мяса и прочих внутренностей, привезти их для естественного кабинета.
В Севастополе хорошего экземпляра омара не нашлось, и моя мать попросила капитана какого-то парохода купить подходящий экземпляр в Константинополе. Поручение было выполнено, но с большим трудом (хорошо еще, что на нашем хуторе под Севастополем оказались муравьиные кучи!).
Шевелев был в то же время воспитателем. По этой своей должности он дал нам, малышам (я тогда был в 4-м классе), хороший урок, нас всех очень сконфузивший и заставивший призадуматься.
Однажды, когда Шевелев был дежурным, несколько мальчишек по предварительному сговору забрались в дежурную комнату во время отсутствия воспитателя и подложили под рваную обшивку спинки кресла губку, пропитанную чернилами. Мы все с наслаждением ожидали последствий. Вечером ничего не произошло, и мы были разочарованы, думая, что наш трюк не удался. На другое утро, перед чаем, Шевелев нас всех выстроил и произнес короткое слово, но которое запало в наши сердца. Он нас не ругал, не кричал, а говорил тихо, в его голосе чувствовались скорбь и слезы. Он сказал, что, сев в кресло, почувствовал мокроту на спине. Дотронувшись рукой до мокрого места, он увидел, что его рука в чернилах. Осмотрев кресло, он все понял.
Дальше он сказал примерно следующее: «Вы поступили нехорошо. Чего вы достигли? Вы меня действительно неизвестно за что обидели; вы испортили мой единственный приличный вицмундир. Мне, едва перебивающемуся с большой семьей на получаемое жалованье, вы причинили действительно большой ущерб. Хорошенько подумайте о том, что вы сделали, и вам будет стыдно. Я на вас не сержусь, потому что вы не понимали, что вы делали. Мне вас просто жалко». Эти слова глубоко запали в сердца многих из нас. Нам действительно стало стыдно, и мы поняли, что сделали большую гадость.
По географии был хороший учитель, но и он как-то не умел привить любовь к предмету.
По иностранным языкам были очень слабые преподаватели. Французский язык преподавал старик Гоното, который был больше хохол, чем француз. Любимой его поговоркой было «Я старый горобец и меня на мякине не проведешь». Учителем немецкого языка был Штединг, добродушный немец, над которым мы все смеялись и которому устраивали самые различные гадости. Трудно себе представить, чего мы только не вытворяли: напускали весной в класс целые тучи майских жуков; вымазывали кресло немца и его стол чернилами; устраивали за досками чертиков, которые путем сложных приспособлений выскакивали из-за досок во время уроков; устраивали кошачьи концерты и т. д. и т. п. Наконец, даже качали немца во время уроков, подбрасывая высоко к потолку и угощая щипками.
Но ничем нельзя было пробрать толстого и добродушного немца. Максимум, чего мы достигали, – это что ему удавалось кого-нибудь поймать, зажать между своими здоровенными коленями и изрядно излупить, но. и то с крайне добродушным видом и прибаутками вроде такой: «Нишего, нишего, до свадьбы заживет».
Любили и очень уважали мы все нашего славного батюшку, преподававшего Закон Божий и часто нас журившего за наши скверные шалости.
Много раз вспоминал я Симбирский корпус. Мне казалось, что там лучше было поставлено преподавание. Я не знаю, конечно, как бы я учился в Симбирском корпусе, если бы я там остался, но после перевода в Полтаву я как-то потерял охоту и любовь к учению. Я делал в смысле занятий только строго необходимое. В течение учебных лет я занимался довольно плохо и имел много дурных отметок. Но к экзаменам всегда подтягивался и, к удивлению преподавателей, отвечал на переходном экзамене всегда хорошо и без всяких затруднений переходил из класса в класс.
Окончил я корпус в 1885 году довольно сносно, но для поступления в Инженерное училище не хватило нескольких сотых, и я был послан в Петербург в пехотное Павловское военное училище.
Необходимо отметить о росте Севастополя после постройки Лозово-Севастопольской железной дороги и после Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
Перед Крымской кампанией Севастополь был чисто военно-морским портом и морской крепостью. Он являлся стоянкой и базой нашего Черноморского флота. Севастополь обладал чудными двумя бухтами (Северная – семь верст длины, Южная – около трех верст), годными на всем своем протяжении для стоянки самых больших кораблей; имея ряд небольших бухт (разветвлений Северной бухты), в которых были устроены пристани и мастерские (Килен-бухта была приспособлена для окраски подводных частей судов), закрытый от господствующих ветров, что позволяло спокойно стоять кораблям на якорях во всех никогда не замерзающих бухтах, – представлял великолепный естественный порт. По своим качествам Севастопольский порт, как мне говорили моряки, является третьим в мире. Имея отличные верфи и мастерские в связи с недоступными по тому времени с моря мощными морскими батареями, Севастополь представлял по всем этим данным исключительный и первоклассный военно-морской порт. Город был чисто военный, и вся жизнь жителей города была тесно связана с флотом.
После Крымской кампании, когда флот был уничтожен, а город и все верфи и мастерские были разрушены, и Россия была лишена права иметь на Черном море свой военный флот, Севастополь совершенно замер и не мог отстроиться после страшных разрушений от бомбардировок во время осады в Крымскую кампанию.
Первой живительной струей, влившей жизнь в мертвый город, была постройка Лозово-Севастопольской железной дороги. Город начинает подправляться, и в нем устраивается коммерческий порт. Но за два года, прошедшие после постройки железной дороги до Русско-турецкой войны, конечно, многого не могло быть сделано.
После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Россия восстановила свое право иметь на Черном море военный флот, а Босфор и Дарданеллы были открыты для русских коммерческих судов. Так как российская казна после войны была жидка, да, кроме того, на создание Черноморского военного флота требовалось вообще много времени, русским правительством было решено параллельно с созданием Черноморского военного флота и постепенным устройством в Севастополе военно-морского порта развивать в Севастополе коммерческий порт и всячески способствовать развитию в Черном море торгового коммерческого флота, который обслуживал бы порты Черного моря, вел торговлю в Черном море, а также имел рейсы из Черного моря на Дальний Восток, в Турцию, Италию, Францию и к портам Африки.
Очень быстро создался ряд частных и субсидируемых правительством пароходных обществ. Наиболее крупными из них были Общество Добровольного флота, Русское общество пароходства и торговли и Российское общество. Главнейшими русскими коммерческими портами на Черном море стали Одесса и Севастополь.
Одесса имела доминирующее значение, как уже готовый крупный торгово-промышленный центр богатейшего юго-западного края России. Севастополь же стал постепенно приобретать крупное значение благодаря исключительным качествам своих бухт, дававших возможность быстро устроить обширный и первоклассный коммерческий порт, а также став портом для товаров Екатеринославской и Харьковской губерний, Донецкого района и вообще юго-востока Европейской России. Южная бухта Севастопольского порта была передана правительством городу для устройства коммерческого порта.
С 1879 года начинается расцвет и сказочный рост Севастополя. Жизнь города резко меняется. Из тихой, провинциальной она становится все более и более шумной, деловой и богатой. В Севастополе начинает биться полный пульс торгово-промышленной жизни; город притягивает и путешественников. Все, кто направляется на начинающий развиваться Южный берег Крыма, задерживаются на некоторое время в Севастополе, оставляют там деньги, приобретают имущество, и город начинает богатеть, отстраиваться и улучшаться. Этот расцвет Севастополя продолжается примерно до 1894 года.
В 1888 году на Черном море появляется несколько вновь построенных в Севастополе и Николаеве военных кораблей. Черноморский военный флот возрождается; он уже числит в своем составе несколько броненосцев. Начинает проводиться в жизнь довольно обширная программа по новым постройкам военных судов флота. Естественно, требуется и более крупное оборудование Севастополя как военно-морской базы и единственного военно-морского порта и морской крепости (не считая небольшой крепости в Батуме) на берегах Черного моря.
Интересы флота и военно-морского ведомства сталкиваются и перекрещиваются с интересами города Севастополя и Севастополя как коммерческого порта. Представители военного морского ведомства и командования Черноморского флота настаивали на необходимости уничтожения в Севастополе коммерческого порта и на полной передаче в ведение морского ведомства всего Севастопольского порта. Они доказывали, что при дальнейшем усилении флота Северная бухта будет недостаточна по своим размерам для стоянки военных судов на якорях или на бакенах; что часть Южной бухты должна быть отведена под стоянку судов, а вся остальная часть Южной бухты должна быть передана в их распоряжение для устройства различных мастерских, пакгаузов, пристаней и пр.; что совместное хозяйничание в одном порту военного морского ведомства и органов коммерческого порта совершенно невозможно и что это не обеспечивает сохранения в секрете различных опытов; что в Севастополе можно сохранить лишь несколько пристаней для причала пассажирских пароходов, но и их надо перенести из Южной бухты или на Северную сторону, или в Артиллерийскую бухту (ближе к взморью).
Ф.Н. Еранцов, бывший в то время городским головой Севастополя, отстаивал интересы города и коммерческого порта, доказывая, что Северная бухта по своим размерам и качествам вполне достаточна для устройства в ней обширного морского порта, в котором может помещаться громадный флот; стоянка военных кораблей на якорях или на бакенах совершенно не рациональна, требуя для каждого корабля громадного водного пространства (ибо в зависимости от направления ветра каждый корабль должен иметь возможность поворачивать во все стороны вокруг своей точки причала); что надо устроить для кораблей и прочих судов флота причалы вдоль берегов Северной бухты (как бы стойла).
Предоставление Северной бухты в полное распоряжение военно-морского ведомства даст для последнего совершенно достаточно места для устройства каких угодно пристаней, пакгаузов, погребов, мастерских и пр. Предоставление в распоряжение города Южной бухты для устройства отличного коммерческого порта совершенно отделит коммерческий порт от военного и даст возможность морскому ведомству производить какие угодно опыты в Северной бухте в полном секрете. Производство же «секретных» опытов в Южной бухте, даже при полном уничтожении коммерческого порта, но перед глазами всех жителей, живущих вдоль берегов этой бухты, не может гарантировать этого секрета.
Еранцов доказывал, что при подобном разделении вполне возможно сохранение в Севастопольской гавани обоих портов: военноморского и коммерческого. Он указывал, что с государственной точки зрения просто грешно уничтожать в Севастополе коммерческий порт, который в скором времени должен приобрести мировое значение.
Борьба между этими двумя течениями была, конечно, перенесена в Петербург. Император Александр III склонялся стать на точку зрения Еранцова. Победа этого течения была близка, но. сорвалась.
В прессе, особенно в суворинском «Новом времени», началась кампания против коммерческого порта в Севастополе. Доказывалось, что совершенно уничтожать коммерческий порт в Крыму преступно, но что нужно перенести коммерческий порт из Севастополя в Феодосию; что этим будут разрешены все задачи. Во главе этой кампании стал художник Айвазовский, сам феодосиец и давно стремившийся поднять значение своего родного города.
Айвазовский доказывал, что хотя Феодосия не имеет закрытого порта, но при помощи мола его легко устроить, а соединив Феодосию с Лозово-Севастопольской железной дорогой особой железнодорожной веткой, будет достигнуто устройство прекрасного порта, который, не будучи связан с крепостью и военно-морским портом, будет свободно развиваться.
Борьба сторонников обоих проектов разгорелась. Особо назначенная комиссия из высших государственных чинов долго не могла договориться, и в конце концов голоса разделились поровну. Государь Александр III долго колебался, но наконец стал на сторону военно-морского ведомства, и судьба Севастополя была решена. Коммерческий порт в Севастополе было разрешено оставить временно – до окончания устройства закрытого порта в Феодосии.
Начался упадочный период Севастополя. Когда же был построен мол в Феодосии и было решено Феодосию соединить железной дорогой со станцией Джанкой, Севастополь превратился исключительно в военно-морскую крепость и военно-морской порт.