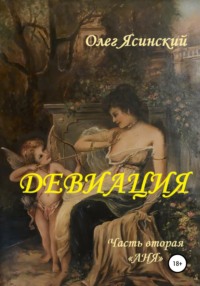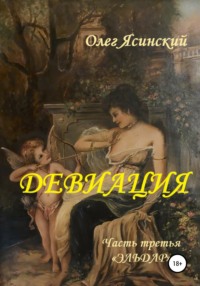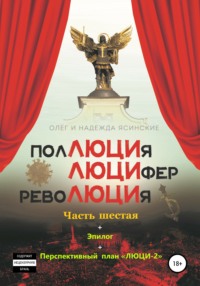полная версия
полная версияДевиация. Часть первая «Майя»
Заправил ленту, нажал клавишу воспроизведения. В колонках зашелестел магнитный шум, проявилась скрипка.
Не отступать!
Вернулся к столу, наполнил бокалы до краёв. Украдкой глянул на девушку – недовольства не заметил. Гайдну с меня причитается!
Поднял бокал, Майя взяла свой.
– Давай выпьем за красивую девушку, которая слушает гениальную музыку в компании влюблённого поэта.
– За девушку, музыку и поэта! – откликнулась Майя, тщательно выговаривая слова. Размашисто чокнулась, надхлебнула. Отставила.
Как знает – мне уже было без разницы.
Одним глотком выпил, хлопнул бокальчиком об стол. Порывисто (чтобы трусливо не отступить!) поднялся, пересел к девушке. Обвил руками за талию.
Не ожидая напора, Майя попыталась отслониться, но я предупредительно ткнулся губами в щёку, нашёл губы. Ответила не сразу, однако натиск и напор решают всё!
В поцелуе, не дав опомнится, стремительно нырнул правой рукой под юбку, между не успевших сжаться ног. Добрался, стиснул мягкий бугорок. Майя взбрыкнула, забрала губы.
– Не надо! – попыталась убрать пойманную ладонь, но я уже неподвижно позиционировался.
Мы замерли. Всё складывалось навязчиво, глупо и неправдоподобно. Но отступить уже нельзя – будет ещё хуже. Что ей тогда сказать: извини за настырность, не хотел тебя обидеть, больше такого не повториться? Бред!
Скользнул взглядом по иконе в красном углу – Иисус осуждающе смотрел на меня: «И если правая твоя рука соблазняет тебя…». Не отступлюсь! Если не согрешу блудом, придётся грешить помыслами.
Помогай мне Гайдн!
Дух великого композитора услышал. После некоторой паузы в колонках порывисто запели скрипичные аккорды. Утопающему подавалась очередная соломинка.
– Началась знаменитая «Прощальная симфония», – с придыхом зашептал Майе в ушко, легоньким шевелением высвобождая зажатую руку для решительного наступления. – Название она получила благодаря финалу…
Легонечко (чтоб не спугнуть), просунул вспотевшую ладонь, раздвигая упрямые бедра. Тронул лобок. Опустился ниже, развёл пальцы, принялся гладить указательным и безымянным по краям, а средний вдавил, ощущая горячую упругость.
Майя вздрогнула, напряглась. Молчала.
– Во время исполнения музыканты один за другим покидают сцену…
Натиск и напор!
– Так Гайдн намекнул, что…
Не отпуская лобка, лишь немного подав руку вверх, поддел большим пальцем резинку, оттянул.
– … музыканты заждались отъезда из летнего поместья…
Напор!
Изловчился, запустил скрюченный мизинец в оттянутый зазор, а потом, рывком – всю кисть!
Там было горячо, кудряво, чуть влажно…
Майя ахнула, отмахнулась локтем – в самый раз мне под рёбра, да так – едва с дивана не слетел. Удержала рука, запутавшаяся в её трусах.
Девушка брезгливо вырвала бесстыдную, отскочила на край дивана.
– Я же просила – не надо! – сказала, как отрезала.
Отвернулась.
– Прости… – покаянно извинился я, понимая, что она и вправду обиделась.
Майя обтянула юбку на колени. Молчала. Смотрела в бок, на иконостас. Иисус ей одобрительно подмигнул.
Струнный квартет запиликал Adagio. Мой пыл остывал, эндорфин выветривался, Демон обиженно сопел.
– Больше так не делай! – подала голос Майя. – Терпеть не могу навязчивых приставал. Я сама решу, ЧТО и КОГДА нам можно.
– Да…
– Я заметила, какие ты книжки читаешь, – кивнула на раскрытый «Дневник обольстителя». – И твоё желание меня опоить – тоже. Запомни, на меня ЭТО не действует! Не так воспитана.
Я молчал. Все слова сказаны, что сделано – то сделано. Уже не рад был дурному начинанию. Не действуют Юркины рецепты на Майю. Тогда зачем дурью маяться?
Надо же – какое подходящее имя.
Будто разгадав мои сомнения, Майя примирительно улыбнулась.
– Давай забудем. Я тебя даже понимаю… Но рано нам в зажималки играть. Повстречаемся годик, а там посмотрим. Иди ко мне, – хлопнула ладошкой по дивану подле себя.
Годик?!!
Но ослушаться не посмел. Подошёл, примостился с краю. Майя придвинулась, обняла за плечи – как мама непослушного ребёнка, который повинился и больше не станет шкодничать.
– У меня таких отношений ни с кем не было, – сказала доверительно Майя. – Другого б давно отшила, а тебя прощаю. Только, больше так не делай.
Я молча кивнул. На душе скверно: выходит – не я девушку раскручивал по старинным рецептам, а она разрешила немного баловства. И от того понимания будто трещинка пошла: так, как раньше, Майю уже не хотел. Лучше бы она обиделась, когда в трусы полез, дала пощёчину, разрыдалась, убежала – кинулся бы за ней просить прощения! Однако этот холодный расчётливый тон, покровительство и отпущение грехов! Не нужно оно мне.
Ни пить, ни обниматься больше не хотелось.
Мы смирно, бесполо посвиданьичали ещё полчаса, дослушали «Прощальную симфонию», обговорили переворот в Москве, цены у кооператоров, её завтрашний отъезд.
Майя настояла, чтобы я домой её не проводил, завтра к автобусу тоже – она самостоятельная. Я и не рвался.
Ушла. Правая рука пахла женщиной. Ныло внизу живота. На душе пусто: ни любви, ни желания. Лишь усталость.
Недовольный Демон шепнул, что я мог бы обездвижить Майю, навести морок, заставить, если не исполнять мои желания, то не противиться им. Да только, не стало бы то победой.
Плюхнулся на диван, открыл наугад Кьеркегора: «Надо обладать терпением и покоряться обстоятельствам – это главные условия успеха в погоне за наслаждением…».
Образ Майи уже не вязался с наслаждением. Хорошо, что завтра она уедет.
Глава третья
Конец августа – сентябрь 1991, Городок
После Майиного отъезда скучать не пришлось. В Городке началась буффонада, которая эхом докатилась из Киева.
Учителей, в том числе и меня, собрали в школе, довели новые столичные директивы: украинская школа сбросила диктат КПСС и отныне запрещено проповедовать коммунистическую идеологию, особенно на уроках истории. А ещё к нам направили нового директора, призванного бдеть за исполнением этих директив.
Я плюнул через левое плечо, изобразил древнегреческого идиота. Меня больше заботили проблемы медиевистики к осенней сессии в институте и количество купонов, выданных в сентябре вместе с зарплатой. Отныне любая значимая покупка без них стала невозможной.
О Майе если и вспоминал, то с чувством вины и обиды. Вины – из-за дурного поведения, раззадоренного Юркиными подначками, а обиды – что простила меня, словно ребёнка капризного.
Перебирая в памяти пазлы нашего неудачного свидания, складывая их, зло распорашивая, понимал: предстаю в той нелепой картине жалким просителем, а не брутальным самцом, которым хотел казаться.
Лучше бы она меня не прощала.
Наведалась Майя в Городок через месяц, на выходные, четырнадцатого сентября. О том узнал лишь на второй день, в воскресенье, когда обратно собралась уезжать.
Позвонила: совсем не властно, с девичьим придыханием залепетала о киевских новостях, о том, как скучала, что хочет меня увидеть, предложила встретиться возле автостанции.
Я молча выслушал, дивясь разительной перемене. Хотел трусливо отказаться, сославшись на придуманную занятость, но не смог, пообещал и пошел. Считая себя порядочны, или желая таким казаться, я не мог не пойти, после того, что между нами БЫЛО. Стыдно вспомнить, что между нами было.
Я пошёл. Цветы купил. Выходило, что теперь она моя девушка. По дороге всё думал: почему Майя так переменилась и почему она моя девушка?
Юрка ещё раньше пытался мне растолковать о возможном развитии наших отношений, когда, в конце августа, после Майиного отъезда, заглянул проведать. Не терпелось своднику узнать о моих мытарствах.
– Ну что? – спросил Юрка, когда мы закрылись в келье, подальше от маминых ушей.
Я не ответил. Принялся сгребать со стола книги.
– Видимо – ничего, – заключил Юрка. – Долго над ответом думаешь.
Я молчал.
– Ты ей про Гегеля рассказывал?
– Про Гайдна.
– Один чегевара! Эх! Пропала наливочка! Лучше б я под неё кого осчастливил, – завёлся Юрка. – Чего ты на той мальвине зациклился?
– Сам же свёл…
– Свёл-развёл! Я тебя познакомил, чтобы не смотреть на твой кислый портрет! – отчитывал Юрка. – Знаешь, как им, недотрогам, хочется, но – нельзя. Мне одна рассказывала…
– Хватит! И так тошно, – огрызнулся я, швырнул собранные книги. Те обиженно трепыхнули, свалились на пол.
Юрка замолк на полуслове. Я с девушками нерешительный, но в ухо могу заехать.
– Натиск и напор пробовал? – спросил боязливо.
– Пробовал.
– Слабо пробовал… У тебя наливочки не осталось?
– Полбутылки.
– Неси остатки! Помянём твою загубленную юность.
Я присел, неторопливо собрал книги, аккуратно сложил на табурет. Лишь затем вынул из тумбочки недопитую бутылку, выставил на стол, достал конфеты, две рюмки. Отвернулся от натюрморта – один вид былого пиршества навевал грусть.
Юрка ожил, загреб бутылку, плеснул по-полной.
– Ну, чтобы стоял, и были! – сказал торжественно. Опрокинул одним махом, блаженно поморщился.
Я неспешно выпил, отставил рюмку, вылупился на довольную рожу профессора девичьих наук.
– У вас вообще НИЧЕГО не было? – осторожно спросил Юрка.
Боится праведного гнева. Зря. От выпитой наливки горячая волна разлилась по телу, умиротворила, настроила на философский лад.
– Чуть, – признался я.
– Что – чуть?
– Обнялись.
– А потом? – Юркины глаза заблестели.
– А потом она сказала: «Нет!».
Юрка сочувственно посмотрел на меня, как на больного. Покачал головой.
– Если б мужики после первого бабского «нет» отступали, то на земле давно б тараканы хозяйничали.
Взял бутылку, разлил по второй. Мы молча выпили.
– Что дальше? Не по пути и жмут сандалии?
– Не уверен… – хмель ударил мне в голову, потянуло на откровения. – Ты же знаешь, я пустозвонок не люблю. А эта – не такая.
– Все одинаковы, только дают по-разному, – вставил Юрка избитую банальность.
– Для меня это – не главное. Не самое главное. Больше хочется, ну… Чтобы смотрела заворожено, каждое слово ловила…
– Да-а, ты – цветок нежный, – перебил Юрка, не желая вникать в слюнявые бредни. – А я всё знаю. Знаю! Это из-за той малолетки ты меня выгнал?
– Когда? – не понял я, ещё витая в мечтах об идеальной любовнице.
– Когда ты болел. Помнишь? А я проведать пришёл. Как друг, пришёл. А ты притворился, что умираешь. Её ждал.
– Не помню, – соврал я.
– Да ладно, – отмахнулся Юрка. Покосился на опустевшую бутылку. – Больше нет?
– Откуда. Я ж у тебя одолжил… Так вот, чувствую – Майя хочет встречаться со мной. Но почему ломается?
– Мало ли, что у бабы может быть. Месяцы, например.
– Не было!
– Откуда знаешь? – сощурился Юрка.
– Не важно. Знаю.
– Ну… Баба противиться по разным причинам. Первое: ты ей не нравишься, – загнул палец. – Может быть?
– Не знаю.
– Не может. Ты ей сразу понравился. Такие цацы запросто встречаться не станут, тем более – приходить в гости. Второе: чтобы набить себе цену, – загнул второй. – Вот! Уже горячее. А?
– Предположим.
– Третье… – глянул хитро, цапнул следующий палец. – Третье – проверить серьёзность кавалера.
– Куда уж больше!
– Э, нет! Бабы – хуже КГБ. Она ещё долго тебе мозги будет пудрить.
– И чего?
– А того. Второе и третье: она набивает цену, плюс – проверяет серьёзность намерений. Что из этого следует?.. – Юрка сделал паузу, поднял указательный палец. – Она готовит нашего Эдмона себе в мужья. Вот!
– Ну ты и загнул! Она только школу закончила. Первый курс в университете…
– Остынь, Эдмон. Сам говорил, что девочка умная, из хорошей семьи. А они, умные, из хороших семей – знаешь, какие проныры.
– На кой я ей сдался? – Тоже перспективного жениха нашёл!
– Э… Думаешь, она за месяц твою подноготную не выведала? Баб не знаешь! – Юрка выпростал руку, опять принялся загибать пальцы.
– Во-первых, ты не из работяг. Из интеллигенции. Разные там: «Разрешите», «Пожалуйста», а не по морде с бодуна, как у нас принято. Так?
– Как сказать.
– Во-вторых – ты в райкоме Комсомола. Кандидат в партийные члены. Дальше – по партийной работе…
– Комсомол, того – тю-тю. Не будет Комсомола. И Партии. Слышал, что в Киеве твориться?
– Ещё посмотрим… Ладно, это не в счёт, – согласился Юрка. – Дальше: учёный, школа спортивная, институт. Учительствуешь. Директором школы станешь.
– Прям Нострадамус!
– Но и это не главное… – актерская пауза. – Главная твоя ценность – дядька Борис.
– Он причём?
– Дядя притом, что с твоей головой и таким дядей ты далеко пойдёшь. Сам выскочишь из нашего захолустья, да пиявку за собой вытянешь, которая присосётся. Майя давно рассчитала, и мылиться на роль пиявки. Понял?
– Ты загнул! Да у нас, может, ничего не будет. В Киеве, в университете столько парней, перспективных, любых.
– Кавалеров много – женихов мало, – как говорит моя маман. На киевских есть киевские. А тут – готовый жених, к тому же молодой и красивый, как Ален Делон. Не целованный, не балованный.
– Ага! Только слухи утихли. Помнишь, что обо мне болтали?
– Ну, во-первых – не зря болтали. А во-вторых – поболтали и забыли. Лишь дурни верят слухам, а у Майки семейка, видно, не дураки: мать в Белом доме работает, живут в высотке на площади.
– Ты откуда знаешь?
– Я всё знаю, – загадочно сказал Юрка. – Так вот, она хочет тебя заарканить, чтобы подготовить мужа. Не удивлюсь, если уже с маман о тебе говорила.
– Хочет она – не хочет! – огрызнулся я. – А меня спросили? Я что – кукла? Тем более, если б она хотела заарканить, как ты брешешь, то…
– Дурень, – заключил Юрка, поднимаясь с дивана. – В этом и есть непонятная бабская логика. Пойду я. Не серчай, давай краба, – протянул руку.
Мы попрощались. Уже в дверях Юрка оглянулся:
– Вот увидишь – женишься на Майке.
15 сентября 1991, Городок
Вспоминая разговор, шёл к автостанции. Душа щемила: неужели Юрка прав? Если она и на этот раз будет принцессу на горошине изображать – бегать не собираюсь. Больше не пойду.
Майю увидел на скамеечке возле входа в облезлое здание местного вокзала: беленькая блузка, чёрная юбка, косичка с красной лентой. Сердце йокнуло – ему не всё равно.
Майя тоже меня заметила, помахала рукой, улыбнулась. Вспорхнула, пошла навстречу, не отводила радостных глаз.
– Привет!
Я кивнул, подал гвоздики.
– Спасибо! – сказала Майя, нюхнула, сморщила носик. Видно, цветы ей не понравились.
Подняла на меня глаза:
– Ты чего?
– Ничего. Всё хорошо.
– У тебя такой вид…
– Не ожидал столь бурной реакции на свою персону, – попробовал отшутиться книжными словами, но вышло глупо.
– Я так скучала! – Майя взяла меня за руку. – Пошли к речке, поговорим. Столько новостей!
Упираться не стал – на нас зыркали прохожие. В Городке, где все всех знают, завтра муха превратится в слона и обрастет такими подробностями – сам не поверишь.
«Уже матери не боится…» – шепнул рассудительный Гном.
Мы спустились к речке, нашли потаённое место с отполированным попами бревном, приспособленным влюбленными под место свиданий. Летними вечерами по берегам людно, в каждом кустике шепот и ёрзанье, а сейчас лишь отдаленно шуршала дорога, да гремел под грузовиками раздолбанный мост.
– Я так скучала! Киев, будто муравейник: все копошатся, куда-то бегут. Мы с соседками по комнате на демонстрации ходили, – щебетала Майя. – А перед сном я читаю, потом о тебе думаю: вспоминаю наше лето, танцплощадку.
Я не ответил. Сгреб пучок опавших листьев, протер бревно. Умостился на край. Майя села рядом.
– Что у тебя случилось? В наш прощальный день таким не был.
– Ты тоже.
Майя покачала головой:
– Обиделся? Да?
Я молчал, напыщенный и глупый. Злился на Юрку, и на себя, поверившего.
– Это я, как… – виновато буркнул под нос, пытаясь выбрать подходящее слово. Излюбленное мамино: «кобель» – было не к месту. А ещё пробовал связать воедино Юркины предположения, Майину неподдельную радость и свои догадки.
– Пустое! – оживилась Майя. – Мы обсудили и закрыли тему. Больше так не делай. Я сама дам понять, когда готова. Договорились?
Я кивнул с облегчением. Обнял, притиснул хрупкое девичье плечико: пахнет весною. Умеют женщины нами вертеть – прав Юрка. А в остальном – гад! Он же Майю не знает, со своей колокольни судит. Меньше надо секретничать.
– Рассказывай новости, – поцеловал Майю в макушку.
Девушка почувствовала перемену, прижалась теснее, защебетала:
– В Киеве так интересно! После принятия Акта незалежності, люди на улицы вышли. Первую неделю занятий не было. Мы ходили на демонстрации, кричали речёвки, потом на поднятие украинского флага к Верховной раде ходили. Тоже кричали. Аж охрипла.
– Весело у вас.
– Я же говорю… Площадь Октябрьской революции переименовали в Площадь Независимости – они называют её Майдан. Памятник Ленину обрисовали. Сейчас модно на украинском говорить. И русских нужно ругать.
– За что?
– За всё! Что мы их кормили столько лет. Что Петр Первый – кат украинского народа…
– Кто? – Чудно историку такое слушать.
– Кат, – повторила Майя, как на уроке. – Это такой плохой человек, который всех мучит.
– Интересно. А кто тогда Мазепа?
– Герой. Нам рассказывали…
– Страшно, аж жуть!
– Ты что, против независимости? За коммунистов? – недовольно спросила Майя. – Ну да! Ты же комсомольский вожак!
– Я ни за кого.
– Так не бывает. Все за кого-то.
– Я – идиот.
– Кто? – Майя с опаской посмотрела на меня.
– Идиотэс. Древнегреческий. Так называли людей, которые не участвовали в собраниях и прочих сходнях.
– Вроде князя Мышкина.
– Вроде. Только он безобидный, а я – опасный. Если достанут.
– Прямо-таки опасный… Слышали бы тебя наши ребята на курсе, патриоты.
– Я тоже патриот. Моя любимая страна – Леанда. Всё, что вне её – лишь декорации.
– Какая страна? – удивлённо спросила Майя. – У тебя одни загадки.
– Я так… Что там ещё?
– Обменные пункты пооткрывали, можно доллары американские купить. Ты видел доллары?
– Не видел.
– Я тоже. И казино – как в Лас-Вегасе.
– Пусть играют… – я сдвинул руку с Майиного плеча на лопатку, легонечко запустил под мышку, чтобы чувствовать пальцами опуклость девичьей грудки. – Не будем о ерунде, давай о главном. Как учёба, как устроилась в общежитии?
Майя придвинулась, руку мою допустила, не противилась. Особо не таясь, охватил ладонью упругий конус, заиграл пальцами, чуть продавливая плотную чашечку.
– Нормально устроилась, – с придыхом заворковала Майя, чертя указательным пальчиком на моём колене крестики-нолики. – Сначала, после посвящения в студенты, у нас неделю занятий не было – на митинги ходили.
– Ты уже рассказывала.
– Мы много раз ходили. А ещё…
Девушка защебетала, однако мысли мои были далеко от киевских новостей – всецело в левой руке, в кончиках пальцев, которые всё откровеннее сжимали Майину грудь.
– Да… А ты знаешь, что декан нашего факультета – из Городка? – Майя отстранилась, посмотрела на меня. Осязающая рука, лишенная упругой прелести, обиженно повисла.
Я кивнул.
– Это – твой родной дядя?
– Мамин брат. А ты раньше не знала?
– Мама говорила, что декан факультета, на котором буду учиться – наш земляк. Но ты не думай, я сама поступала!
– Не думаю.
– И ещё: маме донесли, что я с тобой встречаюсь. И она… согласна. Теперь можно не прятаться, – Майя потянулась, поцеловала меня в щёку.
«Вот почему не таилась на автостанции…» – шепнул Гном.
Однако я не хотел притягивать надуманные страхи. К тому же крестики-нолики, выписываемые девичьим пальчиком на моём колене, привели к такой сладкой истоме, что доведись сейчас привстать – случится конфуз.
Два часа до отправления автобуса мы проговорили о киевской жизни, невиданных переменах.
Но для меня, осязающего, Майин лепет служил лишь фоном, под который заскучавшие руки пустились в неспешный путь по недозволенным ранее девичьим тайнам.
Майя уже не прятала губы, не убирала мои руки, стала ласковой, податливой. В тот миг казалось: никаких других девушек мне не нужно, потому что бывшие до неё – лишь сон, а всё, что будет – лишь она, желанная, с весенним запахом волос и легчайшим пушком на бархатистой внутренней стороне бедра.
Мы договорились встретится в Киеве, куда приеду в ноябре на сессию в институт.
Когда шли к автостанции, Майя вспомнила, что забыла цветы. Возвращаться не стали, не было времени; да и гвоздики ей совершенно не нравятся – призналась девушка. Я не обиделся. Я парил в блаженных эмпиреях и не мог поверить, что у нас СЛОЖИЛОСЬ, что в Киеве мы увидимся и, возможно, с поправкой на сегодняшнее свидание, встречи обретут единственно верное продолжение.
Я боялся об этом думать, чтобы не сглазить, но раздразнённый Демон не слушал, навевал непристойные живые картинки, от которых сладко млело в животе.
Возле автобуса, не обращая внимания на любопытных отъезжающих, Майя не таилась, не разрывала рук, как бы заявляла: «Да! это мой парень! Он занят!». А когда заходила в салон, повисла на нижней ступеньке, обняла меня за шею и поцеловала в губы.
Я совсем обалдел от девичьей смелости – меня ещё никто никогда не обнимал ТАК, при людях!
Заколдованный невозможной реальностью, ещё чувствуя на губах вкус девичьих губ, я видел, как на экране автобусных окон Майя пробирается тесным проходом, садится, а затем посылает воздушные поцелуи сквозь запылённое стекло, которое превращает её в иллюзию, обрамляет золотым ореолом из листьев отражённого клена.
Глава четвертая
Сентябрь – октябрь 1991, Городок
Столичная кутерьма докатывалась до наших окраин, внесла разлад в размеренную провинциальную жизнь.
В начале октября собрали бюро райкома Комсомола, в которое входил и я. Первый секретарь со скорбным лицом озвучил: на Чрезвычайном съезде ВЛКСМ постановили, что Комсомол выполнил историческую задачу и прекращает существование, а его преемниками станут республиканские союзы молодёжи.
Все о том слышали из телевизора, потому не очень удивись. Будем свой национально-сознательный Комсомол строить – молодёжь стране нужна. Оказалось – не нужна. Из Киева пришла директива, что после запрета КПСС, смысла в существовании её «младшего брата» нет.
Функционеры обмерли, запричитали, но мне было всё равно. Я тяготился комсомольскими заседаниями, вечной говорильней о членских взносах и агитации безразличной молодёжи, для которой проблема субботней выпивки была неизмеримо важнее проблем мировой революции. К тому же, попал я в райком случайно, заплатив несоразмерную цену, после чего, видимо, и стал убежденным идиотом.
Через некоторое время двухцветным флагом накрылось пионерское Прекрасное далёко.
Новый директор школы, присланный из области в начале учебного года, в вышиванке, с лицом показушного незалежника, ещё в сентябре негодовал по поводу оформления кабинета истории, а особенно – пионерской комнаты. Распорядился портреты Ленина убрать и повесить «наше всё» – Тараса Григорьевича. А тот в одном экземпляре, в кабинете украинского языка. Я распоряжение игнорировал, впоследствии чего был оплеван в порыве справедливого гнева. Пришлось вести уроки «под гвоздём», так как «нашего всего» не хватило на всех.
Хуже вышло с пионерской комнатой, со стен которой я отказался снять портреты пионеров-героев (не за идею, поскольку мирских идей не имел – назло директору). Узнав о моём упорстве, тот пригрозил комнату, как рассадник крамолы, у меня отобрать, содержимое выбросить, а там устроить кабинет народоведения. И закрепить за ним учителя истории, но не меня, потому как горе-педагогу с комуняцкими убеждениям, отравителю неокрепших детских душ, нет места в национальной школе.
Наведя шороху, новая метла успокоилась, озаботилась иными проблемами. Однако прозорливая Змея нашёптывала, что меня в покое не оставят. Потому приходилось думать не только о встрече с Майей и Юркиных пророчествах, но и о поисках новой работы.
Так прошёл сентябрь, в конце которого я вбил очередной гвоздь в гроб школьной карьеры – концерт ко Дню учителя подготовил на русском, за что был предан анафеме в виде прерывания выступления клокотанием директорского гнева. Я обиделся, нехорошее подумал о директоре, за что получил нагоняй от мамы.
Третий, последний гвоздь, я вбил размашисто, с фанатизмом обречённого. Спустя месяц после самороспуска районного Комсомола, на педсовете начальственный поборник независимости, торжествуя заявил: бывшая Всесоюзная пионерская организация имени Ленина, она же Федерация детских организаций Украины, окончательно прекратила существование.