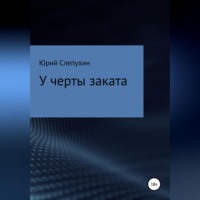Полная версия
Государева крестница
– В том и поломка, – сказал Андрей.
– Ну какая это поломка. Бывает, раздует ствол – вот это уж беда… коли трубка была худо прокована, аль трещину какую недоглядели, так Боже упаси при заряжании пороху пересыпать сверх меры. А иной и пересыплет, чтобы, значит, бой был дальше. Дуракам-то закон не писан. Ладно, налажу я твою пистоль, пущай полежит покамест, мешкать не стану.
– Да мне, Никита Михалыч, не к спеху.
– Тебе не к спеху, а у царя свои расчеты – а ну как опять воевать кого пойдет, крымцев там, литовцев… В походе пистоль-то пригодится.
– Покуда литовцы с крымцами нас воюют, не мы их, – заметил Андрей. – Вон как под Оршей получилось: князь Петр Шуйский, Плещеев с Охлябиным, князья Палецкие, пять тысяч войска, конница, огневой наряд – все сгинуло в одночасье, попались как слепые кутята! – Он скрипнул зубами, с маху ударив кулаком по стене.
– Слыхал я, будто Курбский там был с Радзивиллом? Этот воевать свычен, – сказал Фрязин.
– Кто, Радзивилл?
– Тот тоже… а я про Курбского говорю, про твоего тезку. Он ведь, как Полоцк ходили брать, был воеводой сторожевого полка?
– Да, впереди шел, – неохотно сказал Андрей.
Ему не хотелось говорить о князе Курбском, измена прославленного полководца до сих пор язвила его, словно отравленная заноза. Он ни разу и словом не перекинулся с самим князем; но с той поры, как впервые – мальчишкой – увидел его в казанском походе, Курбский был для него примером истинного воина – бесстрашного, умного, умеющего не только лихо рубиться, но и водить за собой тысячные рати. Весть о том, что Курбский – всесильный наместник Ливонии – прельстился литовским золотом и порушил крепкое целование, воровски перебежав к Жигимонту, была для него как удар по голове. Сперва даже не поверил, думал – облыжно говорят или перепутали с кем иным. К польскому королю последнее время съезжали многие (кому удавалось), но чтобы Курбский?
– И чего ему не хватало, – продолжал Фрязин, как бы раздумывая вслух, – может, обиделся, что в Юрьев на воеводство посадили… Адашева-то, помнится, тож туда сослали, как царь на него опалился. Может, и князь Андрей чего чуял…
– Да нет, говорят, в милости пребывал.
– Царская милость, она, знаешь… больно уж переменчива. На пиру-то в Грановитой, как войско вернулось из Литвы, Курбского не было… Не позвали, мыслишь, аль сам не пришел?
– Сам не прийти не мог…
– Вот то-то.
– Ладно, не хочу я про него, – сказал Андрей, – изменил так изменил, ему перед Богом ответ держать.
– И то. Сказано: не судите, да не судимы будете. Нам в этих делах не разобраться…
За спиной у Андрея лязгнула дверная щеколда, скрипнули петли, опахнуло прохладным – из сеней – воздухом.
– Тятенька, обе-е-едать, – звонко пропел голос, который так часто звучал в его ушах последние две недели. Он быстро обернулся, она ахнула и вскинула ладошку к губам, заливаясь нежным румянцем. – Ой, Господи…
Андрей, тоже чувствуя, что щекам становится жарко, поклонился в пояс, коснувшись пальцами половицы:
– Здравствуй, Настасья Никитишна, прости, коли напугал.
– Да нет… чего пугаться-то, – шепнула она одним дыханием. – Здрав и ты будь, Андрей… Романович…
– Срамишь меня, Настена, – сказал Фрязин, – гость в дому, а ты вламываешься, будто со своими девками в салки играешь.
– А мне не довели, – она покраснела еще пуще, – думала, один ты…
– Такая вот у меня, Андрей Романович, дщерь невежа, учишь ее, учишь, а все без толку. Ну то пошли за стол… глянь там, Настя, чтоб рушник при рукомойнике был чистый…
Фрязины обедали по-простому: за столом кроме хозяина с дочкой было еще четверо – мамка или ключница, которую Андрей видел уже в прошлый раз, и еще трое – приказчики, то ли старшие работники. День был постный, стряпуха принесла в деревянном корытце холодного налима отварного, блюдо квашеной капусты. Мужчины выпили по чарке, закусили круто посоленным хлебом. После налима подали обжигающую уху, прямо из печи, да еще щедро сдобренную чесноком и красным перцем. Андрей сидел справа от хозяина, первым за длинной стороной стола, слева – напротив него – то же место занимала Настя, сидела, не поднимая глаз от тарелки. Разговоров за столом не было, обменивались только редкими словами – просьбами передать солонку, уксус. После ухи ели карасей, пряженных в сметане (пост, видно, соблюдался у Фрязиных не слишком сурово), потом подали грушевый взвар. Когда вставали из-за стола, в горницу заглянул дворник, сказал, что пришел кузнец и спрашивает хозяина. Фрязин вышел, ушли и остальные обедавшие, Настя с Онуфревной стали собирать посуду.
– Отнеси сама, мамушка, – сказала Настя замирающим голосом, – чтой-то мне худо…
– Да Господь с тобой, – старуха перепугалась, – уж не расхворалась ли!
– Нет… с чего хворать, так чего-то… вроде в жар бросает. Мне бы клюквенного морсу с ледника – страсть хочется, ты бы сходила принесла?
Старуха поспешно заковыляла к двери, Андрей в нерешительности стоял у стола, не зная, выйти тоже или дожидаться хозяина здесь.
– Я… пойду, наверное, – сказал он, – тебе, вишь, неможется, так уж не до гостей…
– Что ты! – отозвалась она с неожиданной живостью. – Сиди, коли пришел. А я думала…
– Что думала, Настасья Никитишна? – спросил он, не дождавшись продолжения.
– Думала, не придешь больше, – шепнула она, не поднимая глаз и водя пальцем по узорам синей камчатной скатерти. – Думала, скушно тебе со мной, Андрей… Романович.
– Где ж скушно-то. – Он рассмеялся. – Не до скуки тут, коли чуть голову не прошибли!
– А и ехал бы тогда своей дорогой, может, и без тебя Зорьку б словили. Я, што ль, просила тебя под колеса кидаться! Небось ни одной девицы на улице не пропускаешь?
– Да где мне, – сказал Андрей. – Я, Настасья Никитишна, с девицами… необходительный.
– Что так? – спросила она лукаво, коротко взмахнув ресницами.
– А некогда было… обходительности учиться. Я ведь больше уж десяти лет в походах все да в походах. Да, двенадцать лет – с Казани.
– Страшно, поди, на войне-то?
– Да обыкновенно. – Он пожал плечами. – Бывает и страшно, не без того. А куда денешься!
В казанском походе я новиком был, мальчишкой еще совсем… Там, на первый приступ когда шли, там… страшно было. По сей день помнится. Да и теперь… вот Полоцк брали тою зимой… тоже лютое было дело. Или когда громили Ливонию, тому шесть лет… не приведи Господь увидеть, что там делалось. Татарву на них напустили, Шигалеевых сыроядцев, так уж они себя показали…
– А теперь никуда тебя не ушлют? – В голосе Насти послышалось беспокойство, и это было ему отрадно.
– Кто ж его знает. – Он улыбнулся. – Вроде пока замирились… конечно, надолго ли? Послы вот приехали, значит, договориться хотят. А там как Бог даст. Ты что же, вовсе со двора боле не выезжаешь?
– Ой, что ты, тятя не велит. А знаешь, тебе коли случится быть неподалеку в погожий день… а то ведь, глядишь, и дожди скоро начнутся… ты как-нибудь с той стороны подъезжай, где сад. У меня там качели, а тын невысокий – твоему коню как раз будет по холку… Повидаться можно… поговорить. А то сиди тут одна, будто в темнице! Нет, правда… чего смеешься? К подружкам и то не выйти…
11
К Воздвижению мурольные работы в тайных государевых покоях были завершены. Столяры навесили двери и крышку подземной ляды, Никита поставил запоры и потайные тяги, коими их отпирать. Осталось приладить замки – чтобы нельзя было открыть, даже если кто невзначай и обнаружит отпорный рычаг. Иоанн, осмотрев все, остался, по обыкновению, доволен.
– С замками надо решить, государь, – сказал Никита. – Две двери здесь, да третья на выходе. Как делать прикажешь – три разных ключа аль один на все три?
– Мыслю, три разных лучше?
– Вот не знаю. Оно вроде надежнее, да только…
– Ну, говори!
– К каждому ключу должен быть запасной, и те оба надо иметь при себе, на случай если один обронишь да утеряешь. Выходит, шесть ключей, а ну как в спешке да в темноте с ними разбираться – какой куда? Так что, может, сделаем так, чтобы единым ключом любую дверь отомкнуть…
Государь подумал:
– Верно говоришь. Делай единый на все, только запасных чтоб два было, не един. Мало ли…
– Тогда, государь, погляди вот этот. – Никита достал из сумы бережно завернутый в промасленную кожу врезной замок с торчащим ключом. – Сделал на пробу, понравится – еще два сработаю.
Иоанн пощелкал ключом, вынул из скважины и осмотрел бородку, хитроумно прорезанную сквозными пазами.
– Изрядно, изрядно.. Одно скажу, Никита, – больно уж велик да тяжел ключ-то. Поменьше нельзя сделать?
– Поменьше… – Никита почесал в затылке. – Оно бы и можно… да бородку, вишь, трогать бы не хотелось – тогда все внутри перелаживать придется, а там чем дробнее, тем сумнительнее, как ни хитри. А можно что сделать, государь, – стебель укоротить, кольцо вовсе убрать, стебель же распилю вот тут да на вертлюжен поставлю… Тогда, вишь, откинул его на сторону – вот эдак – и поворачивай. Он и короче станет, и легше.
– То так и делай, – одобрил Иоанн. – Три чтоб было – один при себе, два в запасе…
На обратном пути Никита зашел получить деньги за сданную скобяную работу – восемь рублей три алтына; казначей долго искал в платежной росписи, поверх очков поглядывая на него, будто сомневаясь – не тать ли; потом, раскладывая кучками по сорок, отсчитывал легкие серебряные копейки, видом и размером подобные лузге от тыквенных семечек; ссыпав в кошель, не отдал – держал в кулаке, пока Никита старательно выводил подпись. На крыльце приказной избы его окликнули.
– Чего тебе? – спросил Никита подбежавшего ярыжку.
– Боярин Годунов велел спытать, досужен ли ты, Никита Фрязин, зайти к нему для малого разговора.
– Зайду, коли боярин кличет. Тут уж, досужен аль не досужен, кобениться не станешь! Веди, показывай путь…
Постельничий принял его в богато убранной небольшой горнице с затянутыми узорчатой тканью стенами, где не было никакой утвари, кроме лавки у одной стены и малого столика у другой, между окошек. Полавочник и наоконники были расшиты цветными птицами и травами, на выложенной рыбьим зубом столешнице стояли золоченые часы, пол покрывал багряный шамаханский ковер. Муравленая печь в углу блестела зелеными изразцами.
– Я, Никитушко, чего хотел спросить, – сказал Годунов, – ты часовое дело знаешь ли?
– Так смотря каки часы, боярин. Эти, што ль, неисправны?
– Нет, а есть у меня зепные9, тож аглицкой работы. И стали те часы гораздо вперед забегать противу иных, так я подумал, может, ты глянешь?
Никита развел руками:
– Уволь, боярин, зепные чинить пасусь – уж больно мелкая работа. Эти б я поглядел, тут проще, а зепные… не, не обессудь. А ты б их немчину Ягану показал, ну, который государевы часы обихаживает. Тот сильный мастер!
– Яган, говоришь? И то! Ну, спаси Бог, что надоумил, так, пожалуй, и сделаю.
– Коли они б медлили, оно проще было. Может, в том все и дело, что почистить надо да смазать, – объяснил Фрязин. – А как вперед бегут, то хуже. Оно оттого бывает, что оси износятся и у колес ход станет посвободней, а то наладить не просто.
– Добро, немцу отдам, ты прав… Да, а сотник тот – приходил ли к тебе с пистолью?
– Приходил, боярин, только изладить я ее не поспел еще. Там и работы-то вроде не много, а все руки не доходят.
– Ладно, спешить некуда. Познакомился, значит, с Андрюшкой Лобановым… Я его тож хорошо знаю, и люб он мне – без криводушия малый, а ныне таких немного. Лживый пошел народ, двоеличный… Кстати, Никитушко, я чего еще хотел спросить: у тебя с государевым лекарем, Елисеем этим, не было ли какой брани?
Никита, сразу насторожившись, недоуменно пожал плечами:
– Не припомню… пошто мне с ним браниться? Дорожки наши, слава Богу, не пересекаются, и делить вроде бы нечего.
– Оно так, да только я тут днями один разговор случайно услышал – мимо проходил… и так понял, что про тебя шла речь. С кем Елисей был, того не видел, а сказал он, что-де мастер тот, может, и преискусный розмысл, но только держаться от него надо подале: продаст, мол, ни за грош, такая, дескать, у него душа – влезет в доверие, да и продаст… Вот такую я слышал его речь и мыслю, что слова те были про тебя… понеже иных розмыслов тут нет.
– Может, и про меня. Да мне-то что, боярин… собака лает, ветер разносит. А кому он то говорил, не сведал?
– За дверью неприкрытой был разговор, заглядывать я не стал.
– А и ни к чему, пущай его. Мне-то что, – повторил Никита деланно беззаботным тоном, хотя на душе у него стало тревожно. Вот оно – чуял ведь, что гнуснец в долгу не останется…
– Оно конешно, – согласился Годунов, – пущай лает. Однако человек он опасный, того для и почел нужным тебе сказать.
– Благодарствую, боярин, впредь буду остерегаться.
– Впредь? Допрежь, выходит, не стерегся…
– Да оно ведь как… я уж и забыл, а теперь припомнилось: верно, был случай. Повздорили по- пустому, а я и расскажи ему про то давнее любекское дело…
– Мне про «любекское дело» не ведомо, тем боле давнее.
Никита, вздохнув, начал рассказывать. Годунов сидел на лавке с ним рядом, как с равным, хотя и поодаль. Слушал внимательно, прикрыв глаза, перебирал четки в унизанных перстнями пальцах. Когда Фрязин кончил рассказ, он еще некоторое время молчал, глядя на большой, мерцающий жемчужным окладом образ Божией Матери Одигитрии в красном углу.
– Кому еще про то говорил? – спросил он.
– Окстись, боярин, и в мыслях не было!
– И не надо. Дело давнее, к тому ж и сумнительное – он ли, не он…
– Был бы не он, так небось не всполошился бы.
– Верно, – кивнул Годунов. – Я тож мыслю, что он, однако ворошить это ни к чему. Что с Елисеем не удержался – то худо, нажил себе врага.
– Я уж, боярин, и так сам себя корю – пошто не смолчал.
– Да, истинно: язык мой – враг мой. Ну да что теперь, после драки кулаками не машут. Ведомый враг не столь опасен, как неведомый, так что остерегайся впредь и – буде вновь сойдешься с Елисеем – постарайся уж быть с ним пообходительнее.
– А что он мне может сделать? Дорогу перед государем перебежать – так ведь я, боярин, чинов да почестей не ищу, а работы на мой век хватит. Мне все едино – у государя ли в опочивальне замок приладить аль у купца в лавке… в лавке-то оно и повольготнее – во дворце больно уж глаз много, за каждым твоим шагом приглядывать…
– Оно так, только ты не больно тешь себя тем, что «мне, дескать, Елисей ничего не сделает». Сделать он может много чего, это крепко держи в уме. И вот еще что… Сказал тебе, чтобы ты про то дело с опойным зельем не сказывал, а теперь иначе мыслю. Поведай про то Андрею Лобанову.
Фрязин изумился:
– Ему-то пошто, боярин?
– А чтоб тоже стерегся. Мыслишь, Елисею неведомо, что он к тебе в дом зачастил?
– Ну уж и зачастил…
– Да зачастил, чего отпираться. Я так мыслю, приглянулась ему твоя дочка, а? Что ж, чем не жених. Ну, то сами решать будете, а только лучше ему сказать… раз уж он не вовсе для тебя чужой. Ты в шахматы играть обучен ли?
– Не горазд, боярин. Игрывал, да поп стал притеснять – грех, говорит, бесовская то игра…
Годунов улыбнулся, встал. Поспешно вскочил и Никита.
– Ну, раз игрывал, то должен знать, как иной раз бьют по коню, чтобы добраться до ладьи… коли та стала помехой. Вот и смекай!
Фрязин ушел, Годунов погрел ладони о печные изразцы, поправил огонек в зеленого стекла лампаде перед иконой Путеводительницы, потом вернулся к лавке и лег. Спину ломило, – верно, к дождю. Экая все же орясина этот Никита – руки золотые, а умом Господь обделил… хотя в своем деле и мозговит, скудоумному не измыслить всех тех хитростей механических. В ином же – дурак дураком. Ну кто его за язык тянул лаяться с этой заморской образиной… Заварил кашу, а расхлебывать теперь иным.
Ему и расхлебывать, Димитрию Годунову, а боле некому! Оставлять же того дела нельзя. Оно и можно б – дескать, моя хата с краю, – да не выйдет. Будешь потом локти себе кусать, ежели отстраниться, дать Елисею исполнить задуманное. Что он задумал – пока неведомо, но задумка уже есть, можно не сомневаться. Разговор за приоткрытой дверью Годунов и впрямь слышал, и разговор тот был с государем, правда не совсем такой, как он пересказал Никите, хотя смысл был тот же: в мастере-де есть что-то неявное, чего он Бомелий – пока разгадать не может, и посему лучше бы… Что он хотел посоветовать, осталось тоже неявным, царь гневно оборвал лекаря и велел ему замолчать. Годунов, однако, хорошо знал, что лекарь так просто от своих замыслов не отступается. Не вышло с одного разу – выйдет с десятого. А надо, чтобы не вышло. Что бы ни задумал Бомелий против этого дуболома Никиты Фрязина, тому нельзя дать свершиться.
Здесь, как это обычно и бывало у Димитрия Ивановича, расчет переплетался с чувствами иного рода. Постельничий никогда не забывал о собственной выгоде, делал все, чтобы упрочить свое положение при государе, для чего лучшим способом полагал окружить себя нужными людьми; но этих нужных людей предпочитал удерживать добром, а не страхом иль подкупом. И еще такое было у него правило: однажды помог тебе человек – пусть знает, что и ты не откажешь ему в помощи, когда понадобится. Вот согласно этому-то правилу Годунов и не мог сейчас оставить без помощи сотника Лобанова, ибо понимал: пострадает через Бомелиевы козни сам Никита – худо придется и его дочке, а значит, и Лобанову. То, что девица уже сотника приворожила, было ему ведомо, хотя сам Андрей об этом не говорил, – достаточно было кое-кому из годуновской челяди поболтать кое с кем на фрязинском дворе.
Расчет же тут состоял еще и в том, что был среди живших в Москве иноземцев некий искусный лекарь, англичанин Вилим Дженсен, к услугам которого не раз прибегал сам Годунов, и он того лекаря Вилима надеялся протолкнуть на место чернокнижника Елисея – буде удастся его убрать. В этом случае Вилим был бы обязан Годунову по гроб жизни, а это открывало возможности поистине безграничные. Вот как убрать чернокнижника, придумать пока не удавалось, понятно было одно: что бы тот ни затевал, следовало всячески ему в том делать помехи. Авось и допрыгается наконец, сломит себе шею, паскудник.
12
Настя уже третью неделю не находила себе места, засыпала и просыпалась с одним помыслом: когда же вернется Андрей? Его с малым отрядом послали сопровождать гонца к перекопскому хану, но только до Курска; дальше, сказал он, «куряне дадут гонцу своих людей, а мы обернемся дней за десять – до Курска недалеко, всего двести верст».
Представить себе «недалекий» путь в двести верст было страшно, а еще страшнее было то, что путь этот лежал в Дикое поле, где кто только не бродит – и сыроядцы-татары, и ногаи, и тмутаракане, и черкесы, не к ночи будь помянуты. Только псоглавцев не хватает, хотя кому то ведомо? Могут набежать и псоглавцы.
Десять дней, сказал он, значит, раньше ждать было нечего, но она стала ждать уже наутро: проснулась и стала думать, прошел уже один день или не прошел. Смотря как посчитать. И когда стала на молитву, скоро поймала себя на том, что молится неподобающе и грешно, однако заставить себя молиться как подобает так и не смогла.
«Ладно, ужо исповедоваться буду, так повинюсь, – подумала она легко, – авось поп не осерчает…»
А может, это и не такой уж грех – просить Заступницу, чтобы охранила от псоглавцев и иной нечисти. С татарином-то иль черкесом и сам совладает – не впервой, слава Богу; с нежитью, конечно, труднее.
Вот так дни и потянулись – неделя прошла, другая. Уж пора бы вернуться, а никто не ехал. Настя упросила Матрешу сходить на Яузу, поспрашивать у арапа, может, приехал уже, да захворал в пути, или привезли раненым. Матреша идти боялась, а ну как Онуфревна спросит, где была? – но Настя ее успокоила: скажет, мол, что посылала к дочке кузнецовой за вышивальными нитками, а еще лучше – в гостиный ряд. Вернувшись (Онуфревна и не приметила отлучки), Матреша сказала, что арапа видела – арап страшенный, хотя по-нашему говорит чисто, и тот арап сказал, что нет, еще не вернулись, а ее назвал «луноликой».
– Насть, слышь, а чего это такое – луноликая?
– Ой, да мне почем знать! – в сердцах отозвалась Настя, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. – Ликом, значит, светлая – что ясный месяц. Ты хоть спросила, когда ждут-то?
– То арапу неведомо. Говорит, может, его татары в полон угнали.
– Да чтоб у него, поганого, язык отсох! – закричала Настя. – Чтоб его перекрутило да скрючило! А ты, бессердечная, посовестилась бы такое мне пересказывать!
Матреша устыдилась, заплакала в голос.
– Ладно, не реви, чего уж теперь… – Настя подошла к скрыне и, подняв крышку, порылась в одном из ящичков, достала алую шелковую ленту: – На вот тебе, глянь. Как раз в косу будет – нукось возьми зеркальце…
Пока переплетала Матреше косу, часто смаргивая слезы и пошмыгивая носом, немного успокоилась – принудила себя откинуть страхи. Молится ведь каждый день, не может того быть, чтобы Пречистая не услышала, не оберегла от ужасов в ночи, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке, от заразы опустошающей…
За ужином Настя не утерпела, спросила отца, не слыхал ли, когда должны вернуться стрельцы, посланные провожать гонца в Крым.
– Как проводят, докудова велено, так и вернутся, – ответил он и добавил бесчувственно: – Да
тебе-то какая в том забота?
– Вот такая! – крикнула Настя. – Кому ж еще иному – не тебе, вестимо! Тебе что – пропал человек, и ладно!
Отец уставился на нее изумленно, держа в одной руке нож, а в другой – баранью кость, с которой состругивал мясо.
– Онуфревна, она, што ль, не в себе? Ты б ее на ночь с уголька-то сбрызнула – слыхал, помогает. Ох, Настасья…
Кой к черту уголек, подумал он, замуж бы ее поскорее, тут угольком не отделаешься…
– Да что «Настасья», что «Настасья»! Может, его там псоглавцы заели аль татарва угнала в полон, а вам все едино!
– Нет, ну истинно очумела девка. Каки еще псоглавцы, окстись…
– Обыкновенные! Про коих сказывал странник, что в Киев на богомолье ходил.
– Да что он про них сказывал?
– Вот то и сказывал! Телом, говорит, мохнаты и смрадны, голова же песья.
– Пустое болтал. То ему, мыслю, спьяну причудилось. Покуда до Киева-то добрел, так, верно, ни одного шинка по пути не миновал.
– Старец-то богомольный был, Михалыч, – возмутилась Онуфревна, – а ты его этак хулишь при дочери!
Никита только рукой махнул, выбираясь из-за стола. Свяжись с этими бабами – сам сдуреешь…
Каждое утро, проснувшись, Настя припоминала, что снилось. В сны она верила, знала, что бывают вещие – кои к худу, кои к добру, а иные и вовсе не понять. Досаднее всего было, если сон забывался, лишь едва брезжило что-то, словно сквозь туман поутру, и это что-то вроде было добрым, а не припомнить толком. Худой сон забудется – то и ладно, значит, и сбываться нечему; а вот ежели сон к добру, то его надо весь удержать в памяти, сколь можно подробнее.
Днем она за делами отвлекалась от сосущей тревоги, благо дел было много: отец строго наказывал мамке, чтобы праздно Насте не сидеть, не предаваться мечтаниям. Да она и сама не любила праздности, чего уж тут хорошего? Так и лезет в голову разное. А работа в ее руках спорилась – тесто ли месить вместе со стряпухой в те дни, когда хлебы пекут, рубить ли капусту для засола, грядки ли полоть и коромыслом носить от колодезя воду для поливки – все ей давалось легко и ладно, будто играючи. Что было в тягость, так это шитье, вышивание разное: больно уж кропотливо. А боярские девы, отец говорит, только и знают работы, что вышивать, да еще сидя взаперти по теремам. Не приведи Господь! Настя со страхом представляла себе горькую участь боярских дев.
Женская участь вообще казалась ей незавидной, еще с самого детства. Отроки и в речке купались, и по улицам бегали вольно, и голубей гоняли; а постарше, войдя в возраст, и вовсе делали что хотели – кто торговал, кто ремесло себе избирал по вкусу и нраву, кто за оружие брался – шел в стрельцы. Отроковице же одно лишь на роду написано: сиди дожидайся, покамест замуж возьмут. Да еще возьмут ли! На свой счет, впрочем, Настя не беспокоилась – возьмут. Вот только кто? Может ведь и такой ирод взять, что потом всю жизнь горючими слезами будешь оплакивать девические свои годы. И не в том горе, что бить будет или иначе как тиранить, – без этого нельзя, что ж это за муж, коли жену не бьет, непременно должен бить, коли любит. А вот коли не любит? Коли сам не люб окажется? С постылым-то каково жить?
Посадские женки, сойдясь на торгу ли, на портомойных ли мостках, рассказывали всякое,
языкатили почем зря, никого не стесняясь. Настя сама, понятно, с ними не водилась, дворовые же девицы – покудова белье переполощут – наслушаются, бывало, всякого. А после друг дружке и пересказывают, хихикая. Так уж как утерпеть, не спросить, самой не послушать? Такого, бывало, расскажут, что и замуж не захочешь.