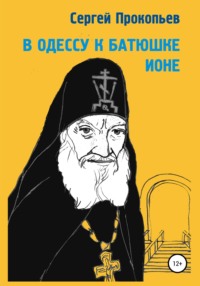полная версия
полная версияМинсалим, Мунир и полёт с шахматами
– Жди! – и удрал, оставив меня в своём кабинетике.
Окно выходило на лётное поле. Пустое, тоскливое. Вдалеке, на краю, стоял одинокий Ан-2. По полю ходили две коровы. Их никто не гнал. Авиации они не мешали.
Позор, какой позор! Никогда в жизни никого не подводил, а тут и себя, и всех на свете. Лена сама нашла меня, предложила работу… Надо звонить ей, говорить, что сижу с шахматами в Тобольске. Для начала позвонил жене, она подлила масла в огонь.
– Вы уже в Омске? – обрадовалась. – Быстро долетели. Звонила Лена, сказала: будет встречать в аэропорту. Встретила?
– Ага! С духовым оркестром и жаркими объятиями. Только целовали, к сожалению, других. Самолёт улетел без меня и шахмат. А я и шахматы сидим в Тобольске!
– А Мунир улетел?
– Лучше не напоминай про него!
В этот момент вбежал с деловым видом Сашка.
– Миша, всё тики-тики! Резервные лётчики согласились на полёт «Д» – дополнительный. До Ишима, дальше вам всего ничего останется – четыре часа на поезде, они там беспрестанно ходят, как-никак Транссибирская магистраль.
Минсалим не верил своим ушам.
– Где ты самолёт возьмёшь? – спросил с подозрением.
– Да вон!
Сашка указал в окно на тот самый Ан-2, брошено стоящий на краю поля.
У Минсалима непроизвольно подкатила тошнота к горлу. Лайнер Ан-2 был смертельным для его вестибулярного аппарата. Время от времени приходилось летать в Тюмень на «кукурузнике». И каждый раз укачивало в стельку. И это за каких-то тридцать-сорок минут. До Ишима больше часа болтаться в воздухе.
Минсалим считал: его вестибулярный аппарат повредился после падения с крыши детдома.
Улица Октябрьская, когда-то Петропавловская, составлявшая толику Сибирского тракта, как река поднимается по Никольскому взвозу из нижнего города в верхний. Сейчас похоронные процессии до Завального кладбища доезжают на автобусах и автомобилях, в пятидесятых и шестидесятых годах они были пешими. Детдомовская детвора, заслышав духовую музыку, припадала к окнам второго этажа, а кто побойчее в качестве смотровой площадки использовал крышу. Оркестр перед взвозом делал паузу, трубы умолкали, процессия в скорбной тишине брала крутой подъём, в верхней точке, метров за сто до детдома, музыканты вновь начинали выводить траурную мелодию.
Тогда в пятидесятых для детдомовской детворы это было событие: море народа, обитые красным гроб и крышка от него, торжественная музыка, в которой слышались самые разные оттенки. Она отнюдь не вводила детдомовскую детвору в печаль и скорбь. Девчонки забирались на крышу детдома и кричали в водосточную трубу:
– Хоронят! Хоронят!
Труба из жести изменяла до неузнаваемости голос кричащего, отзывалась басом! Эта трансформация голоса щекотала нервы. Минсалиму в то лето было лет пять, ему очень хотелось вот также набрать полную грудь воздуха и крикнуть в трубу: «Хоронят!» Но вредные девчонки сами не могли накричаться. Они были постарше, такими не покомандуешь.
Наконец разрешили:
– Мишка, иди.
Минсалим заторопился, вдруг передумают, и… Он как по льду заскользил по наклонной крыше мимо девчонок, трубы. Внизу росли деревья, ветви чуть погасили скорость, но и трусы при этом порвали в клочья, одна резинка да ещё какие-то лохмотья приземлились вместе с хозяином.
Как говорилось выше, летом детдомовцам кроме трусов ничего не выдавали из одежды, тем самым усложняя склонным к побегам жизнь. В таком наряде далеко не уйдёшь. Воспитанника детдома выдавали среди местного населения сразу несколько характерных примет: в трусах, голова босиком – стригли под ноль, третья особенность – гражданин нерусской национальности. Детский дом был татарским, назывался «Красный Восток». Сея история пока не имеет разгадки, откуда Минсалим попал в него, но при своей татарской внешности татарского языка не знал. Весь детдом говорил на татарском, даже две русские нянечки, а Минсалим первое время не понимал ни слова и считал: вокруг немцы. В те послевоенные годы каждое несмышлёное дитё знало о немцах, говорящих не по-нашему, с ними победно воевала Красная Армия.
Как не цеплялись за Минсалима ветви, он долетел до земли. Девчонки подбежали.
– Мишка, ты умер?
Говорю:
– Конечно, умер. Я же упал.
Нянечки и воспитатели ругались, предупреждая: вы, бесенята, долазитесь, сорвётся кто-нибудь с крыши, упадёт, разобьётся и умрёт. Будут также хоронить.
Девчонки:
– Мишка, ты голый!
– Ну и что, – говорю, – я же умер.
– Ладно, мы сейчас врачихе скажем.
Примчалась Нина Евгеньевна. Она меня часто отчитывала: руки грязные, пятки не отмыл. Тут наклонилась, глаза большие, тревожные, ощупывает меня:
– Мишенька, здесь болит? А здесь?
– Нина Евгеньевна, как болит, я упал, я уже умер.
У неё из глаз брызнули мне на грудь горячие слёзы. Ничего себе, думаю, жар-птица на меня села.
Она взяла меня на руки, понесла на второй этаж, в свой кабинет, рядом в другой комнате лазарет на четыре койки. Поставила небольшую ванну, начала меня мыть. Мне казалось, слезами наполнила ванну. Моет и плачет. Настолько переживала. Потом уложила в кровать. Каждый мой пальчик потрогала, каждую косточку проверила:
– Не болит? Голова не болит?
Головой, наверное, хорошо звезданулся, не могу взять в толк: если я умер, что может болеть? Спрашиваю:
– Когда меня хоронить будут?
Окончательно Нина Евгеньевна оживила, накрутив на карандаш вату и обмакнув в склянку с йодом, затем обильно принялась мазать мои ссадины.
Кожу как начало печь, я вырвался, по всем четырём койкам пробежался, даже на стене следы оставил – не ногами, рукой.
Нина Евгеньевна хохочет от радости:
– Вон какой ты живой! Но бегать тебе нельзя.
Уложила в кровать, велела спать.
Утром проснулся – вся простынь йодом измазана.
Четыре дня Нина Евгеньевна держала в лазарете, поила сладким чаем, угощала мёдом. Выписывая, сказала:
– Миша, сто лет жить будешь.
Живу, но вестибулярный аппарат ни в дугу: чуть качка – выворачивает наизнанку.
Минсалим наказал Сашке:
– Собутыльника своего куда хошь сади, мне место в середине обеспечь и не у окна. Иначе с моим вестибулярным аппаратом выпрыгну на ходу. На такие расстояния на Ан-2 не приходилось летать.
– Всё будет тики-тики! – гордо пообещал Сашка. – Выбирай любое – вы первые, конкурентов нет.
Так и получилось, как только Минсалиму и Муниру оформили билеты, по громкой связи пригласили пассажиров на дополнительный рейс до Ишима.
Рейс над океаном
Мунир довольный, я снова отдал ему шахматы, на подходе к четырёхкрылому авиалайнеру громко замурлыкал:
Под крылом самолёта о чём-то поёт…
Я грубо прервал вокалирование:
– Прекрати дышать в мою сторону!
Мунир послушался, старался петь про «крыло самолёта» вбок, однако факел после «кваса» вырывался конкретный: поднеси пучок соломы – вспыхнет жарким пламенем.
В Ан-2 слева ряд из четырех двухместных кресел, справа – из четырёх одноместных. Сашка, как и обещал, обеспечил места в середине. Я расположился с краю, дабы не испытывать мой вестибулярный аппарат поворотом головы к окну. Хочешь не хочешь, любопытство возьмёт своё – посмотришь.
Расселись, Сашка спрашивает:
– Все нормально?
– Ага, – говорю, – тики-тики.
Вырываю из блокнота листок, пишу телефон Лены, даю Сашке:
– Позвони! Объясни: летим другим рейсом. К вечеру будем. Пусть ждёт, адрес знаю!
– Сделаю!
– Только обязательно позвони!
– Миша, когда я тебя подводил! – Сашка возмутился с ясными глазами.
Чуть не задушил его.
– А это не «подвёл»! – показал на Мунира.
– Ну чё ты, Миша! Двадцать лет не виделись.
– Мне бы вас столько же ещё не видеть.
Муниру всё было по барабану, руками обнимал шахматы, а душа пела:
В дальний путь собрались мы,
А в этот край таёжный
Только самолётом можно долететь.
Пассажиры тем временем расселись, появился пилот. Один. Я подумал: обычно по двое летают. И вдруг заходит Колька Пронин. Известный в Тобольске лыжник. Старший его брат мой ровесник, участковым служит, а Колька – мастер спорта, чемпион области. На борт воздушного судна поднялся прилично подвыпившим. Никогда таким весёлым не видел. Перед самым его появлением подумалось: как быстро все билеты на дополнительный рейс расхватали – ни одного свободного места в самолёте. И тут Колька при полном аншлаге нарисовался. Факт аншлага его нисколько не смутил, всем своим видом он излучал праздник. Увидев меня, расплылся в улыбке и объявил цель своего полёта: торопиться на свадьбу к другу Витьке. И назвал село, в котором Витька ждёт его со страшной силой.
– Свалюсь через полчаса снегом на голову! – размахивая руками, говорил Колька. – Как заору от самой калитки «Горько!» Они все попадают от общего психоза с лавочек!
– Как через полчаса? – у меня вылетели из головы все думки про предстоящие полётные мучения. – Мы летим напрямую в Ишим.
– Быстренько сядем да и всё! А то давай и ты со мной! Погуляем! А к лётчикам есть подход, не впервой!
Колька говорил настолько уверенно, что я задумался. Нам ведь ещё из Ишима на поезде ехать.
Тем временем появился второй пилот, Ан-2 легко разбежался и взлетел. Колька продолжает стоять у меня над душой. Как в автобусе стоит, то за спинку моего кресла схватится, то за меня, то за багажную полку.
– Ты сядь, – говорю, – мне без тебя дурно. Тут ещё мотыляешься.
– Куда? Мест нет.
Ну, автобус и автобус, даже пассажиры левые.
И весь полёт левый. У пилотов дверь в кабину открыта, ощущение: никто за штурвал не держится, самолёт болтается сам по себе, из одной ямы в другую ныряет, а пилоты о чём-то весело беседуют, до фонаря им всё. А у меня ком под горло подкатил – жить не хочется. Я уставился в спины лётчиков, один как почувствовал, обернулся ко мне.
– Пакет дай, – прошу.
Он весело, будто я за сигаретой к нему обратился:
– Тебе, братишка, не повезло, рейс дополнительный.
Потом всё же встал со своего кресла, подошёл ко мне.
– Дыши глубже, – посоветовал.
Утешил, что называется.
А у меня смерть приходит.
– Нашатырь есть? – крикнул пилот напарнику, что в кабине остался.
– Нету, пусть глубже дышит.
– Легче стало дедушке, – захохотал Колька, – реже стал дышать!
Пилот вернулся в кабину, показалось, болтанка увеличилась.
Я встал, на ватных ногах пошёл в кабину. У меня натурально бзик начался.
– Мужики, – говорю, – вы хоть за штурвал держитесь, мотает, как бревно в проруби!
– А мы чё, по-твоему, за нос держимся? – возмутился командир.
Возвращаюсь – на моём кресле Колька сидит. Ещё больше повеселел, с Муниром мило беседуют. Да ладно бы беседовали. Пока я призывал пилотов взять наконец-то штурвал и начать рулить, Колька достал бутылку и они с Муниром приложились. Стакана не было, из горлá взбодрились. Меня такое зло взяло. Да что за день – то Сашка, а теперь ещё и Колька. Треснул его по затылку:
– Ну-ка дуй с моего места!
Что интересно: от возмущения на пилотов и Кольку мой вестибулярный аппарат встал на место, заметно полегчало.
Колька ни грамма не смутился и не обиделся. Перешёл к бабке, что сидела позади меня. Предложил ей выпить.
– Сынок, – озорно спросила бабка, – ты меня опосля выпивки на руках понесёшь? Или на свадьбу к другу возьмёшь?
– Не хочешь, как хочешь, – сказал Колька и пошёл к пилотам.
И опять чудеса в решете: они дали ему что-то поставить под задницу, он уселся между их кресел. Сидят себе, болтают, и самолёт болтается.
Муниру болтанка по барабану, он атомщик, вестибулярный аппарат готов к космическим перегрузкам, и с крыши детдома не падал, сидит в окно смотрит, бодро петь:
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Я глянул – какая тайга, под крылом море. Куда ни глянь берегов не видно. В тот год Иртыш поднялся более чем на восемь метров, океаном разлился. Весь нижний город до Паниного бугра грозило затопить. Ещё бы немножко и Тобольская Атлантида была обеспечена. Мы уезжали, а дамбу ещё отсыпали. Длиной двадцать пять километров. Но кому-то было поперёк горла, что день и ночь самосвалы возили грунт: они втихушку по ночам выходили с лопатами подкапывать. Ему выгоднее, пусть старый дом смоет, он взамен развалюхе новенькую квартиру получит в микрорайоне на горе.
Кольке наплевать на безбрежное море-океан под крылом, наплевать на выматывающую болтанку, вернулся в салон от лётчиков и снова пристал со свадьбой.
– Мишка, пошли со мной!
– Куда?
– На свадьбу!
– Ты чё серьёзно?
– Таким делом не шутят! Витьку не могу обидеть! Сейчас делаем посадку.
– Мы же опоздаем из-за тебя! – возмутился я. – Мне на поезд надо.
– Да я быстро выскочу! Минутное дело! Не переживай.
Колька про самолёт говорил, как про автобус: тормознул на перекрёстке, двери открылись, пассажир выскочил…
Минсалим вскочил от возмущения и уже хотел снова идти к пилотам разбираться, ни на какую свадьбу он не подписывался, ему в Ишим надо. Но его резко начало мутить, упал в кресло. Минсалиму захотелось одновременно плакать, ругаться и поколотить Мунира. Будь проклята та минута, когда согласился взять его в полёт. Летел бы один без этого противного пьяницы – давно был в Омске, сдал шахматы, получил деньги и ехал обратно. А тут ещё неизвестно – приедет живым на место. Зачем не отправил его в Димитровград? Зачем позволил продлить отпуск?
Мунир не слышал мыслей Минсалима, продолжал душеподъёмное пение:
Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся, чуть похожие на больших орлов…
– Иди уже бери парашют, – сказал Минсалим, – прыгай с этого орла! Как ты мне надоел.
– Если надо – мы прыгнем! – твёрдо сказал Мунир. И вернулся к песне:
А ты улетающий вдаль самолет
В сердце своём сбереги…
Но самолёт, вопреки строчкам песни, начал снижаться, Минсалиму показалось – падать. Самолёт ощутимо ткнулся колёсами в землю, поскакал, будто по шпалам, и остановился.
– Аэропорт Березай, – объявил Колька, широко улыбаясь. – Кому на свадьбу – вылезай!
Минсалим никак не отреагировал на дурацкую Колькину шутку, ему уже было всё равно, посадка-падение доконала окончательно. Пилоты увидели едва живого, зелёного лицом пассажира, помогли ему выйти на свежий воздух, заботливо положили в тень под крыло. Минсалим услышал:
– Пошли чаю попьём, пусть околемается, а то дуба врежет в воздухе.
«Не долетим до Ишима, – безразлично подумал Минсалим, – если они вот так запросто могут в любой деревне остановиться».
Он забылся, лёжа на земле, прохладный ветерок залетал под крыло, пахло луговой травкой, сухим воздухом. И вдруг Минсалим явно почувствовал, кто-то склонился над ним. Разлепил глаза, и – о, ужас! Сердце пронзила жуть: чёрт! Рогатый, бородатый, вонючий чёрт уставился на него мутными глазищами. Минсалим вскрикнул нечленораздельное, испуганно махнул рукой в сторону адской твари, чёрт отпрянул с возмущённым: бе-е-е!
После этого памятного полёта Минсалим сделал вывод: его вестибулярный аппарат приходит в норму от резких потрясений. Коза, которую он принял за исчадье ада и вестника преисподней, вернула к жизни. Минсалим вспомнил про шахматы и Мунира. Шахматы нашёл в салоне, лежали в кресле, Мунира не было.
В груди поднималась буря возмущения: Мунира нет, лётчиков нет, самолёт брошен. Ещё и коза чёрта из себя изображает. Хотелось рвать и метать.
Летчики вернулись не с пустыми руками. Один нёс трёхлитровую банку молока, другой такую же точно ёмкость с мутной жидкостью, подозрительно смахивающею на самогонку. Похоже, Колька рассчитался за непрописанную в маршруте полёта посадку натуральными продуктами.
– Сыворотка, – сказал Минсалиму пилот, несший банку с мутной жидкостью. – Будешь?
– Нет уж, нет уж! – отказался Минсалим. – И Муниру такую сыворотку не предлагать.
Мунир тоже шёл не с пустыми руками – нёс здоровенный пучок редиски. К нему живой интерес проявила коза. Но пилоты с ней, овощ тоже принадлежал им, не поделились.
Минсалиму снова пришлось удивляться. Произошла частичная смена пассажиров. То ли Сашка их обманул, сказав, самолёт беспосадочно напрямую следует в Ишим, то ли пилоты мудрили. В кресло перед Минсалимом села толстенная тётка. Сиденье не было рассчитано на её обширные габариты, площади явно не хватало, женщина распространялась во все стороны и могучей спиной заслонила вид на кабину, так что следить за пилотами – держатся они за штурвал или самолёт предоставлен сам себе предоставлен – не было никакой возможности. Вдобавок появилось ощущение – самолёт под весом тётки кренился на левый борт.
«Мы точно сегодня не долетим», – невесело подумал Минсалим.
Заревел мотор, Минсалим закрыл глаза, обречённо готовясь к новым испытаниям и услышал «бе-е-е». Подумал: глюки. Обернулся в хвост и увидел козу. Рогатой тоже нужен был Ишим.
И тут двигатель замолк.
«Всё, – подумал Минсалим, – приехали».
В ответ на тревожные мысли, двигатель весело затарахтел, набрал обороты, самолёт сдвинулся с места, поскакал по лугу, затем уверенно поднялся в воздух.
Они летели минут десять, Минсалим под шум двигателя прислушивался к себе, к своему вестибулярному аппарату, потом вспомнил про Мунира, давно не было слышно песен, скосил глаза на друга, тот спал с блаженным лицом. Шахмат в руках не было.
– Где шахматы? – встревожился Минсалим.
– Сижу на них, – доложил Мунир, мгновенно проснувшись. Дескать, не извольте беспокоиться, у нас всё под контролем.
– Как сидишь?
Мунир ничего умнее не придумал, как подложить доску под себя, коробка со шкатулкой стояла на полу под сиденьем.
– Ты же раздавишь её!
Минсалим разобрался с шахматами, но, сделав при этом несколько резких движений, почувствовал очередную поломку вестибулярного аппарата. Захотелось разом покончить с мучениями, открыть дверцу и выпрыгнуть за борт хоть с парашютом, хоть без оного.
В ответ на это желание самолёт начал снижение, коснулся летного поля, без прыжков пробежался и замер.
– Ишим! – объявил пилот, а проходя мимо Минсалима, хлопнул по плечу: – Живой?
Минсалим вышел из самолёта, постоял, пытаясь ответить себе: живой он или нет? И понял – всё-таки живой! Такой оптимистичный вывод сделал при виде Мунира, так как голову обожгла мысль о шахматах. Мёртвого, навряд ли, они волновали.
– Где шахматы? – рявкнул на Мунира.
Тот метнулся в самолёт, вернулся с коробкой.
– Убить тебя мало! – сказал Минсалим и поставил снбе окончательный диагноз: живой.
И живо зашагал к зданию аэропорта.
На улице Энтузиастов
Ишим встретил бархатным вечером. Прохлада опускалась на солнцем натруженную землю. Жаль, нашим героям было не до красот короткого сибирского лета. Их подстёгивала судорожная мысль: вперёд. Минсалима даже стегала. Авиапопутчики, пока друзья искали шахматы, растворились. Включая козу, талантливо сыгравшую для Минсалима чёрта. У скромного зданьица аэропорта одиноко стояла женщина в форме. Минсалим обратился к ней с животрепещущим вопросом: как им доехать до вокзала.
– Никак! – весло сказала женщина.
День у неё сложился удачно, пребывала в отличном настроении. Не скрывая его от посторонних, широко улыбалась, сообщила безрадостную весть:
– Никак не добраться. Рейсовых автобусов уже нет. Никак.
– Нам срочно на вокзал надо, – проговорил Минсалим и обратился к арсеналу «волшебных слов»:– Сударыня, имею честь нижайше просить вас оказать нам помощь.
– Ух, ты! – восхищённо округлила глаза женщина в ответ на «сударыню», «имею четь» и крикнула парню, идущему к одиноко стоящему «пазику»:
– Вася, ты куда? Добрось ребят до вокзала.
Вася на вокзал не хотел, Минсалим и здесь призвал всё красноречие, но теперь из другой области, рассказал про шахматы и что Омский музей ждёт не дождётся произведения искусств. Васю особенно тронул факт: дополнительный авиарейс был организован по требованию косторезов, и он согласился сделать крюк.
Мы сели в автобус, я отобрал у Мунира шахматы, сколько раз уже терял. Автобус тронулся, мои мучения продолжились. Дорогу или бомбили, или перепахали – «пазик» мотало из стороны в сторону почище чем Ан-2 над Иртышём-океаном. Одной рукой я прижимал к себе коробку, другой вцепился в ручку кресла напротив. В ответ на скачки «пазика» я или бился головой о стекло, или бодал Мунира. К его чести, он был на чеку, в любой момент был готов подхватить шахматы, если я смертельно ударившись головой о стекло, выпущу драгоценный груз. Мунир полностью протрезвел, а если и не совсем, голова его, как вскоре доподлинно выяснится, начала продуктивно работать на результат, к которому мы стремились весь последний месяц. На Ишимском жэдэвокзале народу собралось не меньше, чем в Тобольском аэропорту перед вылетом Як-40 – ни яблоку, ни вишенки упасть было некуда.
– До ближайшего поезда в Омск двадцать минут, – посмотрел расписание Мунир.
От кассы во все углы вокзала шла длинющая очередь, бесполезно было искать её конец. Стоять не перестоять в такой. Но никто не хотел слушать, что наш поезд через двадцать минут. В ответ звучало – «у всех через двадцать». Тогда Мунир, сделав грудь колесом, объявил:
– Граждане, как вы не можете понять. У нас билеты забронированы! Это археолог из Японии везёт музейный экспонат.
Лицо у меня, конечно, имеет сходство с кругом луны, глаза, прямо скажем, узковатые, и всё же, положа руку на сердце, мало смахиваю в профиль и анфас на коренного жителя страны восходящего солнца, но не стал возражать, закивал головой, подтверждая почти на английском:
– Джапан, джапан!
Вовремя память выстрелила нужным словом.
Мунир в доказательство научности и музейности нашего путешествия вытащил из кармана фигурку шамана, которую я ему подарил. Не расставался с ней.
– Вот один из найденных под Тобольском экспонатов! Видите, какой древний.
Самое интересное, народ расступился. Мунир сунул в кассу деньги, ему выдали два билета – коричневые картонные прямоугольнички с выбитыми на них цифрами. Без ума счастливые мы выбежали на перрон.
Надо отметить, Японию Мунир вспомнил не с бухты-барахты. Минсалим, в процессе работы над шахматами, поведал другу версии своего происхождения, их было несколько, среди прочих, как это не покажется странным, имелась японская. В татарский детский дом Минсалима привезли в возрасте, когда он уже разговаривал. По внешности ребёнок совсем не относился к славянскому типу, но лепетал по-русски. К ноге малыша была привязана бирка с именем, годом рождения и именами родителей. Фамилию сказал тот, кто привёз сироту на новое место жительства. Был ли это бюрократический прокол или элементарное разгильдяйство, в бирке заключалась вся семейная история ребёнка. Потому-то и появились у Минсалима целый ряд версий своего рождения. Японская, самая экзотическая, имеет следующие корни. В детский дом пришла мама одной девочки. Минсалим ещё в школу не ходил. Он, как и остальные малыши, страшно удивился. Как так: им говорили, что их мамы – воспитатели, и вдруг у этой девочки собственная мама. Минсалим помнит ту маму. На голове платочек, на ногах кирзовые сапоги. Она принесла три пряника, посадила девочку себе на колени и вручила ей пряники. Вечером после отбоя в комнате малышей начался рёв: где моя мама? Минсалим тоже залился горькими слезами. Спали малыши на первом этаже, койка Минсалима у окна, выходящего на восток. Воспитатель села к нему на кровать и начала успокаивать. Показала на окно: «Миша, вот там, далеко-далеко на востоке, где по утрам встаёт солнце, есть страна Япония. Она расположена на островах. На одном из них, острове Кусю, в деревне Косакама живёт дедушка Мето Мото Сан. Это твой дедушка. Каждое утро он поднимается рано-рано, идёт на берег моря и собирает водоросли. А потом сдаёт их в приёмный пункт, получает деньги и так живёт. Ты вырастишь и обязательно вернёшься к нему». Услышав про японского дедушку Минсалим успокоился, уснул, и ему приснился остров Кусю. Над ним летали большие белые птицы, на песчаном берегу дедушка с седой бородой собирал зелёные водоросли, а он ему помогал.
Школьником Минсалим нашёл на карте остров Кусю, из больших японских островов он был ближе всего к Китаю. Деревня Косакама не была отмечена, решил – совсем крохотная. Так как воспитатель не рассказала ему историю попадания из Кусю в Тобльск, он с годами логически сам нарисовал ей, и с удовольствием делился ею друзьями. Дедушка Мето Мото Сан в поисках лучшей доли поехал с внуком в из капиталстичекой Японии в социалистический Китай, там у Минсалима была русская няня, из тех русских, что строили и работали на Китайской Восточной железой дороге, той самой КВЖД. Она научила Минсалима русскому языку. Но социализм в Китае был такой, что китайцам ни русские, ни японцы были не по нраву. Минсалима по КВЖД отправили в Читу, а дедушку по морю обратно на Кусю. В Чите посмотрели на Минсалима – мальчик смахивает на татарина, значит, надо его в Тобольск в татарский детский дом.