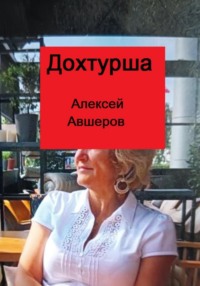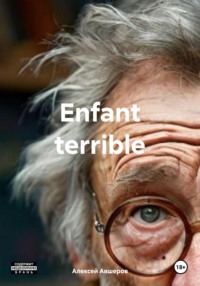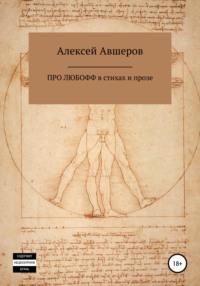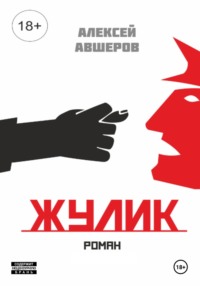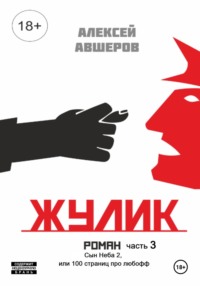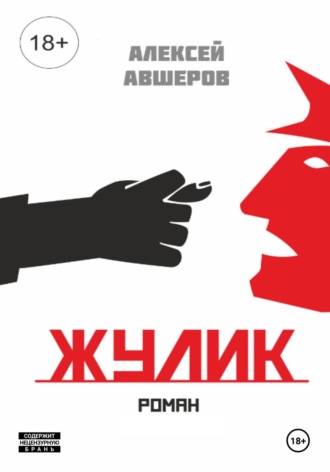
Полная версия
Жулик
– На Урале!
– На Урале? Матушка сказала? – переспросил он и, улыбнувшись, признался: – Откинулся. Сидел.
Я предполагал это и рассказал свою историю. Выслушав друг друга, мы рассмеялись. Оторвавшись от грядок, мамы недоуменно посмотрели на нас.
Считая себя жертвой системы, я с удивлением узнал, что Костя пострадал от собственной глупости: пырнул ножом собутыльника. Тот, слава богу, остался жив, однако сосед, как и я, получил три года.
В зону он не попал. За него хлопотали и оставили в СИЗО сапожником. Детство не прошло зря: пытливый мальчик оказался мастером на все руки.
В дальнейшем наши пути расходились все сильнее. Я всеми правдами и неправдами зарабатывал деньги, причем вторым способом не в пример больше, а Костя, чтобы прокормить новую семью ходил по шабашкам, что-то строил и, как большинство халтурщиков, пил после и вместо работы.
Жена, не выдержав, вместе с сыном вернулась в Миасс, а он, сдав комнаты в коммуналке, переехал на дачу и здесь, на пленэре, бухал, как и раньше.
Бывало, задрав голову, он подолгу смотрел в бездонную пустоту голубого неба.
– Что видишь там? – спрашивал я его.
Прервав созерцание, он поворачивался ко мне и, ничего не ответив, возвращался в свою нирвану.
Костя умер в мае 2016 года.
Опоздав на прощание, может и к лучшему, я не увидел его, и положил свой букет на крышку гроба.
Находясь под впечатлением, я много думал и, кажется что-то понял: одаренные от природы часто довольствуются тем что есть, даже не пытаясь заглянуть за горизонт своих возможностей, не видят стимула. Заурядным, таким как я, всегда есть куда стремится. Их ведет мечта к достижению цели. Главное вовремя понять, что ты не талант и по-другому никак!
В итоге миром правит амбициозная серость и наша многострадальная страна тому подтверждение!
Но все это я пойму много позже, а пока, в 1973-м, отцу дали отдельную квартиру, и мы переехали на юго-восток, в Печатники, где, по мнению авторов современной прозы, живет одна московская гопота.
Мой новый класс отличался от предыдущего, где половина пиликала на скрипках, а вторая занималась хореографией. Не прошло недели, как на меня наехали. Как базарить по-пацански, я не знал и ответил, как смог. Старшеклассники нас растащили, а меня, обозвав психом, с тех пор не трогали. Учиться, как и прежде, я не хотел. Ремень отца и подзатыльники мамы ненадолго исправляли ситуацию. Учителя, махнув рукой, пересаживали все дальше. Так я оказался на галерке, где «кинули якорь» главные дебилы нашей восьмилетки Ширяй с Акулой, хотя однажды, совершенно неожиданно, произошло чудо.
Проверяя домашнее задание, математичка поставила меня к доске. Конечно, я ничего не знал и мазюкал мелом лишь для вида. Решив для профилактики помурыжить недотепу, училка не спешила ставить двойку. В качестве примера она вызвала Борисова – отличника, комсомольца и отъявленного негодяя. Тот подготовился и бодро начал. Прислушавшись, я понял, что его теорема и моя задача – в принципе, одно и то же, и движения по доске стали осмысленными. Я ответил. Математичка сказала: «Садись, пять!», по классу пронесся удивленный шепот, а Ширяй с Акулой пожали мне руку.
Не смотря на всплески, науки не увлекали, и природа заполнила пустоту интересом к девочкам. В детстве такое любопытство объяснялось гендерным отличием. Становясь старше, я начал обращать внимание на лицо, волосы и цвет глаз. По мере созревания, пропорционально количеству прыщей, меня начали возбуждать формы одноклассниц. Девицы выставляли себя напоказ, делая юбки короче, а грудь выше. Отношение их тоже изменилось: они стебали и дразнились. Как с ними себя вести, я не знал, поэтому робел и стеснялся, однако инстинкт плевать хотел на мои комплексы. Качая гормоны, он от души покрывал тело нешуточной растительностью и угрями. Пялясь в душе на мой лобок со всеми атрибутами взрослой жизни, лагерный вожатый удивленно цокал языком. Но скрытый до времени мужской потенциал, пока доставлял только страдания и неудобства.
К пятнадцати годам баланс приличного поведения и буйства плоти нарушился в пользу последней, и меня понесло. Когда первое мартовское солнце растопило скуку самой длинной школьной четверти, у мальчиков появилось экстремальное развлечение: лапать девочек. Вызывающих похотливый интерес училось несколько, хотя больше всех доставалось тихоне Алле Кориной. Высокая, костлявая, с развитой грудью и худыми коленками, она, в отличие от прочих баб, дралась вяло, на помощь не звала и молча, с еврейской покорностью принимала свою участь. Зажатая в угол раздевалки, Корина безразлично смотрела на обшаривающих ее тело красивыми миндалевидными глазами. Участие в коллективном бессознательном, где перепадало немного, радости не доставляло. Я хотел Алку единолично и, набравшись смелости, притаился в подъезде. План удался. Пытаясь сдержать напор, Алла уперлась мне в грудь длинными пальцами начинающей пианистки, но, прижатая к стенке, обмякла и, тяжело дыша, мирно скрестила руки на моих плечах. Идиллию нарушило появление ее мамы и жуткий скандал за этим.
Происшествие зародило искру взаимного интереса. В десятом классе, готовясь к выпускным, Корина приходила ко мне домой. Однажды наш петтинг прервал папа. Мы схватили книжки, правда, вверх ногами. Переполненный тактильными впечатлениями, я добивался от Алки большего. Она устояла, и слава богу: что делать дальше друг с другом, мы не знали.
Сильнее Аллы возбуждала Люда Чупина. Крепкая, бедрастая, с большими, не по возрасту, грудями, она туманила мозг многим, хотя лапать ее боялись. Укоротив школьную юбку до трусов, Чупина открыто пользовалась косметикой и встречалась со взрослыми парнями. Когда на дискотеках я танцевал с ней, мои штаны оттопыривались, и Люда, чувствуя это, жалась ко мне еще крепче. Будь я смелее, она бы первая провела бы меня в долгожданный мир плотских удовольствий. Но не сложилось, и целых четыре года я еще мучился в плену надежд и разочарований. В восьмом классе я оказался перед выбором. В нашем рабочем районе гостеприимно распахнули двери десятки ПТУ, а в единственную десятилетку набирали, как в институт, по конкурсу. Дома наступил долгожданный консенсус: «путягу» в семье единодушно считали дном, и я взялся за учебу. Сдав выпускные на пять, я попал в эту школу, и забил на нее.
Примерно в это же время, кроме телесного томления и влечения к девкам, меня обуяла недосягаемая фантазия – горные лыжи. Этапы Кубка мира по этому буржуазному, чуждому советскому человеку виду спорта, показывали раз в неделю по телику.
Приникнув к экрану, я жадно смотрел на летящих с огромной скоростью лыжников, их стометровые прыжки, а часто и жуткие падения. Спортсмены казались мне суперменами, а репортажи «оттуда» еще и редкой возможностью поглазеть «как у них там».
Кубок смотрел не только я. В школе горячо обсуждали эти соревнования и, решив доказать, что мы не хуже, собрались компашкой на горки в Царицыно. Каждый взял свои беговые лыжи и только Сашка Степанов принес что-то невиданное. Широкие, размалеванные по-иностранному, его лыжи имели замысловатые крепления: пружины сзади и небольшую головку спереди. Ботинки на нем были тоже другие: намного выше наших и шнуровались через крючки.
Царицыно встретило нас бодрым морозцем, ярким солнцем и кучей народа на санках и лыжах.
Подражая кумирам, мы выбирали горку подлиннее и, сунув палки под мышки, скользи вниз по прямой и только Сашка, ловко вертя сжатыми коленями, ехал змейкой. Попробовав также, я сразу упал – лыжи подо мной крутиться не желали.
– Надо пятку чем-то привязать, – наблюдая мои мучения, пояснил Степанов, – ботинок съезжает.
О своих лыжах Сашка рассказывал довольно туманно, но тот выезд в «горы» зародил во мне некий оптимизм: и в наших условиях можно что-то сделать.
Кстати с Сашкой Степановым я первый раз попал в милицию. Еще в восьмом классе. В промзоне Южного порта находилась контора где разливали бытовую химию. Работающие там «суточники», превратили цех в проходной двор и Сашка предложил сходить туда. Зачем? Не помню. Скорее, от безделья!
В итоге нас, нагруженных коробками с «Персолью» и «Белизной», поймал одетый в гражданское обехеесник. Мы заканючили: «Пусти, дяденька!», но тот, видимо для галочки, приволок нас в ментовку.
Борзый наезд напугал меня, и я тут же выложил телефон родителей. Сашка молчал как партизан, его отпустили, а я, в ожидании отца, сидел до вечера
Вернемся к лыжам. Масла в огонь подлил другой одноклассник – Андрей Иванов. Компанейский парень, позвав меня в гости, он показал подарок родителей: горные лыжи «Мукачево», шире и мощнее Сашкиных, но с такими же пружинами на креплениях. Рядом стояли «Бескиды» его отца – тот тоже катался.
Там же я заметил и выпросил почитать знаменитую книжку Жубера «Горные лыжи по-французски» и, перелистывая дома фотографии, выучил несколько модных слов: годиль, авальман, и ведельн.
Бывало, я с завистью смотрел в окно на идущих внизу Ивановых с лыжами на плечах и рюкзаками за спиной. В шапочках «петушком», с очками поверх них, отец и сын топали на Ленинские горы.
Возбужденный примером, я начал канючить у родителей горный лыжи и все что к ним полагается.
Мама ответила в присущей ей живой манере:
– Какие лыжи? Из милиции не вылезаешь! Учись лучше: в тройках погряз, потом видно будет!
– В ментовку только раз попал! – возражал я.
– Лиха беда начало! – не сдавалась мама.
Папа отбрил меня более дипломатично:
– Запишись в секцию, а там тебе все выдадут, – И подарил пару глянцевых буклетов Низких Татр, прихваченных в пражском отеле год назад.
В них на фото, обтянутые синтетикой грудастые блондинки, скользили на фоне гор и синего неба, возбуждая во мне больше похоть, чем интерес к лыжам. Попав в Татры через много лет, я воочию убедился, что кроме сисястых баб, ловить там нечего.
Не найдя понимания, я загрустил, но выручил случай. По дороге к бабке в Тушино, в спортивном на Сходненской, я увидел решение моего вопроса.
Горные лыжи продавались и тогда, однако самые дешевые, польские, стоили зарплату инженера и не светили мне ни при каком раскладе, зато рядом стояли наши деревянные «Турист», широкие, как у Сашки, и всего за десять рублей. Теперь я понял почему Степанов так не хотел говорить про свои лыжи: он купил такие же и, сделав трафареты, нитрой намалевал верх. Тут же в отделе под стеклом лежали крепления КЛС с пружинами и стоили они четвертной.
Довольный, что нашел выход, я побежал на квартиру к родным. Дед с бабкой, уже выселенные из коммуналки в сердце Родины, оказались на окраине Москвы, зато в собственной хрущевке.
В отличии от родителей они не ругали меня за тройки, но взяв обещание не попадать больше в милицию, выдали мне деньги на долгожданную покупку.
Оставалась, правда, одна проблема – ботинки. Их продавали только в комиссионках и стоили они дороже лыж, хотя выход нашелся и здесь. Мои зимние сапоги фабрики «Скороход» по кондовости не уступали кирзачам и хорошо вставали в крепления.
Кататься я собирался тоже тут же: в овраге за деревней Петрово, недалеко от дома бабушки.
В выходные, забив на уроки, я мчался в Тушино и, наскоро выпив чаю, брал лыжи и шел на горку. Деревенские катались на чем попало и аншлага, в отличии от Царицыно, тут не наблюдалось.
Зато здесь я впервые увидел бугель и «настоящих» лыжников. Счастливчики на горных лыжах цеплялись крючком к тросу, и лебедка тянула их наверх. Пока я поднимался ногами, они успевали спустится по нескольку раз. Бугель поставили энтузиасты и чужих, естественно, на него не пускали.
Подсматривая за «мастерами», я пытался подражать им, активно крутя то коленями, то задницей, однако получалось не очень. Лыжи юзили, и я понимал: дело не в их ширине, а есть еще какие-то секреты. Когда падать надоедало, я гонял по прямой и тут конкурентов не имел. Моей дури хватало на троих!
Накатавшись до дрожи в коленках, я полз домой по деревенской улице к бабулиным пирожкам. Во дворах брехали собаки, вкусно тянуло дымком из труб, зажигались первые огоньки в окнах. Не смотря на усталость, свои деревяшки я тащил не под мышкой, а нес на плече, как истинный горнолыжник.
Лыжи на время поглотили меня, но зима закончилась и, наслушавшись дворовой брехни об автогонщиках, я записался в клуб юных автомобилистов. Занятия проходили, как в современных автошколах: мы изучали автомобиль, правила и пробовали водить на площадке. Тем, у кого получалось, разрешался выезд в город с инструктором. Апофеозом явились сдача экзамена и получение детских прав. Когда дело дошло до управления машиной, радости, в отличие от других, я не испытал. Нажимать педали, переключать скорость и одновременно крутить руль оказалось не так просто. Смутная догадка, что пассажиром я буду чувствовать себя куда комфортнее, не помешала получить права и на время стать телезвездой.
Во избежание скандалов, в клуб я ходил в тайне от родителей. Однажды к нам приехало Центральное телевидение делать сюжет. Мало того, что меня, как большого и заметного поставили в первый ряд, еще и попросили рассказать про учебу. Не задумываясь о последствиях, немного стесняясь камеры, я что-то сказал в микрофон и забыл об этом.
Слава нашла героя. Папа уехал в командировку, а мама, как миллионы советских людей, вечером смотрела программу «Время». Разнообразием сюжетов она не отличалась: награждение Брежнева, обличение США, новости культуры и спорт. В тот раз культуру заменили детским творчеством и показали автоклуб со мной в главной роли. Мама, не веря глазам, подошла к экрану и, убедившись, что зрение не подвело, активно прошлась по моей шее. Зато в школе только и говорили, что по телеку показали Авшерова и даже учителя с интересом смотрели в мою сторону.
Отношение педагогов к ученикам оставалось неизменным со времен Макаренко и его колонии малолеток, хотя кое-кто уже либеральничал. У нас прогрессивным педагогом считали историчку Инессу Борисовну. Костя Тожа, хохмач и приколист, на ее уроке достал пирожок. Заметив безобразие, Инесса могла бы выгнать его, однако сейчас съязвила:
– Вот ты, Тожа, ешь на уроке, а ведь не хлебом единым жив человек! Так написано в Евангелии две тысячи лет назад.
С набитым ртом Костя парировал:
– А Брежнев Леонид Ильич начал свою бессмертную книгу «Целина» словами: «Есть хлеб, будет и песня!» Класс грохнул. Историчка, не ожидая отпора, покрылась красными пятнами, но выставить Костю из класса, цитирующего генсека, она не посмела. Тожа в ответ улыбался и громко чавкал.
В десятом классе возникла дилемма: или, взявшись за ум, я поступлю в институт, или загремлю в армию. Наши уже вошли в Афган, умирать героем я не хотел, и, выбрав первое, засел за учебники.
Армии боялся не я один. Аксенов, сосед по парте, предложил заниматься вместе. Нервный, дерганный, он производил убогое впечатление. Безотцовщина, мать-уборщица породили в нем комплекс неполноценности, и в классе с ним общались мало.
Учебный год в делах и заботах пролетел быстро. Получив аттестаты, я и Аксенов подали документы в Московский инженерно-физический институт. Шансы попасть туда стремились к нулю, однако экзамены в МИФИ проходили раньше, чем в другие вузы, оставляя двоечникам еще попытку. Стойко выдержав три испытания, я получил неуд по физике.
Аксенову повезло: сдав на трояки, он прошел по конкурсу и, узнав мой результат, ухмыльнулся:
– А тебя, парень, армия ждет!
Так я впервые столкнулся с завистью, скрытной и злобной. Этот «кухаркин сын» втайне ненавидел меня! За отца, нормальную семью и еще бог знает за что! Радовался он не долго: я поступил в другой вуз.
В детстве произошло событие, во многом повлиявшее на мою жизнь. Ребенком я рос непослушным, своенравным, и только возмездие за проступок могло призвать меня на время к порядку.
Наказанный сидеть дома, скуки ради, я открыл книжный шкаф и наугад вытащил толстенную книгу. На обложке дядька в белоснежном кепи и длинном шарфе стремительно рвался в светлое будущее. За ним семенил сутулый старик в пенсне и шляпе. Книжку написали двое, что раньше не встречалось, удивило и название: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». Прочитав лист, оторваться я уже не мог!
Дома облегченно вздохнули: я перестал дерзить и баловаться. Читал я запоем и вскоре заговорил цитатами. На вопрос взрослых: «Кем станешь, когда вырастешь?» отвечал: «Идейным борцом за денежные знаки!», что, в принципе, и определило мою судьбу, а соседскому мальчишке пригрозил: «Набил бы тебе рыло, только Заратустра не позволяет!» Тот, конечно, ничего не понял и на всякий случай пожаловался. Терпение близких лопнуло, когда один из гостей, хвастаясь успехами, услышал от меня: «С таким счастьем и на свободе!»
Книгу забрали, но поздно ‒ зерно авантюризма надежно осело в благодатной почве, зародив мечту о своих Эльдорадо, белых штанах и далеком Рио.
Приключения Остапа подтвердили то, о чем раньше я лишь интуитивно догадывался: потакать общественному благу, в обмен на собственное благополучие, к чему так упорно готовила семья и школа, мне претит. Я собирался жить для себя, а главное, по своим правилам. Что делать для этого толком не знал, но то, что не сделаю, представлял уже хорошо.
Спустя полвека, пусть ненадолго, я вернулся в свое детство, хотя радости от этого не испытал.
Из-за какой-то мелочи я оказался на Электрозаводской и, выйдя из метро, сразу почувствовал «запах родины». «Аромат» этот забыть не возможно и, хотя ткацких фабрик давно нет, но вонь от них намертво въелась в бытие этой рабочей окраины.
Покончив с делами, я решил дойти до Преображенского кладбища и навестить там своих. Путь мой лежал по улице «9-я рота», не имеющей к одиозной роте никакого отношения. Слева также торчали корпуса бывших фабрик, превращенные современностью в бизнес-центры, справа, на холме, та самая школа, куда я упорно не хотел идти в первый класс. Перейдя через узкоколейку, я остановился: впереди чего-то не хватало. «Да, конечно, здесь стоял первый корпус!» – вспомнил я. Вместо дома пятак будущей реновации огораживал забор. «И повезет же кому-то жить здесь!» – съязвил я и тут же сквозь уцелевшие деревья увидел крышу своего дома, на которой едва не погиб в детстве. Опутанный металлопрофилем, давно отселенный, корпус смиренно ждал своей участи. Срезанные кованные балконы, забитый от бомжей первый этаж ничего хорошего не сулили и только пилястры лестничных пролетов с огромными витражами, белели на фоне красной кирпичной кладки.
Двое работяг открыли калитку. Я окликнул:
– Когда снесут?
– Реставрируем. Памятник.
«Хоть это радует. Все-таки поздний конструктивизм!», – я подошел под свои окна и задрал голову. Сквозь разбитое стекло увидал дыру в потолке и торчащую дранку. Стало грустно и неприятно.
Зачем-то, обогнув дом, вышел к подъезду. Рядом с открытой дверью стояло несколько человек.
«Могу же войти! – садануло внутри и я спросил:
– Подняться можно? Я жил здесь когда-то.
– Нет, посторонним нельзя! – прошепелявил беззубым ртом деградант в форме охранника.
«Это я то посторонний, чмо иногороднее! – вскипело внутри, но тут стоявший рядом паренек, обнадежил: – Подойдет начальник, у него спросите.
Главный ждать не заставил. Пивным животом и красным лицом прораб выдавал сам себя.
– Извините, у меня необычная просьба. Я провел в этом доме детство и, случайно оказавшись здесь, хотел бы на минуту подняться. Можно?
Оценив меня, тот, помедлив, распорядился:
– Дайте ему каску! Коля, проводи.
Я натянул снятую с таджика каску и, обгоняя провожатого, через ступеньки, взлетел на третий этаж. Через проем попал в набитую мусором прихожую и встал на пороге нашей комнаты. Двери сняли давным-давно и, освещенная хмурым днем, она вся просматривалась. В душе разом что-то оборвалось! Я застонал, потекли слезы, Коля тактично вышел на кухню. Глядя на этот хаос сквозь влажную пелену, я так и не смог выделить хоть что-то, напоминающее мне о прежней жизни. Строительный хлам, прореха в полу, оборванные белые обои, которых при нас никогда не было и вообще все такое маленькое, убогое, вызывающее, скорее, брезгливость, чем ностальгию. Эта не моя комната! Где та благородная окраска стен нежным красным колером, орнамент по филенке, где массивные портьеры на входе, стол посередине, пианино в углу? Где все это? Как вы посмели, сволочи! Здесь люди жили! Здесь были мы! Я взвыл и если бы не Коля, рухнул бы на колени.
Дедушка и бабушка с моим маленьким отцом въехали сюда сразу после сдачи дома в 1928 году. Сначала ютились в маленькой комнатенке, где при мне квартировала Зайчиха, потом переселились в эту и перед войной комната обрела тот вид, который я хорошо запомнил. Дед расстарался: такими интерьерами в то время похвастаться могли немногие.
Дедушку призвали в армию как раз перед компанией 1939 года, назначили интендантом второго ранга, однако долго «повоевать» не удалось. Не званных гостей местные не привечали уже тогда и ночью обстреляли из кустов эмку деда. Ему не повезло: пуля, пробив колено, серьезно повредила ногу.
Тем не менее он успел отправить в Москву кое-что из «трофеев». В отличии от большинства, он не мародерил и на каждый предмет имел купчию, заверенную еще и нотариусом. Хотя, если честно, при виде «человек с ружьем», цену, наверно, здорово снижали. Зная, в какой стране живет, эти расписки мой дед хранил до конца жизни, и я нашел их.
В Балтии повезло больше и в результате «добровольного» аншлюса нашу комнату украсили пианино, рижская радиола, дюжина венских стульев и многое другое. Со стен из позолоченных рам смотрели друг на друга прусский курфюрст и дама в декольте.
Все это намертво закрепилось в моей памяти и то, что я видел сейчас, не укладывалось в голове.
Я прошел на кухню и заглянул в ванную. Здесь, конечно, все давно вынесли и лишь дырки в кафеле напоминали, что, где и как стояло.
Коля смотрел на меня и ждал.
– Я ушел от сюда в десять лет, а вернулся через пятьдесят два года! – не понятно зачем прохрипел я и парень в ответ безразлично хмыкнул,
Мы вышли, прораб удивленно взглянул на мою зареванную физиономию, а я, выдавив из себя: «Спасибо, родной!», махнул рукой и повернул за угол.
Идя по Хапиловскому скверу, я не мог отделаться от ощущения, что все еще продолжаю видеть заваленную хламом, разоренную нашу комнату. Не хватало только старого патефона на куче мусора, как в «Покровских воротах» и хрипотцы голоса Утесова: «Затихает Москва, стали синим и дали…».
Сидя в метро, я вспомнил, что не сделал фотки нашей квартиры и было пожалел об этом, но очень быстро отогнал эту мысль. Смотреть на такие фото – как видеть в гробу родного человека, невозможно.
Прошли годы, мой семейный круг сузился: близких, так искренне любивших меня, давно нет, как нет тех квартир, и домов, где пролетели, бесспорно, самые беззаботные и счастливые годы моей жизни, однако память о своем детстве останется со мной.
Глава 2
ПЕРВЫЕ ГОРЕ-РАДОСТИ
В 1980-м СССР жил под девизом «Citius, altius. fortius!». Благодаря Олимпиаде абитуриенты получили лишний месяц на подготовку, и это спасло меня.
На последнее занятие к репетитору я поехал вместе с папой. Из десяти задач по алгебре я с грехом одолел половину, по физике и того меньше.
‒ Посмотрите, ‒ преподаватель раскрыл перед отцом тетрадь, ‒ нельзя за три месяца пройти школу!
‒ Какие у него шансы? – спросил родитель, пошуршав листами с моими каляками.
‒ Математику, может, и вытянет, а по физике беда – тройка в лучшем случае!
Возвращались молча, отец хмурился, и я старался не смотреть на расстроенного папу.
Дома, обсудив поездку, мама разрядила гнетущую атмосферу легким скандалом:
‒ Догулялся? Отец не пристроит – осенью загремишь в армию! Не дури, иди куда велят.
Я хорошо понимал маму. Если выбор МАИ разногласий не вызывал, (папа работал начальником в МАПе), то кастинг факультета оставался камнем преткновения: на моторный идти я, хоть убей, не хотел.
Склонностей к чему-то я не испытывал. В детстве мечтал стать летчиком, пожарным, потом танкистом. К семнадцати годам желания иссякли. Теперь хотел пожить в свое удовольствие, не обременяясь
ни новыми знаниями, ни трудностями их получения. Оценив науки, я выбрал экономику, как наименьшее зло. К тому же факультет считался бабским, и там я надеялся потерять тяготившую меня невинность. Не радовал высокий проходной бал, однако плюсы перевесили, и, наперекор родне, я подал документы туда.
Подошли вступительные экзамены, время крушения надежд, либо воплощения их в жизнь. На кону стояла моя судьба: или армия с непредсказуемым финалом, или кайф на ближайшие пять лет. Сдав физику на пять и алгебру на четыре, вопреки прогнозам родни, я досрочно поступил на экономический.
Первый день студенческой жизни запомнился далеким от учебы событием. В ожидании лекции я сидел у двери и с любопытством наблюдал, как аудитория наполняется молодежью. В числе прочих вошла девушка и в поиске свободного места расположилась рядом. Выглядела она бесподобно! Высокая, не ниже 170 см, стройная, затянутая в нежно-голубой «Wrangler» девица расстегнула ворот ветровки. Время остановилось. С замирающим сердцем я смотрел, как под длинными тонкими пальцами бегунок молнии открывает большой красивый бюст, затянутый в нейлон водолазки. Я замер, боясь пошевелиться, в брюках моментально стало горячо и тесно. «Какая телка!» – в голове вихрем пронеслись похотливые мысли, и я лихорадочно стал искать повод для знакомства. Выяснилось, что мечту мою зовут Наташа Касинская и учится она будет в параллельной группе.