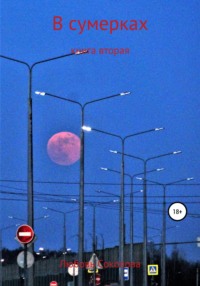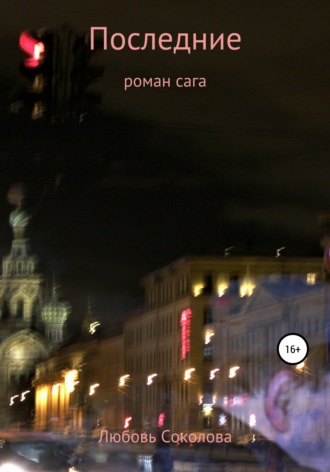
Полная версия
Последние
В то самое время, как Яков Николаевич Бауэр тщательно и демонстративно завтракал в ресторане отеля, товарищ Нефедов вел бешеные по накалу страсти многоступенчатые переговоры с руководством, при чем не по защищенному каналу связи, а по межгороду, что доставляло гэбисту почти физиологический дискомфорт. Казалось бы, Бауэра следует немедленно изолировать и отправить в Москву. Москва добро не дала. В дипломатических и политических целях делать этого было нельзя. Вчерашнее происшествие уже привлекло внимание, информация о нечаянной встрече давно потерявших друг друга родственников просочилась в прессу. Объявить Бауэра внезапно заболевшим? Пресса хотела подробностей. Он и вправду мог заболеть. Мог даже скончаться от переполнивших его эмоций. Так бы даже лучше, полагал Нефедов. Два российских немца, разлученных Гражданской войной и революцией, умерли, потрясенные неожиданной встречей. А подробности пусть додумывают репортеры. Хороший ход. Остроумно! Однако несвоевременно. Во-первых, Бауэр-то жив. Во-вторых, его поездка в Германию задумана в целях сугубо пропагандистских. Невозможно сейчас изъять его из процесса, да еще таким вопиющим образом! Пусть уж выполнит миссию, а там посмотрим. Решили везти его на встречу с принимающей стороной, сделав вид, что ничего не случилось.
Все, происходившее с Яковом в последние полгода, казалось ему нереальным. Началось – разве мог подумать, чем оно для него обернется?! – с визита генерального секретаря ЦК КПСС в ФРГ. Газеты писали о крупном успехе советской дипломатии. Яков, разумеется, читал газеты, никоим образом не принимая на свой счет открывшиеся перспективы
урегулирования отношений между двумя странами. У него не было интересов за пределами Советского Союза. Страна одними своими размерами подавляла любые поползновения выйти когда-нибудь за ее пределы. Якову Николаевичу и в пределах-то не везде позволено было находиться. Например, нельзя на Камчатку – нужно получить разрешение на въезд в приграничную зону, а с биографией Бауэра любая лишняя анкета могла обернуться неприятностями. Во всяком случае он так думал и опасался, по привычке допуская, что наделенные властью люди спокойно могут объявить его виноватым по одной только той причине, что он немец, самовольно в 50-х годах покинувший место поселения, за что ему грозили «каторжные работы». Вроде бы никто с тех пор Якова не разыскивал, но если какой чин в органах захочет потянуть за ниточку, во что это выльется, до чего он докопается, какой клубок размотает? Дразнить судьбу никому неохота. Все у Якова Николаевича складывалось хорошо, лучше даже не надо. Рубрики «Сегодня в мире», «Мир глазами друзей», «Международная панорама» и, в особенности, «Клуб кинопутешественников» полностью удовлетворяли все информационные потребности абсолютно советского гражданина Бауэра. Он никогда не позволял себе желать ничего более того, что дозволено. А из дозволенного выбирал только самое простое. Имея склонность к коллекционированию анекдотов и острых выражений, он знал фразу «Курица не птица, Болгария не заграница». Знал, но не понимал. Для него, только однажды отдыхавшего с семьей в Сочи, даже Болгария была вполне себе заграницей. Ну, а ФРГ в течение всех послевоенных лет оставалась болезненной геополитической точкой – да какая там точка, родимое пятно! – на карте Европы. Как можно было себе представить поездку из СССР в ФРГ? Никак. Пытливый ум Якова Николаевича отваживался порой на сравнение немцев ГДР и российских немцев. Он задавался вопросом: что было бы, если бы не ликвидировали республику немцев Поволжья, существовавшую в довоенные годы? У кого показатели социалистического строительства были бы лучше, у немецких или у советских немцев? Он не осуждал решение о ликвидации немецкой автономии в Поволжье. Просто предполагал: что было бы, если бы… Яков Николаевич неизменно склонялся в пользу немцев советских. То есть даже наедине с собой не диссидентствовал ни в большом, ни в малом. Никогда он не делился своими соображениями с женой или с коллегами. Зачем говорить вслух то, о чем и себе-то думать позволяешь только в самые сокровенные минуты с опаской, не услышал бы кто твоих крамольных мыслей? Он понимал: как ни крути, а само воспоминание о республике немцев Поволжья – по нынешним временам крамола, и крамола та еще. В реальном мире гэдээровские немцы вели соревнование с немцами ФРГ и, судя по всему, с большим перевесом выигрывали. В Советском Союзе информация подавалась таким образом, что огромным и значительным государством выглядела только ГДР. О существовании ФРГ знали как о досадном факте. Знали, что там под гнетом капиталистов изнывают рабочие, которым не повезло родиться или хотя бы своевременно перебежать на территорию ГДР, где жизнь текла в счастливом русле свободного труда и равномерного достатка, а сама демократическая республика была в экономическом плане масштабнее, в военном – могущественнее ФРГ. Если не смотреть на карту, сомнений не возникало. На карте же, наоборот, ФРГ занимала необъяснимо много места, охватывая ГДР снизу и сбоку. Да еще и сам Берлин наполовину оказался несоветским, благодаря какому-то несчастному и, вероятно, нечестному стечению обстоятельств. Самовыделенность Западного Берлина в целом Берлине совершенно не укладывалась в сознании советского человека. Такой маленький, вокруг наши. Задавить, как вошь ногтем, и вся недолга. Про «задавить ногтем» – высказывание бывшего вохровца Сереги Демина, соседа по дачному кооперативу, весьма заслуженного, хоть и не персонального, а обычного пенсионера, любившего прихвастнуть и сыпавшего намеками на свое героическое прошлое, однако без подробностей. Он понятия не имел о том, что Западный Берлин – это город внутри города. Думал, что Западный Берлин – это столица ФРГ, а называется так потому, что немцы не могут без Берлина. Взяли у них основной, так придумали себе Западный. Узнав от Якова про истинное положение дел, Сергей Иванович до того расстроился, что разломал свой забор, показывая, как следует поступить с Западным Берлином.
– Вот ты, Яша, немец, – говорил вохровец Серега, тыча соседа в грудь толстым и ровным, как сарделька, пальцем. – А перековался – и, можно сказать, человек! Даже я тебя, можно сказать, уважаю. А там у себя вы, немцы, порядка навести не сумели. Жидкий вы народ, вот почему. Палец Сереги, которым он на службе нажимал на спусковой крючок, сильно износился за жизнь. Заканчивался он крохотным ноготком в ореоле заусенцев. Якову неприятно было прикосновение, но, полагая за благо добрососедские отношения, он терпел, внутренне презирая себя и свое притворное благодушие. Они с Серегой – люди одного поколения и общей судьбы, разделенной, правда, колючей проволокой лагерей, но Сереге об этом знать не надо, а Якову хотелось бы не помнить, да только не забыть никак. Деление на «вы» и «мы» Яков относил на счет «национальной гордости великороссов». Название статьи В. И. Ленина, включенной в вузовский курс истории партии, объясняло многие заявления Сереги, никогда Ленина не читавшего. Яков же статью не просто читал, а конспектировал и сдавал по ней экзамен в институте. Ленинская трактовка национальной гордости шла вразрез с Серегиными выпадами. Этого Якову было достаточно, чтобы относиться снисходительно к хамству малообразованного соседа. Подобную реакцию – гнев и непонимание, как у Сереги, – мог испытать каждый советский человек, сопоставив размеры ГДР и ФРГ. Досаду вызывало само существование «другой» Германии, но жизнь брала свое: к середине 1970-х годов Советскому Союзу потребовалась нормализация отношений с ФРГ, несмотря на стабильно жесткую позицию этой страны в отношении ГДР, строившей под протекторатом СССР образцово-показательный социализм.
После очередного майского визита Брежнева в Бонн и его встречи с Гельмутом Шмидтом начался следующий этап нормализации. Возникла необходимость демонстрировать нарастание взаимного интереса в деловой сфере, оживились культурные и деловые контакты. Пропаганда требовала фактов, обоснований, подтверждений – теста, из которого та и другая сторона лепили новостные пирожки, густо приправленные идеологическими специями. В ФРГ как раз нарастал интерес к атомной энергетике, в СССР имелся достаточный опыт строительства и эксплуатации АЭС. Обозначилась точка соприкосновения. Неподалеку от Дюссельдорфа немцы планировали строить атомную станцию на быстрых нейтронах. Поэтому советских специалистов пригласили на встречу именно в Дюссельдорф. Делегацию сформировали, тщательно отбирая кандидатуры как по степени благонадежности, так и по весу в научных кругах. Якову Николаевичу отвели маленькую, но весьма приятную роль вишенки на торте. Советский немец, беспартийный изобретатель-рационализатор, отец троих детей, примерный муж и семьянин, давно не контактирующий с какой-либо кровной немецкой родней – все умерли! – никогда не имевший родственников за рубежом, годился для предъявления загнивающему Западу.
Крутили-вертели компетентные органы личное дело Якова Бауэра: из крестьян, отсидел, реабилитирован, нашел свое место в обществе, доволен жизнью. Яков Николаевич удивительным образом судьбой своей отвечал сразу на все проклятые вопросы антисоветчиков. И даже больше того. После истории с неудачной попыткой вручить Нобелевскую премию за организацию первого полета человека в космос на Западе говорят об отсутствии авторского права в СССР. Хрущев в ответ на запрос Нобелевского комитета сказал: «Человека в космос запустил советский народ. Точка». Королев, значит, не при чем. С тех пор, чего бы ни добился отдельный интеллектуально одаренный гражданин, результат его усилий будет приписываться сразу всему советскому народу, кричат на Западе. Бауэр – живое опровержение злобных измышлений, поскольку он еще и носитель персонального авторского права. Изобрел не ракету, а какие-то задвижки. Задвижки Бауэра сыграли важную технологическую роль. Они обеспечивали безопасность и управляемость процесса распада. Немцы, ведя свою игру, непременно захотели встретиться с автором изобретения, которое намеревались будто бы купить в виде патента. Русские же будто бы хотели продать продукцию, созданную на основе этого изобретения. Яков Николаевич оказался разменной картой, вокруг которой обе стороны водили хоровод. При этом сам изобретатель задвижек интересовал участников процесса не больше, чем пуговицы на его специально сшитом по случаю визита пиджаке. Все понимали, что сам он ничего не решает и авторством своим не распоряжается.
А пиджак-то получился хорош и прекрасно сидел на фигуре Якова Николаевича, скрывал некоторую сутулость, сложившуюся за годы работы за кульманом. Впервые увидев себя в зеркале в этом кордовом моднейшем пиджаке с отделкой из натуральной кожи, Яков Николаевич с удовольствием отметил, что все еще привлекателен, можно сказать, красив. Благородная седина давно съела темный от рождения цвет волос, однако породистый крупный прямой нос, выпуклый лоб над большими, глубоко посаженными глазами и четкий овал смуглого удлиненного лица – родовые признаки, унаследованные от матери, – с годами стали только выразительнее. С той самой минуты, как взволнованный старик с вилкой в руке схватил его за плечи, назвав дорогим именем Рольф, ошибочно принимая за человека, воспоминания о котором болезненным аккордом рвали самые чувствительные струны души Якова Николаевича, он пребывал в затяжном состоянии аффекта. Потрясение от встречи с Артуром он пока не в состоянии был даже оценить. Оно накрывало волнами. На первом месте оказалась проблема, как жить дальше. Он полагал наказание – за что? за то! – неотвратимым и пытался предугадать, в какой именно форме будет наказан, увидится ли еще с семьей, и пострадает ли семья сверх того, что лишится кормильца, то есть его самого. Будет не оправдавший доверия Бауэр помещен в лагерь или просто отлучен от работы? Мысль о лагере казалась ему даже более благоприятной, нежели существование без средств в городке, где все друг друга знают и куда он вернется опозоренным под надзор компетентных органов. «Как Сахаров!» – мелькнула пафосная мысль об опальном ученом, но быть «как Сахаров» Яков Николаевич не захотел, потому что сразу вспомнил тещу. Теща точно была бы недовольна, будь она жива. Спустя пять лет Яков все еще по привычке оглядывался на суждения этой волевой женщины, поднявшей не только своих, но и его детей. Дочек бы не коснулось! На этом месте своих горьких размышлений Яков неожиданно ощутил негодование по отношению к Артуру, так внезапно вернувшемуся из небытия и разрушившему все, что Яков выстраивал десятилетиями, а теперь потеряет безвозвратно. «Алька отречется», – подумал Яков о младшей. Обрадовался: в тридцатые годы отрекшихся не выгоняли из комсомола, а потом, при благоприятных обстоятельствах, даже принимали в партию. Придумав, как спасти младшую дочь, он почти успокоился. Инна, средняя, на библиотечном, ей, наверное, дадут доучиться даже без отречения. Книжками заведовать можно и дочери врага. Хотя ведь книжка книжке рознь… Мария – вне досягаемости, она замужем в далеком гарнизоне, носит другую фамилию. Ей ничего такого не пришьешь.
В тяжелом настроении Яков Николаевич прибыл на совещание. Встреча с немецкими партнерами оказалась мучительной. Они задавали массу вопросов, касающихся технических характеристик изобретения, и, казалось, сами нарочно хотели всех запутать. «А может, подловить?» – догадался, наконец, бесхитростный инженер. Яков подумал о сложностях перевода и вероятных нежелательных последствиях. Попытался говорить по-немецки, что вызвало холодную ярость Нефедова и странную реакцию немецких участников встречи. Позже он сообразил, что говорит на специфическом диалекте, возникшем на российской почве в среде немцев, вышедших еще в XVIII веке из разоренных Семилетней войной земель Гессена, Бадена, Баварии и Рейнской области, с тех пор почти не имевших контактов с Германией. Бытовая речь разбросанных по России немецких колоний развивалась самостоятельно и независимо от тенденций литературного немецкого языка ХХ века. Пожалуй, его не понял бы и Артур, учившийся в Петришуле, где преподавали язык на хорошем уровне. Яков не получил системного языкового образования. В техническом плане его немецкий звучал так, как если бы он по-русски стал толковать о штуковине такой да штуковине этакой. Устыдившись, Бауэр совсем растерялся. Коллеги с немецкой стороны, тем не менее, получили некоторое удовлетворение. Делегация продолжила работу, а Яков Николаевич следующее утро встретил уже в Москве. Провожал его Нефедов, а сопровождал другой оперативник. Может, и не один? Яков с опаской оглядывал пассажиров. Старался угадать, кто из органов, кто сам по себе. К большому удивлению проштрафившегося, его повезли не в подвалы Лубянки, а в гостиницу «Москва», где водворили в одноместный номер с душем и телевизором. Первой мыслью, когда он вступил в длинный, застланный ковровой дорожкой коридор гостиницы, было: «Тут живет Людмила Зыкина!» Вероятность встретить главную советскую певицу отвлекла от переживаний, более того, вызвала восторженный трепет. В голове завертелись слова: «Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти…» Захотелось на природу, на рыбалку. – Правда ли, что тут живет сама Зыкина и окна ее выходят на Кремль? – обратился Яков Николаевич к сопровождающему. – Вам зачем? – Да так. Все же Зыкина! Говорят… Нет? Ответа не дождался. Понял, что не прощен. Снова придавили горькие мысли, безысходность и отчаяние. Оставшись один, Яков Николаевич лег в одежде на кровать и будто бы уснул с открытыми глазами, обращенными в идеально белый беленый потолок. Сколько он так лежал, известно только группе наблюдения. Довольно долго. Потом очнулся и сказал отчетливо: – Артур все эти годы был жив. Мысль о крестном постепенно стала проклевываться в забитое страхом сознание. Артур совсем недавно еще был жив, у него в ФРГ вдова и дети. Он помнил, он хранил последнее письмо из России, где не осталось никого, кто мог бы любить его. Поделиться этим открытием не с кем. Яков еще не понял, а лишь почувствовал, что только теперь он стал окончательно одинок.
В сумерках, не включая света, он стоял у окна в скупо обставленном номере советской гостиницы и, сжимая в кулаке тюль занавески, молча плакал. Лейтенант, дежуривший в этот час у прослушки, не мог правильно понять смысл происходящего. Однако в интересах дела подопечному дали успокоиться, обжиться, прежде чем постучали в дверь. – Войдите! Миловидная женщина принесла бумагу и письменные принадлежности. Теперь ему следовало написать объяснительную и подробный отчет о поездке, в том числе рассказать о действиях товарища Нефедова.
– К какому сроку?
– Мы вас не торопим. Пишите подробно.
Взяв шариковую ручку, Яков склонился над листом бумаги и будто утонул в воспоминаниях: звуках, словах, запахах детства и юности, когда все еще были живы. Но там не было Артура. Человек, ворвавшийся в его жизнь на Шнайдервиббельгассе, исчез много лет назад, Яков не мог ничего сказать о нем, и спросить было уже не у кого. Считалось, что он уехал в Париж.
1919. «…Он уехал в Париж»
Проснулся Артур, должно быть, от стука поленьев, принесенных в дом и выложенных в подпечек. Как зашла хозяйка, не слышал, даже дверью не хлопнула, – видно, берегла сон постояльцев, но одно полено, когда наклонилась, выпало из охапки, прокатилось по широким половицам. И теперь в полудреме он слушал, как уверенно, широко и почти бесшумно ступает она по избе, перегороженной напополам большой русской печью. На слух, не открывая глаз, он рисовал себе образ женщины, которую все равно не разглядеть было в темной горнице задолго до мутного ноябрьского рассвета. Очевидно, молодая, сильная и довольно высокая. Маленькие звучат – шагают, передвигают утварь, рассекают воздух вокруг себя – иначе. Движения миниатюрных женщин – дробные, звук их в том же объеме жилого пространства мельче, чаще, короче. Как если бы сравнить целую ноту с одной восьмой или, по крайней мере, с четвертью. Суетливая мелкая бабенка способна выдавать дробь в размере одна шестнадцатая, как станет метаться по кухне туда-сюда, в спешке роняя поварешки, ножи, миски. Артур внутренне усмехнулся, вспомнив одну немолодую особу, у которой пришлось ему квартировать в Усть-Сысольске зимой восемнадцатого года. Если отвлечься от нотно-музыкальных образов, подойдет сравнение белки и косули. В Усть-Сысольске он наблюдал сумасшедшую белку, а здесь, вероятно, управляется по хозяйству косуля, и определенно зрелая особь. «Матерая косуля», – составил Артур слова, и сочетание показалось ему забавным. Она делала не более двух шагов – от шестка до лавки, от стола до полки… Как же называется эта полка справа от печи, сверху, куда складывают на отдых свежевыпеченные хлеба? Артур никак не мог запомнить. Много новых слов, сначала архангелогородского и вологодского, а теперь еще печорского говора, он узнал и усвоил за два года. А про полку для хлебов никак не мог заучить. Вот незадача. Во французском силен, и в английском отчасти тоже, родной немецкий у него, естественно, хорош, по русскому в предпоследнем классе кадетского корпуса получил высший балл. Налицо способность к языкам. Но эта полка… никак не идет в голову.
Он снова провалился в сон, неверный и навязчивый, не сон даже, а фрагмент довольно страшной, и к тому же еще жутко искаженной, яви из прошлой жизни. Володька Крамской бежит впереди всех, бежит по Садовой к Михайловскому замку, и полы его шинели мелькают над мостовой. Вот уж и особняк военного министра, за которым, они знают, откроется площадь и Замковая улица. Они бегут вслед за Володькой изо всех сил, срывая дыхание, до привкуса крови в горле. Но вот же, скоро, скоро у цели. Крамской сворачивает за угол особняка, Артур почти настиг его и тут едва не падает, поскользнувшись. Иннокентий Белов, набегая сзади, подхватывает Артура под локоть и сам вырывается вперед, но замирает, будто наткнувшись на стену, а Володька почему-то становится очень большим, как в кино, когда герой, до смены кадра сидящий за столом с барышней в затейливом интерьере павильона, вдруг приближается и занимает своим лицом большую часть экрана. Еще склейка – и на всю стену одни только вытаращенные глаза. В глазах паника, на титрах пояснение: «Муж пришел!» Володька разворачивается, в глазах его ужас, паника, он кричит Артуру, Иннокентию, всем кадетам, бегущим следом. В кадре, то есть во сне, один только рот. Крупный план. Нижний передний резец повернут внутрь, губы квадратом, слов не слышно, поскольку это немое кино, только бестолковая музыка тапера и титры: «Назад!» Видение преследует Артура с того самого дня – 29 октября 1917 года. Артур знает, что видеть Володьку Крамского – дурное предзнаменование. Пробовал по методу доктора Фрейда «управлять сном», заставлял себя смотреть дальше, причем так, чтобы Володька остался жив. Но сон обязательно обрывается после этого отчаянного безмолвного крика «назад». Надо, надо пересмотреть, чтобы закончить благополучно, и – еще раз, с самого начала бег по Садовой… Он плотнее накрыл голову барашковым воротником английской зимней шинели. Тело затекло на жесткой лавке, но лучше не шевелиться пока, чтобы вернуться в сон, пересмотреть его заново, иначе. Как?! Володьку тогда убили. Кто-то из осаждавших Михайловский замок заметил кадета и выстрелил. В грудь, затем еще раз – в спину. Крамской повалился на руки бежавшим следом Артуру с Иннокентием. Медленно, цепляясь за плечи товарищей, сползал вниз. Артур подхватил и, сколько мог, держал его, наклонившись вперед и опускаясь на тротуар вместе с раненым. Поэтому, должно быть, лицо Крамского снится самым крупным планом, и если не отогнать наваждение, кровь из уголка рта опять капает на грудь Артура. Бурое пятнышко навсегда осталось отметиной на его кадетской шинели. Отчистить не было никакой возможности. Тетя Эмма так и сказала: unmöglich. На том закончилось участие Артура и его товарищей по выпускному классу в петроградском восстании. Они на руках несли Крамского четыре квартала. Долго стучали в дверь. Парадное закрыли еще накануне, поскольку в городе неспокойно, и отпуска, а также посещения кадетов родственниками отменяются. Точно так и прежде говорили: неспокойно в городе. Отмена отпусков и посещений длилась уже неделю. Все знали, что в Петрограде давно, с прошлой зимы «неспокойно», – так не сидеть же взаперти, в полной безвестности и в безопасности, будучи на старшем курсе, в строевой первой роте, с правом ношения личного оружия? И пусть право это временно отменили, сидеть взаперти теперь, они полагали, подло. Во всех классах, даже в младших, по рукам ходило воззвание Комитета спасения Родины и революции. Воззвание появилось в ночь на 26-е, сразу после учиненного большевиками переворота. Каким-то образом известия просачивались сквозь наглухо запертые парадные двери Александровского, Императора Александра II кадетского корпуса, или, как он теперь,
после Февральской революции, назывался, военной гимназии.
Затем известно стало, и не без попущения преподавателей училища, что Георгий Петрович Полковников, на днях только смещенный Временным правительством с должности командующего Петроградским военным округом из-за подозрения в связи с большевиками, – теперь уже снова командующий. Теперь он командующий армией Комитета спасения Родины и революции. И притом у него есть план восстания против захвативших власть большевиков. В ночь на 29 октября юнкера согласно этому плану вышли в город, сняли солдатские караулы, заняли телефонную станцию на Большой Морской, отключили от связи Смольный, начали разоружать формирования Красной гвардии. Отовсюду слышалась стрельба, на Итальянской кадеты видели из окон спален верхнего этажа броневик, летевший в сторону Невского. Жизнь в городе винтом закручивалась, революция входила в штопор, и только кадеты оставались отрезанными от всего происходящего досадным распоряжением воспитательского совета. Терпеть произвол или уйти в побег? Поставив такой вопрос, уже невозможно ответить на него так или этак. Группа товарищей по роте – им стало известно, что штаб восстания находится рядом, буквально на той же Садовой улице, в здании Николаевского инженерного училища, то есть в Инженерном замке, – ушла в побег. К тому времени Инженерный, или, как его называли эстетствующие, монархически настроенные петербуржцы, Михайловский замок, оказался уже окружен, и защищавшие его юнкера
отчаянно отстреливались. Невзначай получилось так, будто сбежавшие в самоволку кадеты зашли в тыл к осаждавшим, устроив некоторый переполох в рядах так называемой Красной гвардии. За ними поначалу даже кинулись в погоню. Оценив, однако, ничтожность без того отступавшего отряда, бросили затею и только постреляли вслед для острастки. Постреляли результативно. У парадного проливал кровь не только смертельно раненный Володька, но еще двое задетых слегка кадетов. Одного ранило в руку, другому – как раз Иннокентию – надвое раскроило пулей правое ухо. Никто из группы не струсил и не скрылся, что позволяло им гордиться собой и проверенной в бою кадетской дружбой. Володька умер в приемном покое, на руках у товарищей. Последнее, о чем он просил, – не говорить маменьке. К вечеру в лазарете военной гимназии набралось до десятка раненых кадетов: в побег ходили, как оказалось, несколько разрозненных групп учащихся, и кое-кто добрался до Владимирского военного училища, где под руководством кадровых офицеров бой повстанцев с большевистскими отрядами оказался наиболее кровопролитным. Рассказывали, что в результате артобстрела здание училища и близстоящие дома практически разрушены. Поверить в это казалось невозможным, но очевидцы утверждали. Кроме того, в лазарете скрывались два с лишним десятка юнкеров, пострадавших в уличных стычках. Среди них оказались тяжелораненые. К утру несколько человек умерли. На следующий день в городе говорили о расстрелах и стихийных расправах над пойманными юнкерами и офицерами. Раненых большевиствующие солдаты добивали на месте, других отводили к Петропавловской крепости и расстреливали, спуская трупы в Неву. Никто из александровцев в тот день корпуса не покидал. Посторонних внутрь не пускали. Забивали досками и столами окна первого этажа – готовились отражать натиск. Говорили о боях в Москве, где восстание вроде бы еще продолжалось, и неясным оставался его исход.