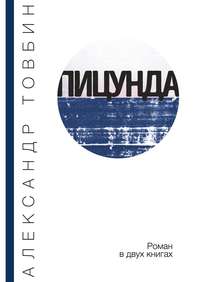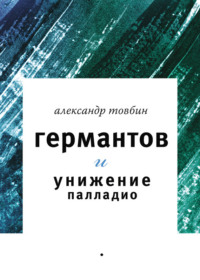Полная версия
Музыка в подтаявшем льду
– Или, быть может, Клара у Карла украла кораллы? – делился сомнениями дед.
– Нет же, нет! – попадался на крючок Соснин, – Клара у Карла украла кларнет. – Дед был доволен.
Соснин видел деда, слышал его голос, хотя дед лежал под землёй, под тоскливо шелестевшими тополями.
Звёздное небо, огни… Но вечерний курзал лишился флёра таинственности – те же тележки с газировкой, мороженое в будке, знакомая музыка… разве что оркестр в фанерной раковине предпочёл маршевому дунаевскому энтузиазму глен-миллеровскую бодрость.
Взрывался дежурной овацией летний театр, раскланивались актёры… свыкался с ролью кумира Фима, по пьесе – американский прогрессивный журналист и герой-любовник. Сквозь деревянные, с решёточкой крест-накрест, воротца, выкрашенные салатной масляной краской, Соснин замечал среди исполнителей на сцене и тех актёров, которые гостили на вилле, когда Флакс всем обещал отраду; это были школьные шефы, раз в год выступавшие в актовом зале с традиционным концертом, в подготовке концерта обычно бурное участие принимала мать, она вела культурный сектор в родительском комитете; Соснин отскакивал от ворот, чтобы не встречаться с Соркиным.
Если всё не так, если всё иначе, если сердце… – Соснин кидался к открытому кинотеатру, к укромному убежищу в кустах, у старого ясеня, откуда под углом виднелась изнанка экрана… Луч прошивал мельтешившее изображение насквозь, пронзал застывшего в кустах Соснина, а в зрителей, рассевшихся в амфитеатре за небрежно выбелённой известью ступенчатой стенкой, свет бил с лицевой стороны экрана; на них, купивших билеты зрителей, изливались те же кинотомления… О, вечерний курзал неожиданно открывался с другой стороны! Взволнованный Соснин наново ввязывался в чудесную перекличку разделённых годами образов – память своевольно затепливала мятый экранчик над дощатой эстрадою промёрзлого клуба, укрупнялись планы: совсем рядом светились чёрно-белые лица богинь, ясные и лучистые глаза, засмотревшиеся тогда на него, в него… и эти же, эти же влажные влюблённые глаза, волшебно вывернувшись, узнавали его, подросшего, обнадёживающе разглядывали теперь с изнанки большого экрана, и будто бы не громкое пение рвалось из динамиков, а жгучий, к нему одному обращённый шёпот… чьи глаза, чьи? – Серовой, Орловой или Смирновой? – сколько воспоминаний о фильмах и самих фильмов смешивалось в обращённой к нему одному, мучительно-сладострастной игре взглядов, белозубых улыбок; и ни словечка, чтобы утешить, только б разволновать… Лихорадило… над головой, в прорехах узорчатой кроны, мерцали звёзды. Сердце в груди бьётся, как птица, – притихла листва, затаило усталое дыхание море – и хочется знать, что ждёт впереди, и хочется… Внезапно чувственная тревога, переполнявшая, прошибавшая дрожью, лишала ориентации, земля выскальзывала из-под подошв, он прижимался к стволу ясеня, чтобы устоять, ощутить поблизости что-то прочное, твёрдое… и хочется счастья добиться – неслось на весь курзал из динамиков… Но обычный ежевечерний киносеанс подбрасывал логическую задачку – как, как могли смотреть на него, прижавшегося к спасительному стволу, те же глаза, которые смотрели на зрителей, сидевших на дуговых скамьях амфитеатра?! Чудотворной, преобразующей и раздваивающей взгляд мембраной становился морщинистый у углов, линялый экран? Изображение обретало волнующую двуликость, вместо изнанки обнаруживалось вдруг второе лицо… Почему – Соснин задыхался – богиням, оживавшим на проницаемой для напористого света тряпичной поверхности, дозволялось одновременно смотреть в противоположные стороны?
изгнаниеизрая
Сезон сворачивался, но рай добровольно не покидали – мать могла выжить с виллы только вконец испортившаяся погода.
Так хотелось ей продлить лето! Но курзал к исходу сентября пустел, заколоченные киоски навевали тоску, холодало, а ветер, окатывая пряностями цветочного увядания, даже в солнечные дни угрожал ненастьем.
Одевался потеплее, бродил в скользящих тенях облаков.
А-а-а, мазила! Старился, тратил год за годом на пирамидальные тополя, море, гору. Острые запахи свежего масляного холста и палитры на безлюдной набережной… Соснин, кое-что успевший узнать о живописи, удивлялся: пастозные, вполне импрессионистские мазки порождали мёртвое передвижничество.
В скоротечных приступах ясности прорывались наслоения эфемерной ваты, солнце весело, пятнисто поджигало море, над прощальным его сверканием гора, накрытая далёкой тенью, придвигалась резким ультрамариновым силуэтом, грубо посягала на почётное место в зимних воспоминаниях. Распад осенней красочности делался нестерпимым, органы чувств истязала ежегодная болезнь природы. Сквозили лазурью ветви. Со стуком раскалывались об асфальт колючие бледно-зелёные шары, выкатывались отглянцованные коричневые каштаны… вздрагивали, потеряв плод, окаймлённые охрой листья. И обкладывали небо низкие тучи, закипал шторм, валкую на пенных ухабах лодку с мокрым гребцом и грузом оранжевых буйков, обречённых ждать взаперти лучших времён в конуре у забора, внезапно выносило через зализанный пляж к стойкам навеса, разбухшие лохмотья на нём просеивали воду…
По комнатам виллы гулял рокот волн, лупил дождь террасу. Оставалось считать дни до отъезда, тупо уставившись в окно на облетающий сад.
издосужихнаблюденийзаповедениемкапель
Капля за каплей, ударяясь о террасу, разлетались в пыль, водяное облачко пробивали другие капли, образовывались озёрца меж неровностями каменного мощения, растекавшиеся озёрца шрапнелью расстреливал густой дождь. А капли, которые медленно соскальзывали по стеклу, отливали ртутью, вырастали и срывались, расталкивали новые капли, поменьше, и, оставляя блестящий след, скатывались, как слёзы.
Срывалась капля, ещё одна, ещё.
узаплаканногоокна(совсем немного о Бухтине-школьнике)
Возможно, не умел долго сопереживать ежегодному природному умиранию, возможно попросту не терпелось уехать, чтобы поскорее встретиться с Валеркой Бухтиным-Гаковским, для краткости – Бухтиным, соседом по парте. Пока Соснин загорал, плавал, жевал абрикосы, на Валерку сваливалась уйма невероятных приключений, он в такие ввязывался истории… Вынужденные осенние томления усугубляли ненасытное любопытство: провожая стекавшие по стеклу капли, Соснин пытался придумывать нечто сравнимое с приключениями приятеля, чтобы пересказывать их затем себе самому его вдохновенным фальцетом. Увы, ничего сколько-нибудь оригинального и достойного Валеркиного дара придумать не мог, слепо подражать не хотел.
Вообще-то восхищение достоинствами других не оседало в душе Соснина отравляющей разум горечью. Но как не позавидовать феноменальной памяти и чертовской фантазии Бухтина? Ко всему Валерка был умён, любвеобилен, удачлив, в нём билась авантюрная жилка.
Завибрировал серебристый голосок… «Весеннюю песенку» исполнила Изабелла Юрьева, – объявил диктор. У рояля Симон Каган, – дополнила мать.
За скоплениями капель поблескивали тёмные ветки, побитая дождём листва сада. Гудело море, задёрнутое серой завесой.
Возврата нет, пора забыть мечты… – запел Аркадий Погодин. Аккомпанирует, – машинально шептала мать, – Сашенька Цфасман.
О, Валерка впервые напоил Илюшу портвейном «Три семёрки»! Он курил, не скрывал, что посещал танцы в Мраморном зале, где играл джаз-оркестр Минха, покорявшего и музыкальностью, и строгой морской выправкой… первым в классе Валерка натянул брюки-дудочки, но это потом, потом… справедливости ради стоит, впрочем, заметить, что и в младших классах его отличала смелость суждений, он, к примеру, окрестил мурой «Зелёные цепочки», хотя книжкою зачитывался весь класс.
Эта смелая независимость столько раз – и так ярко! – вспыхивала в рассказах, которые скрашивали школьные годы!
И позже ничуть Соснин не разочаровывался в разнообразных Валеркиных способностях и уж тем более не испытывал злорадного чувства, хотя всё ясней понимал со временем, что приключения фальсифицировались фантазией, а словесные феерии друга питались духовными сюжетами и цветистыми подробностями, добытыми в чужих сочинениях, что сам Валерка становился ходячей библиотекой подражательно-оригинальных романов, в коих всякий раз наново переигрывал, подчиняясь причудам собственной режиссуры, не только главную, но и второстепенные роли. В культуре значим не факт заимствований, не ч т о почерпнул – вспоминая давние подкалывания Шанского, всякий раз заразительно смеялся Валерка, когда они годы спустя встречались, и Соснин шутливо предъявлял ему, вдохновенному, отъявленному плагиатору, очередной счёт – значимо к а к…
Но это – к слову, до тех встреч ещё далеко.
Валерка был круглым отличником, хотя школьную программу презирал, его распирали самостоятельно усвоенные книжные знания, благо пользовался богатым многотомным собранием умершего – точнее, погибшего во внутренней тюрьме Большого Дома – отца, теоретика формализма, многоязыкого корифея литературоведения, которым с нараставшим почтением гордилась отечественная словесность; этому немало способствовали усилия матери Валерки, улыбчивой и обходительной, увядавшей в культурных хлопотах дамы, до конца своих дней не расстававшейся с идеей открыть в кабинете покойного мужа-гения мемориальный музей.
Помимо научных и художественных томов, предоставлявших неиссякаемый материал для фантазий и заполнявших загадочным блеском тиснений коридоры и комнаты просторной квартиры, Валерка, похоже, унаследовал у отца способности к языкам – в школьные годы свободно болтал на трёх, затем добавил итальянский с испанским.
А как шла ему громкая и длинная – двойная – фамилия!
– Валерий Бухтин-Гаковский…
Нет, не всегда природа отдыхала на детях гениальных родителей, не всегда – над Валеркой ещё как потрудилась!
Когда его вызывали, класс замирал в ожидании спектакля, Валерка, потехи ради, сообщал учителям то, о чём они понятия не имели, но кивали, не решаясь прервать, тем более срезать. Итак, вызывали, он громко откидывал крышку парты, вскакивал и, формально ответив, пускался в слабо привязанные к теме урока отвлечения, переслоенные тайными и явными цитатами из великих, говорил гладко, певуче, без запинок, будто читал с «выражением» монолог, по-актёрски откинув назад красивую голову с буйными, слегка вьющимися, светлыми, мягкими волосами; а брови у Валерки были тёмные, сросшиеся на переносице, и – щелевидные ярко голубые глаза, и – словно высеченные из монолита крупный и острый нос, губы, подбородок, контрастирующие резкостью линий с нежной округлостью девичьих, тронутых румянцем возбуждения щёк.
От изучения иностранного языка Валерка вообще был освобождён.
Прижавшись лбом к стеклу, по которому катились капли, Илюша сквозь мокрый продрогший сад отчётливо видел класс, не желавший вникать в каверзы немецкой грамматики, завистливо следивший за тем, как Валерка, допущенный в компанию прогульщиков-старшеклассников, гонял по школьному двору мяч.
Среди игроков выделялся…
Герка-музыкант,навсеруки и ногимастер
У каменного забора, не замечая кучи угля, носились по бурой, затоптанной траве… Верзила Герка терзал защиту – мягко, как маленький Дементьев, обматывал и по-Бутусовски, пушечным ударом поражал помеченные кирпичами ворота.
И ещё Герке принадлежал рекорд в маялке.
Руки-крюки, ножищи-скороходы… Башка большущая, карикатурно преувеличенная; он был носатый, губастый, глазастый, с мощными выпуклыми надбровьями, накрытыми густой шевелюрой жёстких конских волос; ему как музыкальному дарованию, выступающему с ученическим оркестром в зале консерватории, даже разрешали не стричь волосы до назначенной завучем Свидерским длины; правда, Свидерский сделал исключение для Герки лишь после того, как тот принёс специальное, заверенное музыкальным начальством, прошение.
Так вот, Герка, умелый футболист, музыкант, был ещё и непревзойдённым маэстро маялки.
Неестественно вывернутая ступня великана ритмично вздёргивалась: триста двадцать два, триста двадцать три… четыреста… – хором считали обступившие чудодея, даже физрук Веняков, всегда чем-то озабоченный, проходя мимо, остановился, посмотрел с интересом. А клочок меха с пришитой свинцовой пломбой взлетал и падал, взлетал и падал на вогнутость огромного ботинка чуть выше ранта. Побив очередной раз собственный рекорд, возбуждённый, Герка этаким одновременно поощрительным и небрежно-обидным жестом вечного победителя – мол, учись, малявка, у старших, дерзай! – дёрнул за козырёк, надвинул на глаза кепку неосторожно высунувшемуся в первый ряд…
Обидно, потому и запомнилось – под небрежно-победительную Геркину руку подвернулся, как не трудно догадаться, Соснин.
Драчун, крикун… лихой, будто Тарзан. Заводила или – сказали бы теперь – лидер. Ввёл моду в мороз, снег красоваться с непокрытой головой на улице, может быть, густейшая шевелюра грела? Первым к ужасу завуча Свидерского сплясал буги-вуги.
Однако Герка не числился в возмутителях школьного спокойствия, тем паче – в злостных хулиганах, отнюдь.
Он сносно учился, увлечённо командовал самодеятельностью и – совсем удивительно при его буйном нраве – всерьёз занимался музыкой. Впоследствии он как исполнитель отдал предпочтение органу и клавесину, но прославился Герасим Григорьевич Готберг за филармоническим дирижёрским пультом… Хотя в начале пути, будучи ещё Геркой, он бравировал музыкальной всеядностью, управлялся играючи с любым инструментом, даже пробовал себя в джазе, однажды на школьном вечере, опять-таки к ужасу Свидерского, солировал на саксофоне, притопывая и раздувая щёки так, что от натуги из орбит выскакивали глаза. Немаловажно, наверное, что чуть ли не с пелёнок играл – был из музыкальной семьи, отец, скрипач-виртуоз, которого прочили в соперники Ойстраху, рано умер, мать, тоже музыкантша, аккомпаниаторша, уважительней – концертмейстер… «партия фортепиано», мелким шрифтом именовали её амплуа афиши – вышла повторно замуж за танцовщика мариинского или – кому как нравится – кировского балета.
Соснин частенько видел Герку после уроков на Загородном – с мотавшейся туда-сюда нотной папкой он догонял по мокрой скользкой брусчатке трамвай, мог и на колбасу вскочить, если на подножках висели.
однажды,врастрёпанных чувствах,набегу(злая улица, сценическое пространство между злыми дворами)
Соснин выбежал на Большую Московскую, на её булыжную мостовую, к магическому, как доисторический культовый очаг, кругу чёрных, чуть наклонённых к центру чугунных тюбингов – похожие круги, правда, каменные, Соснин увидел потом в учебнике; круг тюбингов оставался от довоенной шахты метро, близ него разыгрывались драматичные баталии и поединки, удаль бойцов оценивалась из окон женской трёхсотой школы… Вовка, переболевший желтухой, был отталкивающе-страшен – жёлто-сизые опухшие щёки, пожелтелые белки глаз. Брызнули капельками свинца зрачки, когда во дворе ещё он нырнул кулаком под локоть, подло выбил из рук Соснина новенький волейбольный мяч, теперь же, красуясь на улице, с издевательски-похабными повадками и свистом, он ударом стоптанного чёрного ботинка с широкими коричневыми шнурками перепасовал мяч сообщникам и… разбойная ватага, только что приплясывавшая, картаво выкрикивавшая-выпевавшая кто в лес, кто по дрова – стар-р-рушка-не-спеша-дор-рожку-пер-р-решла… кинулась с добычей к подворотне у крохотной булочной, где покупали сласти ученицы трёхсотой школы, чтобы выбежать проходными дворами на Загородный. Когда Соснин, бессильно глотая слёзы, выбежал следом за ними, они уже, скалясь и корча рожи, висели на подножках уносившего их к Владимирской площади трамвая, а на колбасе ехал, зажав под мышкой нотную папку, Герка.
сшибкидвухкоролей
Герка был не только музыкантом, футболистом, не только королём маялки, благодаря меткости и огромной пятерне он легко обыгрывал всех в пристенок, раз за разом сгребал с земли, сверкая выпученными карими глазищами, мелочь… Хотя не всех, не всех обыгрывал, вот к бренчавшим монетками у школьного забора азартным стяжателям неторопливо, вразвалочку, приближался Олег Доброчестнов, поправлял флотский ремень, запускал пухлую ручищу в карман, делал ставку и…
короткоепрояснение
Из-под тучи выглядывало переспелое солнце, Соснин пускался вдогонку… – солнце лопалось; приплюснутое, зарывалось огненным краем в тёмное море.
С отливом волны мокрый, зализанный до зеркального блеска песок миг какой-то отсвечивал алым пламенем, и – торопливо впитывал воду, тускнел.
Но тут ударяла волна, извилисто растекалась…
Утром снова лил дождь.
Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная! – звенели по радио, когда подходил к окну, детские голоса.
капля за каплей(с чего начинались поиски утраченного пространства)
Перелетал из дождливого Крыма в сияющую, ясную даль.
Торосы на Неве со слюдяными, словно у горных пиков, заострёнными гранями, снежные крепости с укромными укрытиями в синих тенях… Белая пушистая полоса поверх седой стенки набережной, над ней чернел Летний сад.
Но искрящую белизну, чёрные стволы, ветви смывала капля, он окунался в яркую студёную солнечность… по Неве пробегала знобящая рябь, за спиной, за гранитным закруглением мыса еле слышно шелестели высаженные по дуге молодые липы. Соснин бродил по колено в ледяной воде, всматривался в ржавое дно с жёлтыми кляксовидными бликами, искал медные патронные гильзы, из которых школьные умельцы умудрялись мастерить зажигалки, порой взблескивала монетка; невыносимо сковывал холод, вынуждал подниматься по скользким, обманчиво тёплым ступеням, поросшим подвижной тиной – вода над следующей ступенью была чуть теплей, чем над предыдущей.
Текли, растекались, тихо плыли, смешиваясь и зашлифовываясь небом, серебро, золото, платина… и переплавлялись солнцем в благородные металлы олово, сталь, свинец.
Тихо, как тихо…
И – всплеск, и опять тишина.
Широкий разрыв в парапетах дуговых пандусов, ступени, уходящие в воду… Между ним и Невой не оставалось преград. Прислонялся к разогретому гранитному кубу с шаром, теряя голову, растворялся в назначенном им центром мироздания колдовском пространстве, в обрамлённом крепостными стенами и дворцами воздушно-водном просторе, загадочно-прекрасном, подспудно изводившем его. Смутно и… радостно ощущал он добровольное растворение! В глаза вливалось что-то восхитительное, огромное, но всё чего-то Соснину не хватало. Чего же? Пока сидел под шаром, жадно смотрел, не было и малейших поползновений понять… – летели и рвались облака, играли краски, оттенки, всё таинственнее делалось то, что день за днём видел, вбирал в себя. И хотя какие-то тонкие связи с этим, подсказывала интуиция, главным не только для него, для всего города пространством, утрачивались по мере взросления, волнующая слитность с ним постоянно оживала в воспоминаниях, обогащала новые впечатления, тем более, что слитность ощущалась даже тогда, когда будто бы восставал, бросал вызов и – одолевал вплавь блещущий широкий поток, такой сильный и своенравный поток, такой мускулистый! Стартовал с булыжно-травяной округлости пляжа у Петропавловской крепости, из-под тенистых деревьев. С отчаянным упоением рассекал грудью и плечами Неву, захлёстывавшую ледяным серебром дворцы; изначально целил в Адмиралтейство, точнее – в узкий просвет между куполом Исаакия и шпилем Адмиралтейства: плыл почти поперёк, а не наискосок реки, чтобы использовать стихийную мощь течения… И течение выносило! Касался едва ль не за миг до предсмертной судороги телесно-тёплых скользких ступеней, разогретого гранита, и укрощённая Нева уже не захлёстывала барочный бело-зелёный дворец, когда-то так его поразивший, лишь неудержимо неслась распластанным блеском на Соснина, обтекала. И он, обессилевший временный победитель, пошатываясь, вставал во весь рост, возвышался над этим великолепием, но неизменно не по себе делалось от напористого волнистого блеска, выжидавшего момент слизнуть, поглотить.
А одежду ему доставлял Толька Шанский, бежал с его ботинками, штанами через Биржевой мост – Толька плавал неважно, на такой заплыв не решался.
всётечёт,включаябеспомощныесужденияосвойствахтайны
Что же утрачивалось с годами в связях с ослепительной и непреложной, взятой в камень текучестью?
Ветер сорвал листок с липы.
Листок – пронзительно-яркий на просвет! – вылетел из-за спины Соснина, беззвучно упал на воду, зелёное сердечко заколебалось в зыбучем блеске.
А поодаль – колебались светлые полосы, слабые пологие волны словно не к нему катили, от него.
Пространство было реальным и осязаемым – несомненно! Где ещё сковывал Соснина такой холод? А скользкие и тёплые ступени с подвижными песчинками, ошмётками тины, которые лениво теребило ослабленное течение? Не их ли касались его чувствительные ступни?… И затенённый фронт дворцов с вылепленными солнцем крышами, печными трубами, меж которыми плутал чёрный ангел с крестом, и плывучие нагромождения облаков, вдавливающие в воду фасады, и золото шпиля – вот они. Но не верилось, что всё это – есть, подозревал, что это ему привиделось, что чувства испытывает прекрасная эфемерность, чьё-то вдохновенное жульничество. Боялся закрыть глаза: вдруг откроет – а видение исчезло.
Он присвоил его с первого взгляда.
И не желал с синкретичным волшебством расставаться… эгоистично вертел головой по сторонам, боясь упустить хоть одну из неуловимо-мелких подробностей, чувствовал, без них будет навсегда отрезана возможность восстановить в цельности то, что видел и испытал. Сонм оттенков, всплесков, дуновений… пространственная абстракция сомневалась в реальности твёрдого, жидкого и газообразного состояний мира. С бесплотным белым катером поигрывали бледные, отсвечивавшие небом, волны; гранитные изломы крепости колебались, размывались водным мерцанием.
Но Соснин обсыхал, одевался. И отправлялся на уроки определённости: затеснённые ли, вольные благодаря раздолью Невы пространства, обступавшие его, уже воспринимались им фрагментарно, он, понятия не имевший о выстраивании отношений между частями внутри причудливо-сложной цельности, об осевых направлениях, остолбенел, когда наткнулся на жёлто-белую башню Адмиралтейства, которую до того видел лишь с Невского или набережных, в перспективе Гороховой… любая прогулка обещала сюрпризы, превращалась в приключение… Сквозь необозримый, склеенный из разнообразных видимых частиц лабиринт вёл инстинкт ориентации, но по мере взросления интуиция уступала знанию, вслед за ослаблением уз интуитивного приобщения, мерк и образ города как отпечатка тайны – непостижимо-чёткого земного отпечатка смутного небесного прототипа. В сознании деловито поселялся план, приходила обыденная привычка посматривать на город со стороны, извне; упрямые факты убеждали в рукотворности тайны, эмоционально отчуждались пространства, формы, к коим, как верилось, от рождения, – и, само собой, навечно, – принадлежал. Неужто тайну, понуждавшую замирать сердце, просто-напросто сотворили из комбинаций карандашных штрихов, камней – нарисовали нечто захватывающее дух, затем, сверяясь с рисунком, «нечто» построили? Всемогущий бог-художник прочертил линии набережных, крепостных стен, склеил панораму дворцов? А если творящих богов много, то кто из них – самый главный? – сшил воедино разные рисунки и чертежи? Соснина точили отроческие сомнения… усложнялись связи с таинственною средой, с дрожью вспоминался обжигавший изнутри трамвайный восторг спонтанного, ещё слепого видения; впрочем, восторг тот тлел и много позднее в спорах и рассуждениях о природе невского феномена, тлел даже в рациональных и отстраняющих аналитических операциях.
Что же до инстинкта ориентации, которому вплоть до ломки переходного возраста подчинялись восторженные блуждания, то инстинкт тот, наверное, пробудило путешествие на плоту по Мойке… Невский простор поневоле наделял созерцателя внешним, обобщающим взглядом. По Мойке, узкому водному сосуду, удавалось проникнуть вглубь городского тела: из наплыва осколочных впечатлений складывалась, тут же рассыпалась, чтобы складываться заново, редкого богатства мозаика.
Или, может быть, не мозаика, калейдоскоп?
жара,тополиныйпух
Летел, летел тополиный пух, садился на воду, плыл… Гудела голова, чесались мокрые ноздри, глаза.
играсводойнапутиотМихайловскогосадакНовой Голландии(сон вперёдсмотрящего)
В маслянисто-бурую Мойку шумно шлёпнулся тяжеленный – еле дотащили – дощатый щит забора, брошенный реставраторами у павильона Росси, Валерка закатал штаны, оттолкнулся шестом от берега, от охристых колебаний пилонов, арок и – заскользили, опьянённые отвагой… заскользили по закипавшей там, сям листве Михайловского сада, прослоенной расчёсанными течением длинными прядями донных растений, облаками, зияниями лазури… над травяным откосом, за стволами низкорослых лип мелькнул дом Адамини; почему таким волнующе-знакомым и таким непохожим на туристские открытки и альбомные фото было подсмотренное с плота великолепие?
Наперерез, подныривая под плот колёсами, корчась, корёжась, летел трамвай. Проскользнули поверх опрокинутого вагона, смятого рябью в бесформенный, исчезающе-быстрый красный мазок, который прощально глухо громыхнул над головами во внезапной густой ночи. И снова засиял день, заколебались, изгибаясь, колонны… Валерка не доставал дна шестом, Антошка Бызов загребал доской, взламывал фасады, вгрызался в портики. Лоцман-Шанский командовал – правее, левее; Шанский и Соснину чёткую задачу поставил, ты – сказал – будешь вперёдсмотрящим.