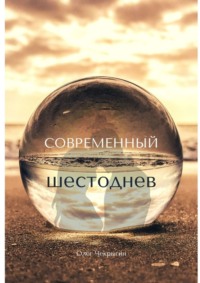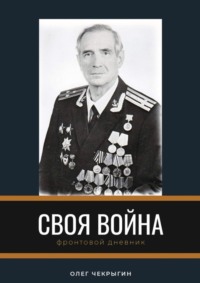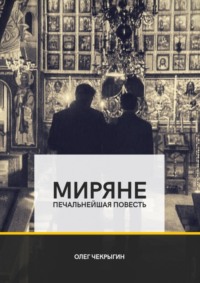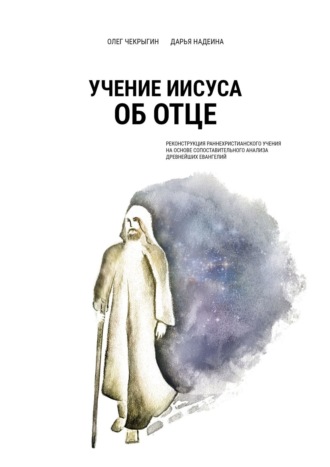
Полная версия
Учение Иисуса об Отце. Реконструкция раннехристианского учения на основе сопоставительного анализа древнейших евангелий
Итак, у нас есть три источника чаемого нами хрЕстианства: Ев. Фомы, Иоанна и Маркиона, как наиболее достоверные. Вглядимся в них – что они из себя представляют?
Ев. Фомы, по-видимому, наиболее древнее из трех, представлено в виде своего рода общей беседы Иисуса с учениками – такова избранная евангелистом (или евангелистами) форма. При этом обращает на себя внимание то, что изначально евангелие было написано на греческом и впоследствии переведено на саидский диалект коптского языка, который сам является неким диалектом греческого – что-то вроде суржика. То есть, писалось все это точно не апостолами, неграмотными галилейскими рыбаками из забытой Богом окраинной провинции Римской империи, говорившими (и вряд ли писавшими) на арамейском. При этом, если отбросить натужные поиски глубинных тайных смыслов, связующих этот набор речений и диалогов якобы тайным смысловым подтекстом и отнестись к чтению непредвзято, просто как к тексту, то у современного читателя – у меня – возникает стойкое ощущение достаточно хаотичного смешения отдельных, никак не связанных между собой речений, фраз, замечаний, мыслей и случайных диалогов обо всем и ни о чем – это вовсе не беседа, а набранная с бору по сосенке, где придется, куча всяких обрывков воспоминаний об Иисусе отнюдь не из первых рук. Этот текст ну никак не выглядит каким-либо стройным учением, в нем отсутствует не только внутренняя связность, не только единая композиция смысла, но и сами логии зачастую смотрятся набором случайных, не связанных друг с другом фраз: в огороде бузина, в киеве дядька.
Я лично думаю и полагаю, что это именно необработанная редактурой запись случайно набранных, что удалось найти, свидетельских воспоминаний, тех самых устных «логий Иисуса» о том, что слышали рассказчики или от Самого Иисуса или, скорее, от кого-то из учеников, а то и учеников учеников об Иисусе – то есть настолько искаженная информация, что извлечь из нее стройное и последовательное Учение все равно, что построить современный дорогой кабриолет с помощью ветра, дунувшего с автомобильной свалки.
Проще говоря, это набранная с миру по нитке разноголосица народной мудрости, записанная (на греческом) отнюдь – к сожалению – не свидетелем Иисуса, и даже не со слов Его живых свидетелей, но лишь приписанная Иисусу народной молвой. И, возможно, в ней найдутся отголоски Учения Иисуса, как зерна среди шелухи обмолота, которую придется еще провеять на ветру здравого смысла, чтобы собрать чистый урожай. Задача не простая. И усложняется еще и тем, что изначальные слушатели, ученики Иисуса, были людьми невежественными, неграмотными и малоразвитыми, принадлежавшими к низам трудового народа, а отнюдь не к верхам интеллектуальной элиты. И потому понятийный аппарат, которым они располагали, отнюдь не был достаточным для того, чтобы вместить радикально новое Учение Иисуса о Неведомом Боге, Вечной Жизни и богоподобной бессмертной участи Человека Разумного. Именно этим, я считаю, объясняется обилие того, что можно классифицировать как загадки, разгадка которых должна привести читателя к спасительному гностическому тайнознанию, о котором, как толкуют гностики, сказано в прологе ев. Фомы: «нашедший истолкование этих слов не вкусит смерти». Не думаю, что Иисус ставил своей задачей загадывать своим ученикам неразрешимые загадки без разгадок, чтобы специально запутать и помучить, или таким образом потренировать их в толковании его загадок – видимо, просто они не могли вместить то, что Он пытался сказать им, используя аналогии, которые, как Он надеялся, будут им более понятны, чем высокоинтеллектуальные философские рассуждения.
Кроме того, еще и наслоения как иудейской, так и эллинской мудрости вперемешку с мудростью гностической добавляют задачу отделения зерен Учения Самого Иисуса от плевел чужих и чуждых Ему учений, приписанных Ему ради использования Его авторитета.
И еще одно замечание. При жизни Иисус не счел нужным посвящать учеников не только в тайны небесные, но даже в то, как мир на самом деле устроен. Однако, как утверждают гностики, явившись им Воскресшим, вдруг почему-то подробно рассказал в гностических текстах библиотеки Наг-Хаммади23 о небесном устройстве и войне богов, забыв, однако, рассказать хотя бы о том, что земля круглая и вращается в пустоте вокруг солнца. Я лично считаю гностическую премудрость, натужно навязанную Иисусу в гностических текстах подлогом не менее бесстыдным, чем иудаизирующая фальсификация синоптических евангелий, осуществленная новорожденной церковной ортодоксией на рубеже 2—3 веков. Так что чем загадочнее логии Иисуса в ев. Фомы – тем меньше веры им, как свидетельству живого голоса Иисуса. Из этого и будем исходить в нашем отборе. Из сказанного выше становится очевидным, что набранное из этого древнего евангелия можно использовать лишь как дополнение к чему-то более основательному и похожему на единое стройное логическое построение, имеющее хоть какое-то подобие учения как такового.
Такой основой, думаю, вполне может служить ев. Иоанна, представляющее собой, безусловно, более позднюю попытку объединения разрозненных воспоминаний о связанных с Иисусом событиях, дискуссиях, речениях, высказанных Им мыслях по поводу и без, объединенное общей продуманной философско-религиозной системой, на которую будучи нанизано в определенном порядке, оно превратилось в некое повествование, претендующее на историю развития Учения Иисуса, как процесса его восприятия и познания Учениками от Учителя – для того, чтобы впоследствии им самим стать его благовестниками. Такая система взглядов, безусловно, создавалась и культивировалась не один год в кругу ближайших учеников Иисуса и собравшихся вокруг них уже их учеников и последователей. Евангелие это, видимо, является трудом целого коллектива авторов, у которого, впрочем – возможно – был единый и единственный руководитель и вдохновитель, имя которого и было присвоено евангелию его имени, «от Иоанна» – или, возможно, кто-то другой, ставший Учителем апостолов после Иисуса. Есть, однако, надежда, что этим Иоанном и был любимый ученик Иисуса, Иоанн Богослов, молодой человек, запомнивший множество живых фактов и реальных событий, которые нашли свое отражение в евангелии его имени. Но есть и иная версия, ее мы рассмотрим в процессе исследования евангелия Иоанна.
Наконец, евангелие Маркиона является, скорее всего, искусственным конструктом повествования об истории проповеди Иисуса во имя объединения собранных автором сведений об Иисусе самой разной достоверности в единое целое последовательного учения Благой Вести хотя бы с помощью хронологической последовательности событий, в которую вписаны речения Иисуса. К тому же, поместив высказывания Иисуса в событийный контекст, автор стремился облегчить понимание читателями сложных, зачастую весьма абстрактных идей и философских построений Иисуса с помощью примеров из привычных житейских обстоятельств. Так что вряд ли можно всерьез воспринимать фантазийный событийный антураж этого довольно позднего в сравнении с двумя предыдущими источника, как реально происходившие события – особенно, если в двух предшествующих источниках упоминание о чем-либо подобном просто отсутствует.
В качестве сравнительного примера можно привести призвание учеников в ев. Иоанна и Маркиона. У Маркиона (2,1—11;3,13—16) (и списавших у него синоптиков, Лк5,7…) призвание учеников описано как единоразовое явление очень схематичное, реальность происходящего весьма условна. Примерно так: Иисус проповедовал, народ теснил его, он вошел в отплывшую от берега лодку и продолжал проповедь, пока не закончил. В знак благодарности велел закинуть сеть и наградил лодочников невиданным уловом – чудо! Далее молвил; идите за мной я сделаю вас ловцами человеков – и они, бросив все, последовали за ним, куда – неизвестно. Все это весьма отдает нарочитой назидательностью во-первых, а во-вторых отсутствием жизненности, стасисом, скульптурностью застывшей в мраморе сцены.
Иное описание дается «Иоанном» (Ин.1,36—51): двое из учеников Иоанна видят проходящего мимо Иисуса, на которого Иоанн Креститель указывает им как на «агнца Божия», они, заинтересованные, идут за ним, он приглашает их в гости, они проводят целый день в беседе с ним, потом, уже вечером, приводят к Нему Петра, затем, утром, Филиппа, Филипп зовет Нафанаила… – целая череда живых и очень жизненных событий. Которая приводит к образованию ближнего круга учеников, собравшихся вокруг Иисуса. Не чудесным сверхъестественным призванием – но своей волей они избрали Его сами себе в Учителя, будучи убеждены Его словами в разговоре с Ним. Он смог их не подчинить страшными чудесами, но убедить своими словами, оставив при этом выбор за ними, на их свободную волю. Не так ли должен поступать Сын Божий Отца Небесного со своими не презренными рабами, но возлюбленными братьями по человечеству?
Эта весьма правдивая жизненная сцена совсем не похожа на холодный мрамор застывшей сцены призвания учеников приведшим в ужас Петра страшным чудом лова рыб, ими пойманных.
Так что наш выбор достоверности событий оставляется за Иоанном, ему первое слово в нашем будущем повествовании.
Таким образом, подводя итоги всего вышесказанного, остается лишь сделать вывод о том, что иудаизм и гностицизм первых последователей Иисуса на пару завели Его Учение в дебри хрИстианства в его современном изводе, являющегося маргинальным направлением мессианства в иудаизме, и по сути прозелитической сектой иудаизма-лайт для неевреев, в виде продвигаемой иудаизмом на основе общности «авраамических» религий новой общечеловеческой религии ноахизма – христианства без Сына Божия, признать божественность которого иудеи не в силах.
Однако, своей задачей я вижу и ставлю лично для себя – извлечь из имеющихся источников, и, после глубокого анализа на достоверность их содержимого, очистить, и представить в явном виде то Учение Иисуса, которое Он в течение трех лет своей проповеди благовестил доступной для него части человечества. И доказать, что Его хрЕстианство (от слова ХрЕстос – Благой Господь) не имеет ничего общего ни с иудаизмом, ни с авраамизмом, ни с гностицизмом, ни даже с нынешним христианством, ни вообще с какими бы то ни было религиями, до сих пор бытующими в человечестве, как – все без исключения – проявлениями древнего суеверного язычества.
Речь не идет о написании нового евангелия – провальные попытки этого уже бывали в истории неоднократно, и ни разу не были приняты Народом Божиим, или исчезнув бесследно, канув в Лету, или заняв свое место в череде апокрифов, которым нет веры. Речь, скорее, как я уже сказал, об очищении текстов от иудаизирующих вставок и политически целесообразной конкретному историческому моменту умышленной редактуры, бестрепетно вложившей в уста Иисуса и приписавшей Ему то, чего Он никогда не говорил и не делал по причине своей полной антагонистичности еврейской религии и ее «богу», которого Он прямо называл дьяволом, человекоубийцей «от начала»24. Такие попытки объединения евангельского учения в единый текст предпринимались и ранее, в том числе – и в глубокой древности. Одной из первых является «Диатессарон» («διа τεσσ ρων», досл. «через четыре») Татиана25, подлинный текст которого не дошел до наших дней. Это произведение, созданное, видимо, в конце II-го века, пользовалось большим авторитетом в сирийской церкви на протяжении нескольких столетий. В нем Татиан соединил в одном повествовании все канонические евангелия. Так что, поскольку текст этот не был отвержен церковью и бытовал в ней наряду с каноническими евангелиями на протяжении нескольких первых веков, пока не исчез в пучинах времени, то и сама попытка подобного деяния не является предосудительной, и допустима, как не осужденная соборным сознанием Церкви. Целью данной работы является аналогичная попытка составить учение Иисуса на основе глубокого анализа источников и сопоставления тех элементов, которые имеют шансы на достоверность.
Критерии
Прежде чем перейти непосредственно к самому процессу компиляции единого текста, необходимо выбрать те инструменты и критерии отбора, которые помогут нам освободить Иисуса из кучи напластований священного мусора наподобие того, как Микеланджело, видя своего Давида в глыбе мрамора, освобождал его из нее с помощью молотка и зубила – только нам в качестве инструментов понадобятся метла, швабра, и мусорное ведро.
Для этого придется вкратце подвести итоги наших исследований последних лет26, по пунктам:
1. Бог Иегова, он же Ягве, он же Яхве, он же неназываемый еврейский бог, обозначаемый на письме как тетраграмматон, он же Саваоф, он же Адонаи-Господь и еще в шести прозвищах упоминаемый в Еврейской Библии, в христианстве проходящей под названием Ветхий Завет, является сказочным персонажем древнееврейского фольклора. Ни о каком реальном существовании этого литературного героя речь не идет и идти не может: он является продуктом суеверных страхов, порожденных невежеством древних дикарей, одушевлявших и очеловечивавших грозные природные явления. То есть, создававших себе воображаемых богов по своему образу и подобию – еврейский Яхве27 один из таковых многих, подобных ему в разных культурах: Ваалу, Зевсу, Перуну, и проч.
2. То же самое касается других богов, ангелов, демонов и прочих сказочных существ, упоминаемых в Еврейской Библии – что бесспорно доказано современной историко-археологической наукой и полноценно отражено в обзоре С. Петрова «Вот б-ги твои Израиль. Языческая религия евреев»28. А также большинства библейских персонажей и описанных в библии событий – все это не более чем старые сказки псевдогероического эпоса, выдуманные за века порабощения в среде угнетаемого маргинального народца, всегдашнего обитателя глухой провинции на задворках великих империй. Не было: сотворения мира «богами» Элохим, Адама с Евой, сотворенных уже другим «богом», Иеговой, райского сада со змеем и яблоком, их детей Каина и Авеля, Ноя с потопом, Авраама с Сарой, Иосифа и его братьев, Моисея, Иисуса Навина, Давида с Соломоном, пророка Ильи, а также переселения в Египет, бегства из Египта, сорокалетнего блуждания по пустыне и всей прочей «истории» еврейского народа, описанной в библии на тысячелетия позже упомянутых в ней событий.
3. Ангелология, демонология и космология были заимствованы из еврейской языческой веры (а также еще более древних языческих верований, заимствовавших друг у друга все эти басни) христианством совершенно бездумно и некритично, и весь этот хлам все еще является неоспоримой частью христианского священного предания, вызывая у современных людей насмешливое недоумение своей совершенно комической архаичностью. Однако, церковь не может отказаться от плоской земли с раскрашенным деревянным небом на столбах и сегодня, поскольку такие представления о мире освящены авторитетом святости отцов и не могут быть ни опровергнуты, ни даже поставлены под сомнение в рамках ортодоксального (как православного, так и католического) церковного учения. Которое от хотя бы одного-единственного признания неправоты и очевидности самодовольного невежества святых учителей просто рухнет целиком и полностью вместе со всем своим двухтысячелетним авторитетом не менее чем божественной Истины. Мы признаем важность учения церкви, но ставим под сомнение его фундамент.
Категории ангельских и демонических сущностей, их воинств и миров имеют долгую, в тысячелетия протяженностью, историю постепенной трансформации из древних суеверий в языческий пантеон множества богов и божков, многие из которых играли второстепенную роль и исполняли служебные функции (например – вестников, или посланцев, или совершителей присужденных народам наказаний, казней, устрашений, судов и проч.) при главных богах. Как происходила эта эволюция мифа, закончившаяся для послепленного иудаизма (IV в до н.э) заимствованными и усвоенными из шумерскио-вавилонских сказаний представлениями о целых особых мирах вне видимого мира: небес, как места пребывания богов и ангельского воинства, и ада (шеола), как места пребывания душ умерших до всеобщего воскресения на Страшный Суд, и мучающих их бесов-демонов, врагов рода человеческого, во главе с дьяволом, подробнейшим образом прослежено в уже упомянутой выше книге Петрова. То есть, нет никаких ангельских чинов и небесных воинств, нет и демонического мира духов злобы поднебесной, в которых с такой страстной уверенностью веруют и говорят о них, как о реальности, все – и святые, и грешные – христиане всех времен и народов. Все это позднейшие выдумки христианских фантазеров, плод их воспаленного воображения, разогретого на огоньке древних суеверных преданий. Обобщение всего этого легендарного «небесного» хозяйства было составлено в рамках церковного учения христианства в книге пятого века под названием «Небесная иерархия»29 неизвестными авторами под чужим именем «Дионисия-Ареопагита», ап. от 70, жившего, само собой разумеется, не иначе, чем в первом веке, а отнюдь не в пятом, дожить до которого он не смог бы даже чудом. Целью подложного авторства этого псевдоэпиграфа, видимо, было придание большей достоверности авторитетом самого апостола – настолько неправдоподобным все это сказочное «воинство небесное» выглядело уже и тогда для христиан того времени.
4. Не было и святых животных керимов (херувимов) и сарафов (серафимов)30, заимствованных христианством из болезненных «пророческих» видений древнеиудейских «тайновидцев». Более того, все «пророчества» этих пророков, водимых отнюдь не Святым Духом, который, как учит Святая Церковь, не сходил ни на кого из людей, кроме Иисуса, до дня Пятидесятницы, страдают или маниакальными расстройствами психики с «видениями» и «голосами», или пропагандистской предвзятостью заказных манипуляторов. Видения всего этого сказочного хозяйства, видимо, происходили лишь в болезненном воображении разных нездравых психически людей, скорбных на главу, в том числе – «святых пророков и провидцев». Все это – целиком и полностью вымышленные персонажи, плод или воображения, или болезни на основе суеверных страхов и психиатрических «видений». Что же касается конъюнктурно-политической стороны, как правило, свойственной любым пророчествованиям, то наиболее точную характеристику всех этих древних библейских «пророчеств» я встретил в книге Латыниной31 про Иисуса: «Однако не стоит недооценивать одну вещь: исключительно прагматический характер иудейской теологии. При царе Иосии эта теология удивительно хорошо отражала интересы Иосии, при Ездре эта теология удивительно хорошо отражала интересы Ездры, а при Хасмонеях она прекрасно отражала интересы Хасмонеев. Все пророчества, которые мы уже приводили в этой книге (и те, которые мы еще не приводили), делались исключительно задним числом и в пользу совершенно конкретного политического адресата. Только когда они не сбывались, действие их переносилось в неопределенное будущее» – убийственная характеристика еврейской писательницы, которую никак не заподозрить в приверженности христианству.
5. О том, что из всего этого вытекает для читающих Новый Завет. В Новом завете немало эпизодов, связанных с чудесами изгнания бесов и Иисусом, и его учениками. И разговоров с Ним об этом, Его высказываний на эту тему, приписанных ему упоминаний дьявола, сатаны, вельзевула, демонов и бесов. Исходя из сказанного мной выше, мы должны сделать выбор: или Сам Иисус верил во все это сказочное хозяйство и Сам был во власти этих древних суеверий – и тогда Он не может быть Всеведущим Богом и Сыном Божиим. Или все это ему приписано теми, кто сам в это верил, думал, что и Иисус верил, и Ему это приписал при написании евангелий – выбор небогат, из двух. Однако, лично я для себя выбираю второе, то есть считаю, что упоминание в евангелиях ангелов и демонов приписано Иисусу суеверными невеждами. Для меня Иисус, будучи Сыном Бога Истинного, безусловно, обладал Божественным Всеведением, и прекрасно знал, и как мир устроен, и все о Царствии Небесном («Если говорю вам о земном и вы не понимаете, что будет если стану говорить вам о Небесном?» (Ин3,12)) – и потому для меня отменяются и должны считаться ложными любые евангельские события и речения Иисуса, касающиеся: ада, демонов, ангелов, бесов и их изгнания, всеобщего телесного воскресения из мертвых, Второго Пришествия, Страшного Суда, Конца Света и прочих эсхатологических ожиданий, опять-таки некритично почерпнутых и принятых в христианство из древнееврейского библейского язычества. И в результате этого выбора у меня в руках оказывается скальпель – тот самый критерий отбора достоверности евангельских текстов – с помощью которого я смогу хирургически вырезать из Нового Завета злокачественную опухоль иудаизма с ее сказочными метастазами в логии, приписанные Иисусу.
6. Я считаю, что Иисус не был тем, кем Его с такой настойчивостью пытаются представить как древние заказчики евангельского фальсификата, так и нынешние иудаизаторы, искатели «исторического Иисуса»: ни о его родовом еврействе, семье, родителях «из рода Давидова», напророченном месте и обстоятельствах рождения, ни о его принадлежности к еврейской религиозности с детских лет на самом деле не известно ничего ниоткуда кроме первых глав синоптических евангелий, явно приписанных впереди маркионова евангелия безвестными фальсификаторами во второй половине второго века, когда добыть реальные сведения обо всем этом уже не представлялось возможным. Как ничего достоверно не известно о Нем вообще вплоть до Его выхода на проповедь. В связи с полным отсутствием сведений о детстве, отрочестве и юности Иисуса ничего определенного об этом периоде жизни Иисуса сказать просто невозможно – не из чего взять сведения даже предположительные.
7. В то же время, вполне обоснованно можно предположить, что Иисус-галилеянин не был иудеем, потому что не мог им быть: в Галилее того времени не было ненавистных населению Галилеи иудеев32, проникавших в Галилею только в составе разбойничьих шаек и военных отрядов во время разбойных еврейских набегов на галилейских язычников-чужеземцев. Иисус также не был проповедником иудаизма и иудейского бога-иеговы, но обличал его, как «дьявола» (Ин8,44). Иисус был не последователем иудейского Закона, но его ниспровергателем, и очень убедительно, согласно сведениям, просочившимся в евангелия, публично попирал его, сопровождая при этом, если верить синоптикам, чудесами, которые свидетельствовали Божье благословение на творимое им вопреки Закону.
8. Из внебиблейских источников вообще об Иисусе можно узнать только две вещи: 1 – у Него был брат по имени Иаков, о котором упоминает Иосиф Флавий33, а следовательно и мать, и семья; и 2 – Иисус считается ЛЖЕ-пророком назорейства34, древней секты жителей Галилеи, исповедавшей мандейского, не иудейского бога, вера в которого была, видимо, почерпнута из зороастризма35 и принесена в Иудею из Вавилона после возвращения евреев из плена за четыреста лет до Рождества. А ее истинным пророком был Иоанн Креститель, которому, согласно назорейской легенде, изменил, как своему учителю, Иисус, создав свою секту и свое учение, не иудейское и не назорейское. Сам Иоанн, очевидно, был мандеем и назорейским проповедником вавилонского бога Ахура Мазды36, чуждого религии иудаизма, и был убит иудеями именно за эту свою проповедь. Попытки показать его проповедником иудаизма очевидно несостоятельны, а история с нечестивой женитьбой Ирода является довольно очевидной «операцией прикрытия» убийства Иоанна именно за проповедь «другого» Бога.
9. Иисус не был ни учеником Иоанна Крестителя, представленного в канонических евангелиях, как иудейский пророк и проповедник иудаизма, ни апокалиптическим пророком, ни возглавителем-крестителем секты Иоанна по его смерти, как это преподносится в многочисленных трудах «большинства ученых» искателей «исторического Иисуса»37. Он исповедовал другого – не иудейского и не назорейского – Бога, Отца Небесного, дотоле неизвестного человечеству, которому «Он явил» Его (Ин. 1,18). И именно поэтому Он был объявлен мандейско-назорейской сектой Иоанна – лже-пророком.
10. Сам Иисус, очевидно, проповедовал Истинного Бога, доселе неизвестного человечеству («Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» Ин1,18) своего Отца Небесного, Сыном которого Он стал через Рождение Свыше от Крещения Духом в сознательном возрасте, о чем Он Сам говорит Никодиму в памятном разговоре, приведенном в ев. Иоанна (Ин3,3—5).
«3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
4.Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».
Иисус, полагаю, полностью отвергал древнееврейские языческие верования в сказочного Иегову, как фантазийные суеверия, прямо обличая их как веру в «дьявола» (тоже вполне сказочного персонажа38), поклонение «князю мира сего». Никакого почтения к еврейскому «закону и пророкам» Он не испытывал, не исполнял предписания Торы и Танаха, и, если верить евангельским свидетельствам (очистив их от натужных оправданий Его, как хорошего еврея, отличавшегося особой ревностью к соблюдению не буквы, а «духа» закона), нарочито нарушал иудейский закон на глазах у толп народа, от фанатичной расправы которых над Ним Его спасало явленное всем при этих его эпатажных попраниях велений закона Чудо Божие, говорившее всегда в Его пользу и правоту.