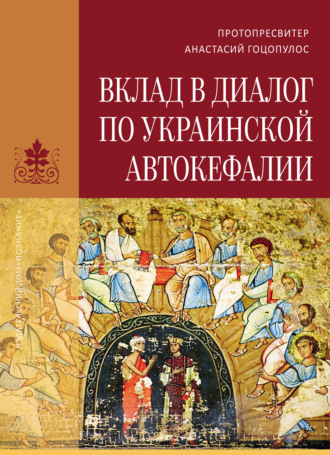 полная версия
полная версияВклад в диалог по украинской автокефалии
II. Украинская автокефалия или злокефалия?
Введение
Впервой части нашего небольшого вклада мы представили официальные данные, документы и издания главным образом Вселенского Патриархата (Уставы XI–XVII вв., Синтагматии XVIII–XXI вв.), исследования ответственных работников и сотрудников Вселенского Патриархата (архиофилакса Вселенского престола К. Деликаниса, протопресвитера Ф. Зисиса, В. Ставридиса, В. Фидаса, Г. Ларендзакиса), а также официально выражавшуюся Вселенским Патриархом Варфоломеем позицию (письма, выступления). Все вышеуказанные данные свидетельствуют в пользу абсолютно несомненных церковных реалий: в последние три с половиной века «Киевская митрополия», или «Малороссия», часть сегодняшней Украины, бесспорно подчинялась Русской Церкви, а Московский Патриархат осуществлял полную каноническую юрисдикцию по всем вопросам церковной жизни и, главным образом, по двум жизненно важным вопросам – избрания и суда над епископами, в то время как жители Украины активно участвовали во всех проявлениях церковной жизни Московского Патриархата (приходская жизнь, монашество, духовное образование, управление).
Можно было бы утверждать и, с одной стороны, по праву, что приводить вышеуказанные бесспорные исторические данные совершенно излишне, потому что в отношении этого вопроса существует иной высший критерий, на основании которого единственно только и можно в подобных случаях вынести безапелляционное решение: церковный опыт и жизнь, или, иными словами, то, о чем писал Викентий Лиринский: «Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est» (то, во что верили повсюду, всегда и все). То, что в канонической традиции называется «έθος» («обычаем»)[94] и имеет применение даже в вопросах канонической юрисдикции. Ведь автокефалия Кипрской Церкви была подтверждена Третьим Вселенским Собором (431 г.) именно в силу утвердившегося обычая, чтобы кипрские епископы рукополагались своим собором, а не Антиохийским престолом: «Начальствующие во святых кипрских церквах да имеют свободу, без притязания к ним, и без стеснения их, по правилам святых отец, и по древнему обыкновению, сами собою совершали поставление благоговейнейших епископов. То же да соблюдается и в иных областях, и повсюду в епархиях… И так святому и Вселенскому Собору угодно, чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте, и без стеснения, сначала принадлежащие ей права, по обычаю, издревле утвердившемуся» (8-е правило Третьего Вселенского Собора). Сюда же относятся и весьма важные правила 6-е Первого, 2-е Второго и 28-е Четвертого Вселенских Соборов, которые касаются канонической юрисдикции епархий.
Можно было бы возразить, что Кипр в итоге получил автокефалию по решению церковного органа и, более того, Вселенского Собора. А на основании какого церковного решения Киевская митрополия вошла в подчинение Русской Церкви? Безусловно, возражение в высшей степени сильное, потому что, как доказал протопресвитер Феодор Зисис, Патриаршее деяние 1686 года Константинопольского Патриарха Дионисия IV касалось полной передачи канонической юрисдикции Вселенского Престола над Киевской митрополией Московскому Патриархату. Помимо этого, как уже неоднократно было показано выше, постоянная и непрерывная юрисдикция Московской Церкви над Киевом уже породила «обычай», то есть правовую норму, во всем равнозначную прочим каноническим постановлениям и решениям, потому что «обычай» является правовой нормой и порождает те же самые канонические последствия, что и другие церковные деяния и решения.
То, что церковный обычай достоин уважения как правовая норма и, следовательно, применяется и в случае юрисдикции, следует и из того способа, каким Восточный Иллирик вошел в подчинение Константинопольского Патриархата. На каком церковном решении основана юрисдикция Константинопольского престола над Восточным Иллириком (Крит, Ахайя, Фессалия, Эпир, Албания, Македония)?
До 731 года Восточный Иллирик на каноническом основании входил в юрисдикцию православного тогда Римского Патриархата. Когда Рим уступал его Константинополю? Никогда! В 731 году, несмотря на решительные возражения Папы Григория III, император-иконоборец Лев III Исав императорским указом вывел Восточный Иллирик из-под власти Папы и подчинил его Константинопольскому Патриархату, чтобы наказать Папу Римского, который был тогда православным и не соглашался вместе с ним уничтожать иконы. Никакого церковного решения и, более того, при решительных возражениях православного Рима. Чисто политическое решение, и к тому же императора-иконоборца, задавшегося целью отомстить за исповедание православной веры. Однако из-за того, что это решение породило «обычай», оно имеет силу закона, не подлежит пересмотру и действует до сего дня. Безусловно, любые утверждения о том, что «каноническая юрисдикция не подпадает под действие имущественного права… (и), не приобретается (приобретательная давность)», не обоснованы[95], Восточный Иллирик по причине отсутствия «Томоса» о передаче должен войти в подчинение Рима.
Следовательно, как Восточный Иллирик в силу церковного обычая подчиняется Константинополю, несмотря на то что не существует церковного акта («Томоса») о передаче Римом юрисдикции, то тем более Киевская митрополия подчиняется Московскому Патриархату, когда есть Патриаршее решение 1686 года, которое церковным сознанием на всеправославном уровне было истолковано соответствующим образом, порождая уже церковный обычай.
Итак, последние три с половиной века «по обычаю, издревле утвердившемуся», «то, во что верили повсюду, всегда и все», и то, что было провозглашено – «Малая Русь» подчинялась Русской Церкви.
Таким образом, свое решение на всеправославном уровне вынесли церковный опыт и традиция, и любому, Поместным Церквам и отдельным лицам, надлежит его уважать.
1. Во избежание недоразумений (вольных и невольных)
I. Кто предоставляет автокефалии?
Несомненно, Вселенский Патриарх, но на определенных условиях[96]. В Православной Церкви ничего не делается при отсутствии определенных условий, которые установлены церковной традицией. Только папа может действовать безусловно, будучи… непогрешимым! Но даже и он – только тогда, когда говорит ex cathedra, а не всегда…
II. Имеет ли право Украинская Церковь на автокефалию?
Несомненно, да. Но на определенных условиях. Поскольку в Церкви никакое право не может существовать вне определенных условий. А здесь, внимание: право на автокефалию имеет только Церковь, а не государство и не религиозные группировки.
2. Единство Церкви и преимущества чести
С первых христианских веков первостепенной и главной заботой Церкви было сохранение ее единства в Истине любыми способами и средствами. Эту же цель преследовало и ее административное устройство. В начале на уровне простой епархии [это устройство] подчеркивало служение епископа, который наделялся увеличенной административной ответственностью. Но весьма скоро возникли более обширные административные единицы, в состав которых вошло большинство епархий (митрополичья или экзархальная система), а уже позднее, на IV Вселенском Соборе (451 г.), некоторые престолы были возведены в патриаршее достоинство путем предоставления «преимуществ чести» и законной власти над митрополитами (Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим).
Совместная работа епархий по определенным вопросам проходила в рамках соборов (местных, региональных, патриарших, «домашних» (Ενδημούσες), Вселенских), в которых участвовали епископы, выражавшие церковное сознание возглавляемых ими епархий. Так, уже с первых лет христианства для решения различных вопросов, требующих общего подхода, собирались многочисленные Поместные Соборы. Подобная «логика» церковного устройства выдержала как проверку временем, так и изменившимися историческими условиями (Византийская империя, распространение ислама, падение Константинополя, османское господство, новейшие национальные государства), а в адаптированном виде действует в Православной Церкви и по сей день. После отступления Рима от Церкви (1054 г.) вместо пяти Патриархатов осталось четыре, а затем их число увеличилось до четырнадцати автокефальных церковных структур (Патриархаты и автокефальные Церкви). Цель этого устройства – единство Церкви, которое для церковной традиции является важнейшим вопросом наряду с верностью данной в Откровении евангельской истине.
Среди фундаментальных канонических принципов, которыми руководствуется вся церковная традиция, – уважение к территориальной канонической юрисдикции каждой Поместной Церкви и полнота канонической юрисдикции, то есть каждая Поместная Церковь, независимо от ее размеров, истории или «веса», является абсолютно суверенной в смысле ведения собственных дел без внешнего вмешательства иных Поместных Церквей. Таким образом, высокомерие сильных Церквей лишается уверенности в себе, угнетение малых и слабых ограничивается, уважение между Церквами обеспечивается, а в итоге достигается то, что столь необходимо – единство Церкви.
Какое бы то ни было экстерриториальное вмешательство во внутренние дела епархии (епископии) или Поместной Церкви без разрешения канонического начальства (епископа), даже если речь идет о простом священнодействии, в терминологии канонов получило наименование «вторжения» («είσπήδηση»), которое влечет за собой серьезные канонические прещения (извержение из сана, анафематствование). Каноническая, соборная, да и вся церковная традиция – исключительно сурова, потому что такое поведение демонстрирует отсутствие уважения к церковному порядку и является причиной и поводом к разногласию и бесчинию, и в итоге – разрыву весьма желанного единства Церкви.
Когда же возникал вопрос, который колебал церковное единство или верность по отношению к истине в какой-либо Поместной Церкви, тогда каждая Поместная Церковь призывалась к его разрешению. В том случае, если Поместная Церковь отказывалась или была не в состоянии разрешить [данный вопрос], предпринималась инициатива по созыву Собора нескольких Поместных Церквей (Поместный) или всех Церквей (Всеправославный или Вселенский), который брал на себя решение этого вопроса.
В этой процедуре особенно важна роль знаменитых престолов, и, в частности, Константинопольского, который почтен исключительным «преимуществом чести», будучи вторым по чину после ветхого Рима (правила: 3-е II-го, 28-е IV-ro и 39-е VI-го Вселенских Соборов) и первым после отступления Рима.
Да не ускользает от нас тот факт, что падение «именитого Рима» среди прочего связано и с искажением характера «преимуществ чести», которые за ним, несомненно, признавала Древняя Церковь[97]. Папа захотел превратить почетное первенство кафедры в административную власть. Таким образом, мало-помалу сформировалось папское первенство власти: требование, чтобы только он один, без общего обсуждения на Соборе с другими, единопрестольными ему, вмешивался в дела каждой Поместной Церкви в случае возникновения там какой-либо проблемы. Уважая соборный строй, Восточная Церковь категорически отказывается признавать папское первенство власти и предлагает общее обсуждение и решение на Соборе вопросов, которые касаются общих для Церквей тем или серьезных проблем, потрясающих бытие одной из Церквей.
Таким образом, среди прочего «преимущества чести» состоят не во власти принимать решения (это папское первенство власти) по какому-то вопросу, но в инициативе и налаживании координации между компетентными лицами (Предстоятелями или представителями Поместных Церквей) для общего обсуждения и совместного принятия решений по возникшему вопросу на Соборе. Ответственность за приглашение, председательство, координацию, ознакомление внешних с соборным решением, его реализацию несет, конечно, почтенный «преимуществами чести» престол – Константинопольский. Без сомнения, такова вековая практика Церкви в серьезных межцерковных вопросах. Только в трудных исторических обстоятельствах или в исключительно срочных случаях может быть оправдано по икономии временное отклонение от этой церковной традиции. Однако это исключение не может превращаться в норму и акривию. Исключение из вышеуказанной практики также оправдано лишь в случае, если мы имеем дело с ересью, а не просто каноническим вопросом.
Превышение вышеуказанных полномочий Константинопольским престолом и его попытка выносить суверенные решения по каноническому вопросу, который касается иной церковной юрисдикции или межцерковного дела, представляет собой попытку навязать первенство власти на папский манер. Это не какая-то мелочь, которой можно пренебречь, чтобы разрешить вопрос. Это серьезное искажение фундаментальных принципов устройства Церкви, которое касается православной экклесиологии, и, несомненно, породит множество трудноразрешимых проблем. Церковная история свидетельствует о том, что это серьезный вопрос (см. падение именитого Рима…).
3. Украинская церковная независимость
То, что произошло на Украине, более-менее известно. Русский и украинский народ ведут общее происхождение от руссов, которые крестились в X веке в Киеве. Таким образом, Киев («Малая Русь») является духовной колыбелью русских народов и занимает место в их национальном и религиозном сознании исключительное. Расколоть это единство весьма рано хотели представители Запада, которые использовали [для этого] любые средства и наиболее мощное из них – унию (Брестский Собор 1596 г.). Очень часто у них это получалось, но мощная культурная и духовная традиция вновь объединяла этот народ. Мощнейшим фактором, объединявшим русские народы, был Вселенский Патриархат, который всеми способами пытался сохранить едиными под одним церковным управлением Великую (Москва) и Малую (Киев) Русь, канонической юрисдикции которого они подчинялись до середины XV века[98].
Западные силы никогда не отказывались от своих попыток разорвать духовное, культурное и административное единство Великой и Малой России[99].
Пока существовало политическое единство (царская империя, а позднее СССР), сепаратистские силы не могли вести свою деятельность, и церковное единство в общем оставалось неуязвимым. После распада СССР и обретения Украиной политической независимости США и европейские державы захотели вырвать Украину из-под влияния России и включить ее в собственные политические и военные формирования. Для достижения этой цели нужно было атаковать объединяющую русские народы силу – Церковь. Так, пока украинский народ продолжал оставаться объединенным в рамках одной духовно-церковной администрации, прозападные политические руководители изо всех сил старались добиться церковной независимости от Московского Патриархата, которому уже три с половиной века непрерывно подчинялась Украина. А обширная аргументация по этому вопросу была «заготовлена» еще в 1833 году нашим Феоклитом (Фармакидисом), и есть прецедент «успешной» ее реализации (Греция, 1833–1850). Ссылаясь на свою каноническую юрисдикцию над Украиной (признавалась на всеправославном уровне последние три века), на историю, на единство русской церковной традиции, на тот факт, что колыбелью – купелью Руси (всех племен и народов русского происхождения) является Киев, Москва отказалась предоставить церковную независимость. А эту аргументацию ей «подготовил» наш Константин Иконому.
В 1991–1992 гг. украинские епископы обратились с письменной просьбой о предоставлении автокефалии к Русской Церкви, а не к Вселенскому Патриархату, потому что, согласно их церковному самосознанию, они канонически находились под омофором Москвы, а не Константинополя[100]. И украинские епископы из раскольнических группировок Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича), которые сегодня защищают Константинополь, поскольку он предоставил им «автокефалию», еще несколько лет назад считали своей «Матерью-Церковью» Москву и по вопросу о предоставлении им автокефалии обращались именно к ней…
Москва не согласилась предоставить автокефалию и не стала передавать просьбу украинцев Вселенскому Патриархату для вынесения на всеправославное обсуждение и принятия решения. Вместо автокефалии в 1990 году Москва предоставила Украине полную церковную независимость, сохранив при этом единство между двумя Церквами. Эта независимость Украины весьма широка. По Уставу[101]«Украинская Православная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве» (ст. 1.1), имеет собственный Архиерейский Собор, в котором участвуют все епископы Украины (ст. 1.2) и который обладает компетенцией рассмотрения «всех вопросов, касающихся жизни Украинской Православной Церкви» (ст. III. 6). Собор епископов Украины без участия представителя Московского Патриархата самостоятельно избирает своих епископов (право хиротоний-jus ordinandi) и даже своего Архиепископа, носящего исторический титул: «Митрополита Киевского» (ст. III. 9), и, несомненно, имеет право суда над вышеупомянутыми (право суда-jus jurandi; ст. III. 8). Также «Собор епископов канонизирует святых и принимает богослужебные чинопоследования, составленные в их честь» (ст. III.7). Помимо этого, Собор самостоятельно принимает Устав и вносит в него изменения и дополнения (ст. II.7). Его решения не требуют одобрения Москвы, не имеют и права вето на какое-либо решение Собора епископов Украины. И, наконец, Митрополит Киевский принимает участие в работах Синода Московского Патриархата как первый по чину архиерей.
Иными словами, Украина обладает статусом полной независимости под омофором Москвы, но в межправославных отношениях выступает в качестве епархии Русской Церкви.
Независимость, которой добилась Украинская Церковь, намного более широкая, чем та, которую Вселенский Патриархат предоставил Автономным Церквам Финляндии и Эстонии и полуавтономной Критской Церкви: в Эстонской Церкви «избрание, рукоположение и замена митрополита осуществляется Вселенским Патриархатом, а других епископов – митрополитом»[102]. Подобным же образом и в Финляндской Церкви[103], в то время как в Критской Церкви избрание митрополитов осуществляется епархиальным синодом, а Архиепископа – Константинопольским Патриархатом.
На основании вышесказанного мы не можем понять оценку профессора Фидаса в отношении автономного статуса Украинской Церкви, когда в своей недавней статье он пишет: «Украинская Православная Церковь якобы обладает сегодня… церковной автономией и внутренней административной независимостью, но подотчетна Московскому Патриархату… Конечно, эта своеобразная обременительная независимость закреплена в ее Уставе, поскольку Синод Украинской Церкви избирает и рукополагает не только всех архиереев Украины, но и самого ее Предстоятеля – Митрополита Киевского и всея Украины. Тем не менее, этот самый статус обременительной независимости Украинской Церкви обретает относительный характер и ослабляется неканоническим требованием Московского Патриархата к Митрополиту Киевскому быть постоянным членом и Священного Синода Московского Патриархата, дабы [тем самым], очевидно, выразить самовольную претензию на полное ее подчинение своей канонической юрисдикции»[104]. Заметим, что, по словам профессора, «неканоническая претензия» Московского Патриархата «к Митрополиту Киевскому быть постоянным членом и Священного Синода Московского Патриархата» предусмотрена и Уставом 1945 года, который был утвержден Московским Собором с участием почти всех Поместных Православных Церквей, включая Вселенский Патриархат, как сам же профессор отмечал ранее[105]. Помимо этого, еще и Критский Собор в своем соответствующем решении по вопросу об автономии предусматривает возможность участия Первоиерарха автономной Церкви «в Синоде автокефальной Церкви» (§ 1 г).
В чем же тогда заключается неканоничность этого участия?
Сегодня в Архиерейском Соборе Автономной Украинской Православной Церкви участвуют примерно девяносто епископов, которые окормляют пятьдесят три епархии. Председательствует на Соборе Митрополит Киевский Онуфрий, который на правах постоянного члена участвует и в Синоде Московского Патриархата. В составе Автономной Украинской Церкви примерно двенадцать с половиной тысяч приходов[106] и двести пятьдесят монастырей (важнейшие монастыри Украины – Киево-Печерская и Почаевская лавры), в которых проживает более пяти тысяч монашествующих[107]. До 2018 года Автономная Украинская Церковь признавалась всеми Православными Церквами, даже Вселенским Патриархатом, как Церковь, которая выражает интересы православных верующих Украины.
4. Украинский раскол: извержения из сана и самосвятство
Большинство украинских епископов и монастырей, попросивших автокефалию у Москвы, остались довольны широкой автономией, предоставленной Украинской Церкви Московским Патриархатом, и не стали больше настаивать на автокефалии.
Но некоторые из украинских епископов откололись от Украинской Церкви и образовали самопровозглашенную «Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата», которую с 1995 года возглавляет бывший Митрополит Киевский Филарет (Денисенко).
Другая группа раскольников в 1990 году восстановила инспирированную советами, обладающую проблемным каноническим статусом и лишенную законного священства «Украинскую Автокефальную Православную Церковь» (впервые основана в 1921 году). Руководит этой группой с 2015 года Макарий (Малетич). Макарий ведет свое церковное «происхождение» от «самосвятов»[108], «группы саморукоположенных», по словам митрополита Сардского Максима (Вселенский Патриархат)[109], или «не(само)рукоположенных», по словам бывшего архиепископа Фиатирского Мефодия (Фуйаса)[110] и профессора П. Бумиса[111]. А именно: изверженный из сана священник, а затем саморукоположенный «архиепископ» Василий Липковский[112]создал в 1921 году «УАПЦ» и присвоил себе титул «Митрополита Киевского и всея Украины». Для того, чтобы было понятно, насколько это серьезный для всего православия вопрос, отметим, что группа саморукоположенного Василия Липковского «в начале 1924 года насчитывала тридцать епископов и полторы тысячи священников и диаконов, служивших на почти тысяче ста приходах», проникнув в то же время и в диаспору в Европе и Америке. Только задумайтесь, тридцать «епископов» от одного изверженного священника, который сам рукоположил себя во «архиепископа»!
Вот этого лишенного сана священника, а потом и саморукоположенного «архиепископа» Василия Липковского почтил своим присутствием на открытии памятника[113]18 января 2019 года новый «предстоятель» Епифаний, а Макарий (Малетич) почтил его 27 ноября 2018 года, назвав «священномучеником»[114]!
Более того, в своем письме к Вселенскому Патриарху Варфоломею 31 декабря 2018 года Патриарх Московский Кирилл особенно подчеркивает отсутствие архиерейского сана у Макария и его группы, говоря буквально следующее: «Макарий Малетич ушел в раскол, будучи священником канонической Церкви, и никогда не имел канонического епископского рукоположения. Его «хиротония», равно как и «хиротонии» значительной части «епископата» так называемой «Украинской автокефальной православной церкви», принятой в общение Константинопольской Церковью, восходят через его предшественников к одному лишенному сана архиерею, совершившему эти акты вместе с самозванцем Виктором Чекалиным, бывшим диаконом Русской Православной Церкви, никогда не имевшим даже священнического рукоположения.



