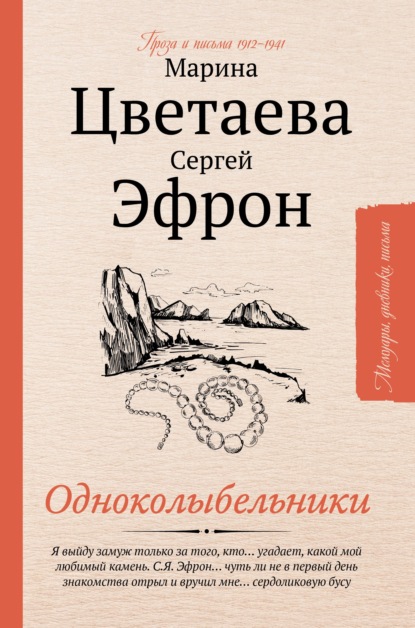Полная версия
Письма к ближним
Полезно ли, однако, это «умеренное потребление»?
Доктор Крецмер в последней книжке «Ежемесячн. Сочинений» дает новейшие данные науки по этому важному вопросу. Если прежде некоторые ученые думали, что «немножко алкоголя – полезно», то теперь этот взгляд приходится решительно оставить. Тщательные исследования профессоров Ноордена и Кассовица окончательно установили, что алкоголь яд и только яд. Прежде думали, что спирт хоть и яд, но в то же время питательное вещество. Это оказалось грубым заблуждением. Спирт только яд. Как все остальные яды, он в больших дозах действует смертельно, в меньших же – сообразно степени отравления – раздражает ткани. Доктора Трибуле и Матье в последнем специальном сочинении по этому вопросу признают спирт во всех случаях ядом, не имеющим никаких укрепляющих, питательных и вообще полезных свойств. Спирт увеличивает жир в крови, разлагает красные кровяные тельца и образует кровяные шлаки, ядовитое действие которых производит похмелье. У пьяниц нет неповрежденного органа: желудок, печень, почки, сердце – самые важные и самые тонкие приборы изнурены этой отравой. Уже 1/4 чарки спирта заставляет сердце работать как бы лишний час в сутки, 1/2 чарки заставляет его работать как бы четыре лишних часа. Этот бич сердца служит частою причиною гипертрофии и ожирения его. Еще пагубнее влияние спирта на нервы. Проф. Крепелин, д-р Ашаффенберг и Смит делали опыты над людьми, занимающимися умственной работой. Уже от 1/3 до 2/3 чарки спирта (бутылка мозельвейна, 21/2 бут. пива) тотчас понижают умственные способности. Чтение вслух, умственный счет, выучивание наизусть, решение задач – все это сразу делалось трудным, но стоило прекратить дачу вина, – те же лица становились как будто даровитее. Пробовали давать наборщикам по 1/4 чарки спирта в день, и они производили на 10–19 % меньше, чем обыкновенно, «хотя им казалось, будто они хорошо и легко работают». Д-р Кирц наблюдал двух врачей; им давали ежедневно перед сном по четыре бутылки пива в течение двенадцати дней. Их работоспособность упала на 25–40 %. В занятиях монотонных, ремесленных, канцелярских это уменьшение энергии и интеллекта не так заметно; но в области творческой – тотчас обнаруживается огромный упадок. Изобретательность, желание и способность достигать совершенства у пьяниц сменяются рутиной. Как настоящее орудие дьявола, спирт тем опасен, что он обманывает сознание. Пьянеющему человеку кажется, что он делается свежее, что усталость исчезает, что силы растут, между тем в действительности все идет наоборот, силы падают и падают до окончательного одурения. Трудно представить себе, до какой степени дорого в данном случае обходится физиологическая иллюзия.
Не только в личной судьбе множества миллионов людей, но и в их потомстве спирт производит опустошительные катастрофы. Половина всех идиотов, глухонемых, падучных и т. п. происходит от пьяниц. Одно увеличение армии этих калек могло бы показать трезвой части общества, что дольше ждать нельзя, что нужны какие-нибудь решительные меры. И действительно, есть страны, где не ждут, где начинают бороться со злом раньше, чем оно сделается неодолимым. Хотя Северная Америка не исключительно пьяная страна, хотя в шести штатах там вовсе запрещена продажа спиртных напитков, а в 16-ти штатах приняты крутые меры против пьянства, но именно в этой стране общество всего энергичнее борется с алкоголизмом. Министр Эврет высчитал, во что обходится для Северной Америки потребление спирта. За одно десятилетие (1860–1870 года) оно обошлось в три миллиарда 600 миллионов долларов. За десять лет, по вычислению министра, погибло вследствие пьянства до 300 000 человек, было послано в детские приюты до 100 000 детей и до 150 000 человек отправлено в тюрьмы. Прибавьте сюда 2 000 самоубийц, прибавьте горькую участь до 200 000 вдов и до миллиона сирот, оставленных пьяницами, – вот приблизительный подсчет человеческих жертв тому темному духу, который кроется в спирте. Это в Америке, где свободное общество вооружено с головы до ног для нравственной и политической борьбы со всеми социальными недугами. У нас было бы трудно найти подходящие цифры и трудно вообще найти примеры сколько-нибудь серьезной борьбы с пьянством.
Противожизненный эликсир. – Непьющий пьяница
В середине века мечтали об открытии волшебной жидкости, возвращающей человеку молодость и жизнь. Но подобно тому, как вместо философского камня открыли порох, так вместо жизненного эликсира открыли водку. Дух познания с самой жестокой иронией ответил на человеческие надежды. Первое действие спирта таково, что он получил мистические имена: это – «дух вина», «водка жизни» (I’eau de vie), «огненное вино» и т. п. Если бы задаться целью изобрести противожизненный эликсир, то из всех ядов нельзя было бы придумать более подходящего для этой цели. Все сильные яды – честные, откровенные по действию, явно губительные – не могли бы войти в употребление и уже в силу этого оказались бы не опасными для жизни. Для истребления человека нужен яд, дающий иллюзию возрождения, приподнимающий самочувствие, действующий коварно, завораживающий, прежде чем убить. Чуть не до момента гибели организм остается обманутым; он чувствует упадок жизни, но готов приписать его чему угодно, только не вину. Напротив, от вина он ждет воскресения сил, и каждый раз ему кажется, что он ощущает его. О, если бы гибель от пьянства была бы мгновенная!
За алкоголиками, медленно погибающими, тянется потомство идиотов, эпилептиков, психопатов, самоубийц и еще более обширное и неопределимое потомство людей, как будто совсем здоровых, но с пониженной жизнеспособностью. Припомните героев Тургенева и Чехова, наших русских рефлектиков, гамлетиков, нытиков, слабняков. Критики тридцать лет подряд все разгадывают эти родные типы, а в сущности это вовсе не типы, а клинически верно срисованные люди алкогольного вырождения. Все эти бездеятельные, угнетенные, хилые, вздорные герои – потомки армейских капитанов, подьячих, «кутейников», мещан, потомки поколений, сильно пивших. Говорю это без тени осуждения или злорадства. От спиртной отравы погибают не только пьяницы. Сколько талантливых трезвых людей хиреет Бог весть от какой причины при самых счастливых условиях, точно на них лежит какое-то тайное проклятие. Порасспросите хорошенько, – в большинстве случаев это потомство пьяниц.
– Я не пью водки, – говорил мне один писатель, – не пью потому, что алкоголь мне противен. Но я чувствую, что я отравлен им еще в утробе матери. Я не пью, но желудок у меня такой, как будто я пил, – катаральный, слабый. Я не пью, а мое сердце, почки, печень, нервная система построены по складу пьяниц, и эти органические, наследственные расстройства едва ли излечимы. Я не пью, но трезвый иногда чувствую опьянение, как будто пил. Будучи трезвым, я прихожу иногда в бешенство из-за пустяков, я способен на жестокость, на буйство, совершенно как пьяный. Я не пью, но часто переживаю угнетенное состояние бесконечной тоски, упадка духа, бездеятельности, злобы на весь мир.
– Что же это такое? – спрашиваю я.
– Да просто похмелье. Наследственное похмелье от того пьянства, которому предавались мои деды и прадеды в прошлые века. Они умерли и сгнили, а расстройство и души и тела осталось в нас, потомках. Поистине в чужом пиру похмелье! Я человек вполне трезвый, но мне иногда кажется, что лучше бы я уже пил. Может быть, вялое сердце, наследственно привыкшее к подстегиванию водкой, работало бы лучше, а может быть, спившись, я поскорее бы ликвидировал свой счет с природой. И за свои-то грехи тяжело страдать, а тут страдаешь за чужие. Вы видите, как я отвратительно живу. Меня считают даровитым, я – известность, мне хорошо платят. Но вглядитесь внимательнее, и вы увидите, что я глубоко несчастный человек, что жизнь моя сложилась ужасно бездарно. И вся наша порода так. Сколько я понимаю, наша семья могла бы дать ряд блестящих деятелей государству и не дала ни одного. И прадед, и дед, и отец, и дяди заражались пьянством еще в молодости. Многие не доучивались, не дослуживались, не дорабатывали никакого дела до конца, выходили в отставку и погружались в глушь деревни. В деревне рай, но они тянули горькую, отравляли жизнь своим женам и детям и рано умирали.
– Так что, вы против даже умеренного употребления водки?
– Ах, Боже мой, слушать тошно. Эта заученная фраза об «умеренном потреблении», ей-Богу, жестока. Вы понимаете, я вовсе не пью водки и все-таки погибаю от нее. Я потерял отца и родного брата от пьянства, теперь на моих глазах другой брат спивается. У меня маленький сын – и я со страхом замечаю в нем роковое любопытство к вину; он пьет его с удовольствием, когда дадут глоток; от запаха вина ноздри у него расширяются. Непременно будет пьяница, и я чувствую, что ничем от этого его нельзя спасти. Я окружен пожаром, где тлеет все дерево моей породы и я сам, а вы резонируете об умеренном потреблении вина. Да и не обо мне речь. Загляните же в народную жизнь, поглядите Христа ради на это море слез, пучину нестерпимого страдания, вносимого в жизнь водкой. Посчитайте же миллионы разоренных изб и квартир, десятки миллионов раздетых жен и детей, примите в расчет кромешные мучения самих пьяниц, прямо сгорающих как бы в адовом огне. Тут явление, батенька, серьезное. Тут вопрос о самой расе русской, о ее физическом бытии. Думать, что будущее народа нашего зависит от Порт-Артура или Багдадской дороги, – простое ребячество, а вот если «загноился народ от пьянства», как уверял знаток народной жизни Достоевский, если засмердел он винным тлением до того, что иностранцев вроде Вогюэ просто тошнит от картин Горького, картин очень правдивых, хоть и безнадежных, то это вопрос трагической глубины. Ведь никто, решительно никто не знает, куда мы идем; история – как тяжелый поезд – мчит нас с инерцией, бороться с которою мы, видимо, не в силах. Перед нами огромный крайне обедневший народ, худо кормленный, болезненный, беспомощный, – из сил выбивающийся на работе. И кроме всех других бед и напастей, перед ним ставится ежегодно восемьдесят миллионов ведер водки. Их нужно выпить, эти 80 миллионов! Спросите врачей: уже одного ведра достаточно, чтобы из трезвого человека сделать пьяницу, и подумайте, какая идет широкая фабрикация этого порока. Подумайте же, как энергически переделывается человек, которого Бог создал трезвым. Подумайте, чем все это может кончиться…
Так рассуждает о пьянстве непьющий пьяница, отравленный еще в утробе матери.
Национальная опасность
Или «все ничто в сравнении с вечностью» и нужно «жить, как набежит», или в самом деле в пьянстве перед нами государственная опасность, о которой стоит подумать. О ней и думают, скажете вы: существует даже алкогольная комиссия, которая вступила благополучно в пятый год своего существования. Однако, не вторгаясь в права комиссии, мне кажется, государству необходимо на что-нибудь решиться в этом страшном вопросе.
Если действительно алкоголь – яд и только яд, во всех дозах вредный, если действительно он вносит тяжкие расстройства и в тело, и в душу людей, если он ведет к вырождению и помешательству, если он понижает хотя бы только на 25–40 процентов работоспособность нации, то это враг опаснее всех иноплеменников, взятых вместе. Правда, спирт – превосходное средство обложения; государство здесь облагает налогом более чем роскошь, – потребность болезненную и порочную, как бы даже воюя с испорченностью общества. Но так как давно доказано, что развитие пьянства прямо пропорционально общедоступности водки, что оно быстро понижается с сокращением кабаков и с повышением цены спирта, то роль государства тут далеко не академическая. Ошибочная политика может вызвать чуть не повальное пьянство, – политика милосердная и расчетливая может сократить его до нуля. Вспомните историю так называемой Готеборгской системы; благодаря ей скандинавские страны из самых пьяных и бедных сделались самыми трезвыми и цветущими. Вспомните историю штата Мэн и пяти штатов, последовавших его политике. Этот штат полвека назад был самым отсталым в Америке, погибающим от пьянства и нищеты. Теперь – благодаря абсолютному запрещению спирта – это чуть ли не самый богатый штат в Америке. Маленькое государство – самодержавный член великого союза – имел мужество искренно и героически взглянуть на вековое зло и решиться, так сказать, на ампутацию порока. Россия – вы скажете – не штат, к ней опыт маленьких государств неприменим. Почему? И слон, и мышь имеют одну и ту же физиологию. Россия теперь самый отсталый штат христианской семьи народов. Но если бы иметь мужество маленького Мэна, может быть, через полвека, всего через полстолетия, на глазах детей наших, Россия могла бы сделаться одною из богатейших и культурнейших стран. Какой бы это был прекрасный переворот, какая бы светлая эра и как бы ожило наше бедное племя под своим широким небом!
Образованность и ученость
Природа как школа
Я живу в маленькой зимней даче на окраине одного из тех небольших городков, которые – как мелкие спутники солнца – окружают северную столицу с юга. Теперь эти городки совсем засыпаны снегом. На дворе, куда выходят мои окна, прямо снежные горы. На крышах, перилах, выступах лежат пышные белые подушки; сучья тополей, протянувшиеся через двор, часто гнутся от снегу. Какая благодать, если верить примете: снежная зима предвещает хороший урожай. Зима стоит на удивленье ровная, свежая, тихая, – сухой перепадающий снег удивительно выметает атмосферу, и наш царскосельский воздух мне кажется просто горным по чистоте. Если к этому проглянет еще солнце – что это за прелесть наша зима! И как мы счастливы тем, что помещены в нашем климате, в калейдоскопе постоянно меняющихся миров. Представьте себе, если бы у нас был всего один климат, например вечное лето. Мы, я думаю, вчетверо поглупели бы, как дикари тех стран, где ходят голыми. Из нашей психологии выпало бы три четверти содержания: не было бы очаровательной весны, ни задумчивой осени, ни вот теперешней мистической зимы. Как обеднели бы мы впечатлениями! Жители вечного климата находятся как бы в вечной ссылке в местность, откуда нет выхода. Жители наших стран, наоборот, точно четыре раза в год путешествуют от тропиков к полюсам или, если хотите, от одной планеты на другую. Не настаиваю на этой мысли, – но почему расцвет цивилизации всегда в умеренном поясе не объяснить просто богатством тех впечатлений, которые дает природа этих стран? Это как бы роскошно обставленная школа, увешанная картинами, снабженная моделями, инструментами и пособиями: даже ленивый ученик кое-чему здесь научается. Наоборот, полярные и экзотические страны напоминают плохие школы, где даже даровитый ученик встречает однообразные стены, где вечный наш учитель – природа – только и может преподать, что два-три урока. Вы скажете, что цивилизации возникали в Египте, Индии, Вавилонии – странах жарких. На это замечу, что эти страны – жаркие лишь теперь. Восемь или девять тысяч лет назад, когда зарождалась культура в Азии, а Европа обсыхала от ледникового периода, – Египет, Сирия и Индия были гораздо прохладнее. Это ясно не только a priori, но и из многих мест Библии. То же Греция и Сицилия героической эпохи. Они имели наш теперешний климат. Когда Южная Европа сделается нестерпимо жаркой (что уже началось), – цивилизация перейдет, может быть, на северное побережье. Кто знает – на обширных приполярных пустынях Вятской, Архангельской, Вологодской губерний, на необъятных тундрах Сибири, у побережья растаявшего океана, где теперь находят кости мамонта, может быть, зацветет когда-нибудь новая роскошная жизнь…
Но я отвлекся. Выглянуло солнце, иду в парк.
Деревенский университет
Вчера вечером был легкий туман, – сегодня рощи одеты инеем восхитительного блеска и свежести. Идешь – не надышишься сладким воздухом, не налюбуешься художественною красотой деревьев. Ели, кедры, пихты, пригнетенные снегом, стоят в белых, точно горностаевых ризах, – дубы, березы, клены кроме снега опушены инеем, как матовым серебром, и осыпаны бриллиантовой пылью. Плакучая береза – вся точно из серебряной паутины – стоит, как растрепанное привидение, как замерзшее облако. Стоит, не шелохнется.
Для меня истинная жизнь – под открытым небом, в присутствии неисчерпаемого изящества природы, среди ее красок, линий, форм, звуков, всегда облагороженных, смягченных. На воздухе я становлюсь здоровее, моложе, счастливее. Как жаль мне тех десяти лет юности, которые я провел в душных стенах разных учебных заведений. Решительно не могу постичь, почему средние и высшие школы сосредоточены в ущельях городов, в смрадных ямах, где промозглый воздух пересыщен грязными испарениями. Если бы это зависело от меня, я бы даже низшие школы вынес бы за городскую черту. Разве не ясно, что городской воздух – яд, что ничтожное уже процентное увеличение угольной кислоты поражает нервы, вносит упорные расстройства. Отчего мы все так страшно раздражительны? Отчего целое тысячелетие культуры не дало нам той милой вежливости, при всей изысканности почти искренней, которою отличаются южные, проводящие свое время на воздухе народы? Отчего даже маленький начальник у нас «рвет и мечет», журналист злобствует и клевещет, студент волнуется? Я где-то слышал гипотезу, что все это будто бы оттого, что у нас не растут тыквы и что поэтому все у нас более или менее заражены глистами. Забавная теория, но похожая на правду. Слишком многие ведут себя у нас так нервно, капризно, бессильно, как будто и в самом деле их грызет какой-то тайный червь. В pendant этой теории предложу другую. Все мы раздражительны, может быть, просто от неврастении, а неврастеники главным образом от недостатка кислородного питания нервов, от воздушного голода. Выселите хиреющую молодежь за город, в тишину, простор, свободу, ясность деревенских условий, и психология ее заметно поздоровеет. Если бы еще немножко физического труда, да притом производительного – вроде обслуживанья школьных ферм, огородов, садов, – и физическое, и душевное равновесие молодежи стали бы еще возможнее. Мысль о перенесении университета в деревню, о студенческих фермах покажется невероятной. Как, чтобы юристы летом пахали землю? Чтобы филологи задавали коровам корм, кормили свиней? Правда, все это звучит забавно. Но, с другой стороны, подумайте, какому множеству юристов и филологов приходится каждый день слоняться из конца в конец огромного города за грошовыми уроками или согнувшись в три погибели сидеть за глупейшей, часто безнравственной перепиской, чтобы обедать в кухмистерской за четвертак. Деревенский труд и благодарнее, и благороднее. Как жаль, что мы боимся социальных опытов как огня. Давно бы пора попробовать устроить деревенский университет, университет-деревню, вдали от города, где бедняки-студенты в этот прекрасный рабочий возраст летом вырабатывали бы себе своими руками провизию на зимние учебные месяцы. Этот опыт всего возможнее именно в России. Зимой в нашем климате почти никакой работы, – только учиться.
И как хорошо было бы учиться в здоровых условиях быта, среди очарований природы, в независимости собственного труда. Вы скажете, а публичная библиотека? А студенческие вечера с танцами в Дворянском собрании? А театры, опера, картинные выставки, ученые доклады на углу Морской и Невского?
Да, конечно, со всем этим пришлось бы расстаться. Культурный город имеет свою поэзию. Но ведь и деревня ее имеет, ту поэзию, которою вскормлено детство человеческого рода, со всею прелестью труда, религии, чистой любви, здоровья, – поэзию непосредственного познанья из уст самой природы.
Ученость и образование
В Петербурге работают комиссии огромного государственного значения. Одновременно с особым совещанием относительно подъема сельской промышленности работает комиссия о работе школы. Обе – в своем роде Эльбрус и Казбек текущей государственной жизни. Более широких горизонтов, более трудного подъема, чтобы охватить их, более центрального положения в кряже наших жизнестроительных задач нельзя и придумать. Учебная реформа так или иначе решает вопрос о душе народной, сельская – о физическом бытии. От образованности народной в значительной степени зависит и хлеб насущный, как и от хлеба – образованность. Около обоих фокусов этого магического эллипса реют тысячи мнений, теорий, требований, желаний; проекты громоздятся друг на друга, и количество мысли подавляет ее качество. Позвольте сказать несколько слов, что я об этом думаю.
Мне кажется, одно из важных затруднений учебной реформы то, что не совсем точно разграничены понятия образованности и учености. Обыкновенно предполагается, что неученый человек не совсем образован, а что ученый – тем самым уже и есть образованный человек. Но это глубокая ошибка. Образованность – это широта знаний, ученость – глубина их; согласитесь, что смешивать глубину и широту нельзя. Вы скажете, образованная душа, как океан и небо, должна их совместить. На это я замечу, что способные на это люди необычайно редки, они «единственны», как океан и небо. В старину великие философы вмещали в себе до некоторой степени полноту им современного знания. Но тогда и само знание не отличалось ни широтой, ни глубиной. Нынче всеобъемлющие умы – вроде Конта или Спенсера, – очевидно, во множестве областей знания невежды, и это, конечно, не в укор им. Мне кажется, что безмерно выросшее человеческое познание требует вполне определенного решения: чего хотим мы в каждом данном случае – образованности или учености.
Неясность понимания здесь происходит от слишком устаревших, потерявших смысл названий: «среднее и высшее образование». Предполагается, что гимназии дают среднюю образованность, а университеты, институты, академии – высшую. Но это совершенно неверно. По огромному вниманию государства к средней школе и тому волнению, которое переживает общество по поводу реформы гимназий, чувствуется, что, несмотря на устаревшие термины, так называемое среднее образование и есть именно то, что составляет народную образованность, и что именно оно всего нужнее стране. Чтобы резче оттенить мою мысль, позвольте выразиться несколько парадоксально. Мне кажется, что высшие школы вовсе не дают образования: они дают только ученость. Они заканчивают не общее, а какое-нибудь специальное развитие человека, как юриста, историка, физика, химика, инженера, врача. У людей, прошедших теперешнюю высшую школу, общее образование ничуть не выше, чем у людей средней школы; иногда, пожалуй, даже ниже. Специализировавшись на какой-нибудь отрасли знаний, человек невольно отстает от всех остальных, тогда как юноша с духовной жаждою, оставшийся при среднем образовании, невольно интересуется всем на свете. Путем самостоятельного чтения он продолжает познание по тем многочисленным направлениям, какие заложены в программе средней школы. Старинное слово «университет» совершенно не подходит к теперешней высшей школе, она теперь для этого слишком специальна. Университетом теперь следовало бы называть хорошо поставленную гимназию, с развитием тех высших классов ее, которые когда-то входили в университетскую программу. Конечно, специальные школы всегда останутся высшими курсами наук, но только своих наук. С дальнейшим ростом знаний нужно ждать дальнейшей специализации их, дальнейшего дробления факультетов. За общим курсом юридических или других наук непременно должны будут учреждаться особенные школы, например только государственного права или только химии. Эти сверхуниверситеты уже и появились в виде семинарий высших наук, напр. по филологии, археологии и т. п. Ясно, что чем дальше идет учение человека, тем более оно суживается и тем более теряет характер образования. Между тем все понимают, что стране нужны не столько ученые люди, сколько образованные, что специалисты требуются лишь как представители знаний, тогда как образованные люди представительствуют нечто большее. Они представители миросозерцания данной эпохи, национального разума, представители культурного процесса, всегда идущего в народе. В тысяче точек, безусловно, необходимы специалисты, но в миллионе точек нужны образованные люди. Пусть они будут невежественны в химии, в торговом праве, в мыловарении, в греческом синтаксисе, но зато они должны нести в себе дух своего века, дух истории страны, ее искусства, литературы, а главное – того огромного, неуловимого, бесконечно важного предмета, который называется действительностью, который нигде не преподается, но который один дает окончательное образование. Глубокий химик или филолог хоть и живут среди действительности, но удалены от нее более, нежели люди гражданского быта, чиновники, купцы, офицеры, священники. Вообще «специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя», как верно выразился известный мудрец.
Государство обдумывает теперь не специальности, а более важную свою нужду – общее образование, тот процесс, которым вырабатывается образованное сословие. Задача огромного государственного значения. Специалисты на худой конец могут быть выписаны из заграницы, как это и делалось и до сих пор иногда делается, – но образованное общество из заграницы не выпишешь. Оно должно вырасти дома, оно должно быть национальным, оно – как стихия – должно создаваться в неизмеримо более огромном масштабе, нежели горсть специалистов. Если у нас установился взгляд, что человек, не прошедший высшей школы, недостаточно образован и ему нельзя поручить место, напр., акцизного или податного чиновника, то это странное суеверие, опровергаемое жизнью на каждом шагу. Оно возникло из неразличения, что такое наука и что такое образованность, из неуважения к природному разуму, из рабского преклонения пред книжной ученостью. В старину, при Сперанском, когда у нас почти не было средней школы или она была элементарна, когда университеты давали более общее, чем специальное, образование, тогда был смысл требовать высшего диплома для рядовой государственной службы, нынче же роли школ значительно изменились. Гимназия разрослась, вобрала в себя некоторые общие курсы старого университета, сделалась общедоступной, – университет же вместе с ростом наук разбился на специальности, приобрел многое в учености и потерял почти все в универсальности. Традиционное предпочтение специального диплома общему теперь держится уже как рутина. На самом же деле насколько необходимы сведущие специалисты, приставленные к практическому делу, настолько бесполезны и уже ни на что не годны малосведущие специалисты, болтающиеся без дела, отставшие от своей специальности. Эти юристы, служащие по акцизной или почтовой части, эти доктора или математики, дающие уроки истории и пишущие романы, все эти люди чаще всего с пониженным образованием в сравнении с теми, кто не тратил четырех-пяти лет на овладение специальными сведениями, оказавшимися потом ненужными. Мне кажется, теперь, когда мы в начале народно-культурного развития, мы еще можем позволить себе расточительность интеллигентных сил, но с каждым десятилетием это будет труднее допустимо, и наконец страна должна будет ввести строгую экономию в это высшее свое хозяйство. Нужно будет так устроить, чтобы средняя школа, самая продолжительная по числу лет, давала бы законченное общее образование, чтобы это образование считалось достаточным для всякого рода деятельности, кроме узкоспециальных, и чтобы узкоспециальное познание пользовалось привилегией лишь в своей, строго определенной области. При таком условии в так называемые высшие школы шли бы только люди определившегося призвания, которые действительно могли бы быть хорошими специалистами. Не было бы в высших школах той страшной толкотни и тесноты, которые очень часто парализуют самую возможность обучения. Если из задних рядов огромной, как площадь, аудитории не слышно профессора, если нет возможности спросить у него объяснения, если натуралистам приходится заниматься практическими работами по очереди, за неимением места в лабораториях, если профессорам приходится работать на две смены, переутомляясь во время экзаменов до одурения, то все это не просто нелепость, а нелепость губительная, убивающая самое существо дела, для которого пришли в школу. Получается учение «для проформы», насквозь фиктивное, полное недобросовестнейшего обмана. Студенты делают вид, что что-то знают, профессора делают вид, что верят им, и ставят удовлетворительный балл, и затем все это прикрывается, как фиговым листом, дипломом с огромною печатью и «правами». Молодые люди в погоне не за знаниями, а за этими правами теряют лучшие свои годы, отстают в общем образовании и выходят часто круглыми невеждами, чтобы занимать потом ответственные места. Вместо того чтобы обеспечить на этих местах присутствие действительно образованных людей, государство принуждено терпеть людей без знания и без развития, с фальшивою, так сказать, пробою. «Человек с высшим образованием», а на самом деле часто это жалкий недоучка, ищущий «хоть каких-нибудь занятий». Мне кажется, пора освободить школу и общество от ложного представления, будто специальное образование есть высшее образование, пора эмансипировать последнее от учености и вообще разграничить эти два понятия в политических правах. Если школьная ученость будет лишена исключительных привилегий вне своей специальности, то толпа учащихся отхлынет от так называемой высшей школы к великой выгоде и школы, и общества. В школе будет просторнее, в ней будут, наконец, действительно учиться, в ней специальные знания будет находить молодежь, действительно ищущая их. «А остальная толпа?» – спросите вы. А остальная толпа, без определенного призвания, без исключительного таланта, хорошо сделает, если останется при общем образовании и примется поскорее за практическую работу. Ей должно быть обеспечено хорошее общее образование и должны быть предоставлены общие права, причем сама практическая работа, сама жизнь должна давать отличия и преимущества. Решающим критерием в карьере образованных людей должен быть не диплом, а талант.