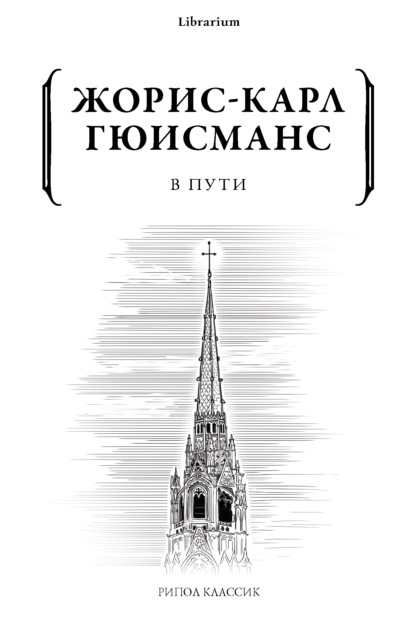Полная версия
Там, внизу, или Бездна
Другого общества не существовало. Так редко удавалось теперь найти интимный уголок, в котором бы могли непринужденно беседовать художники, не подражая ни гостиным, ни кабачкам, беседовать без затаенной мысли вероломства и коварства, не заботясь ни о чем ином, кроме искусства.
Ни намека на величие духа не было в литературном мире. Ни волнующих взглядов, ни быстрого и таинственного уклона мысли. Царили разговоры улицы Сентье или улицы Кюжа. По опыту зная, что никакая дружба немыслима с животными, которые, насторожившись, всегда готовы растерзать добычу, он порвал все связи, не желая делаться ни простаком, ни хищником.
В сущности, не было больше ничего общего между ним и его товарищами. Раньше, когда он исповедовал ошибки натурализма, принимая его мертвящие новшества, его манеру писать романы без окон и дверей, он мог спорить с ними об эстетике.
Но теперь!
Де Герми как-то сказал: «Между тобой и реалистами всегда лежит такая глубокая пропасть мысли, что согласие ваше не может быть долгим и прочным. Ты проклинаешь современность, они боготворят ее. Этим сказано все. Неизбежно настанет день, когда ты покинешь американское направление искусства и устремишься в дали, в области более возвышенные, менее плоские.
Во всех книгах твоих ты всегда нападал изо всех сил на уродства нашего века; но, Бог мой, человеку надоест беспрестанно обрушиваться на пузырь, который опадает, чтобы сейчас же раздуться вновь! Тебе захочется передохнуть, сосредоточиться на другой эпохе, в надежде там отыскать достойный внимания предмет. Этим легко объясняются твое душевное угнетение за последние месяцы и то чувство довольства, которое вдруг опять охватило тебя, когда ты углубился в жизнеописание Жиля де Рэ».
Бесспорно, де Герми оказался прав. Дюрталь почувствовал себя возрожденным, погрузившись в мрачный и блаженный конец Средневековья, умиротворенный, проникся презрением к окружающему, создал себе бытие, далекое от литературной суеты, мысленно как бы уединился в замке Тиффож Синей Бороды и жил в совершенном согласии с ним, а порой почти даже увлекался этим чудовищем.
История заменила ему роман, который всегда оскорблял его выдуманностью фабулы, разделением на главы, рыночной удобочитаемостью, оскорблял искусственной условностью и пошлостью. Но он не верил в историю как в науку, и она казалась лишь наименьшим злом. События, рассуждал он, дают человеку одаренному только канву для мыслей и стиля. В зависимости от потребности оправдания, от темперамента писателя, который обрабатывает их, они то сгущаются, то меркнут.
Еще хуже с документами, на которых покоятся события! Неопровержимых документов нет, они все требуют проверки. Если даже они подлинны, то за ними идут другие, противоречивые, но не менее достоверные, которые обесценят другие, извлеченные на свет архивными розысками.
Превращенная в спесивый ворох старых бумаг, современная история служит лишь утолению литературной жажды разных дворянчиков, изготовляющих книжечки, забрасываемые в дальний угол книжного шкафа, которым академия ретиво присуждает почетные медали и большие премии.
В истории Дюрталь видел самую торжественную ложь, самый ребяческий обман. По его мнению, древнюю Клио можно было изобразить с головой сфинкса, украшенной бакенбардами в виде плавников и увенчанную детским колпачком. Он вынес убеждение, что точность невозможна. Как разгадать события Средних веков, когда никто еще не смог объяснить более недавнее, например, недра Великой Революции или сваи Коммуны. Нет иного выхода, как сотворить образы в собственном воображении, мысленно приобщиться к существам того времени, воплотиться в них, переоблачиться, если можно, в их ветхие одежды, искусно подобрав подробности, воссоздать обманные картины. В общем, именно так делал Мишле. И хотя этот расслабленный старец причудливо блуждал в своих сооружениях, останавливался перед ничтожным, нежно млел, вплетая анекдоты и объявляя их безмерно значительными, хотя обуревавшие его приливы чувствительности и припадки шовинизма опрокидывали достоверность его посылок, искажали здравомыслие его суждений, он являлся единственным писателем во Франции, который парил над вечностью и с высоты погружался в загадочную глубь древних сказаний.
Его история Франции, истеричная и болтливая, бесстыдная и интимная, была до известной степени овеяна духом широты. Образы его были исшедшими из склепов, в которые их погребла надгробная болтовня его собратьев. Неважно, что из историков Мишле являлся наименее достоверным, будучи художником более других, больше, чем другие, оставаясь самим собой. Что касается остальных историков, то они, как кроты, рылись в архивах, ограничивались усилиями откопать как можно больше разных сведений. Вслед за Тэном они мастерили примечания, подбирали одну ссылку за другой, но оставляли лишь такие, которые подкрепляли бредни их сказок. Люди эти возводили в правило полнейшую скудость воображения, совершенное отсутствие энтузиазма, хвалились, что ничего не вымышляют, – что, впрочем, правда, – но, расчетливо подбирая документы, подделывали историю не в меньшей степени. Какой простотой отличалась их система! Открыв, что такое-то, допустим, событие произошло в нескольких общинах Франции, они делали отсюда вывод, что в такой-то части, такого-то дня, такого-то года, именно так, а не иначе жила и мыслила вся страна.
Не менее чем Мишле, являлись они храбрыми подделывателями, но не обладали ни даром его видений, ни его духовным подъемом. Мелкие коробейники истории, уличные торгаши, кропатели примечаний, они, не давая общей картины, описывали отдельные подробности, походя на современных художников, нагромождающих краски, или декадентов, изготовляющих стряпню из слов! Еще хуже обстоит дело с сочинителями жизнеописаний, думал Дюрталь. Они подлинные кликуши. Целые книги писались с целью доказать, что Теодора была целомудренной и ровно ничего не пил Жан Стэн. Другие ставили себе задачей обелить Виллона, доказывали, что на самом деле толстая Марго, героиня баллады, означала не женщину, но вывеску кабачка. Без долгих рассуждений биограф изображал поэта человеком простодушным, воздержанным, справедливым и честным. Сочиняя свои исследования, историки эти как бы боялись обесчестить себя прикосновением к писателям и художникам, жизнь которых изборождена была страстями. Они хотели, без сомнения, чтобы те были такими же мещанами, как они сами, и все это сооружалось с помощью прославленных документов, которые вошло в обычай подчищать, искажать, переиначивать.
Дюрталя в отчаяние приводила эта могущественная теперь школа обеления. Он был убежден, что в своей книге о Жиле де Рэ он не впадет в безумие фанатиков благопристойности, яростно жаждущих мещанской честности. Со своим взглядом на историю он менее, чем кто-либо, мог рассчитывать, что даст верный образ Синей Бороды, но зато, по крайней мере, был уверен, что не подсластит его, не утопит в потоках словоблудия. Крыльями его вдохновения как бы служили копия записки, поданной королю наследниками Жиля де Рэ, выписки из Нантского уголовного процесса, о котором имеется в Париже несколько отчетов, выдержки из «Истории Карла VII», написанной Балле де Виривиллем, наконец заметка Армана Геро и жизнеописание аббата Боссара. Всего поименованного было довольно ему, чтобы воссоздать мрачный облик слуги сатаны, бывшего самым талантливым, самым замечательным, самым жестоким человеком XV века.
Одного только де Герми, с которым он виделся теперь почти каждодневно, посвятил он в замысел своей книги.
Познакомились они в одном из наиболее странных домов, у католического историка Шантелува, хвалившегося, что он принимает у себя весь мир. И действительно, причудливейшее общество собиралось раз в неделю в зимние сезоны в гостиной его на улице Банье: ризничие и поэты кабачков, журналисты и актрисы, сторонники Реставрации и поклонники оккультных наук.
В общем, дом этот стоял на границе клерикального мира, и духовенство его посещало, но как место не совсем приличное. Шантелув был человек радушный, покладистый, приветливо-обходительный. Обеды его отличались некоторой необычностью и утонченностью. Пытливого наблюдателя мог насторожить взгляд каторжника, который он иногда метал из-под дымчатых стекол очков, но его чисто церковное добродушие разгоняло все опасения. Жена его была некрасива, но загадочна, и ее охотно окружали гости. Она обычно молчала, пребывала безучастной к жарким речам гостей и располагала к себе подобно мужу. Бесстрастная, почти надменная, выслушивала она без всякого смущения самые страшные парадоксы и рассеянно улыбалась, устремив взор свой куда-то вдаль.
На одном из таких вечеров, когда Дюрталь курил, а новообращенная Руссэль, временами завывая, пела стансы ко Христу, его вдруг поразили лицо и вся осанка де Герми, резко выделявшиеся на пестром фоне расстриг и поэтов, собравшихся в гостиной и библиотеке Шантелува.
Среди угрюмых и лицемерных лиц он бросался в глаза своей исключительной изысканностью и вместе с тем видом, исполненным презрительного недоверия. Высокий, худой, очень бледный, он прищуривал близко посаженные над коротким вздернутым носом глаза с темно-синим отливом. Волосы его были белокуры, щеки выбриты, заостренная бородка была почти пробкового цвета. Он производил смешанное впечатление болезненного норвежца и жесткого англичанина. Одетый в ткани лондонского производства, он, как в доспехи, облачен был в клетчатый костюм темного цвета, узко срезанный в талии, очень глухой, почти закрывавший шею и галстук. Весьма занятый собой, он как-то особенно снял и свернул перчатки, чуть слышно ими похлопывая. Потом уселся, скрестив в виде тирса длинные ноги, и, наклонившись вправо, из левого кармана достал плоский, узорчатый японский кисет, в котором у него хранились папиросная бумага и табак.
С незнакомыми он держал себя замкнуто, вежливо, обдавая их ледяной холодностью. Его высокомерное и принужденное обращение согласовалось с его деланным, бесцветным смехом и отрывистой речью. С первого взгляда он возбуждал серьезное чувство неприязни, которое потом крепло от его высокомерных слов, презрительного молчания, надменных или лукавых улыбок. У Шантелувов его уважали и главным образом боялись. Но, узнав ближе, можно было убедиться, что под этим внешним покровом таилась неподдельная доброта, склонность к дружбе, малообщительной, но способной к известному героизму и, во всяком случае, надежной.
Как жил он? Был ли богат или только не нуждался? Никто этого не знал. А сам он, весьма сдержанный, ни с кем не говорил о своих делах. Он был доктором Парижского факультета – Дюрталь видел случайно его диплом, – но о медицине отзывался с безмерным презрением, обратился к гомеопатии из отвращения к пустоте общепризнанного врачевания, но скоро и ее бросил и перешел к болонской медицине, над которой тоже стал издеваться.
Дюрталь по временам не сомневался, что у де Герми есть литературные труды, так как судил он о литературе с уверенностью писателя, раскрывал смысл ее сооружений, разбирал самый безумный стиль с умением знатока, постигшего сложнейшие ухищрения этого искусства. Однажды, когда Дюрталь упрекнул со смехом, что тот скрывает свои литературные работы, он ответил грустно: душа моя пуста в такое время, как наше, время презренного инстинкта к плагиату. Я мог бы подражать Флоберу ничуть не хуже, если не лучше, чем все эти торгаши, которые превозносят его. Но к чему? Я предпочитаю испытывать редкие составы таинственных лекарств, быть может, это бесполезно, но зато менее пошло!
Особенно поражал он объемом своих познаний. Он расточительно делился ими, знал все, был знаком с самыми древними фолиантами, с обычаями старины, с новейшими открытиями. Он вращался в кругу самых необычных бродяг Парижа, изучая различные, часто между собой враждующие науки. Его, такого выдержанного и холодного, можно было встретить в обществе астрологов и каббалистов, демонографов и алхимиков, богословов и изобретателей.
Дюрталь, которому надоели дешевые излияния и лицемерное добродушие художников, был очарован этим замкнутым человеком с такими суровыми и жесткими манерами.
Он достаточно выстрадал от невоздержанных проявлений дружеской назойливости, и этим объяснялось его чувство. Менее понятно, что вопреки своему пристрастию к необычным знакомствам де Герми ощутил влечение к Дюрталю, человеку с печальной душой, сухому и не склонному к крайностям. Очевидно, он испытывал по временам потребность освежиться в атмосфере менее удушливой, менее нагретой. К тому же литературные беседы, которые он так любил, были немыслимы с этими беспокойными людьми, полными неутомимых замыслов, поглощенными лишь своей гениальностью, не интересовавшимися ничем, кроме своих открытий, своих наук.
Де Герми, подобно Дюрталю, совершенно порвавший с собратьями, ничего не мог ждать ни от врачей, которых презирал, ни от всех посещаемых им маньяков.
Встретились, одним словом, два существа, находившиеся в положении почти одинаковом. Но главным образом Дюрталь выгадал от этой близости, сначала сдержанной, недоверчивой и наконец окрепшей в тесную, исполненную заботливости дружбу.
Семья его давно уже вымерла, друзья юности или поженились, или исчезли, и после своего разрыва с миром писателей он был обречен на совершенное одиночество. Де Герми оживил его жизнь, хиревшую в уединении без всякой поддержки извне. Он обновил приток его ощущений, облек новой дружбой и познакомил с одним из своих друзей, которого Дюрталь не мог не полюбить.
Де Герми, часто рассказывавший ему об этом друге, раз решительно сказал: однако надо тебя познакомить с ним. Он любит твои книги, которые я давал ему, и ждет тебя. Ты упрекал меня, что я охотно знаюсь лишь с шутами или людьми подозрительными. В лице Карэ ты встретишь редкостного человека: он разумный католик без ханжества, бедняк, чуждый зависти и злобы.
III
Дюрталь, подобно большинству холостяков, пользовался услугами привратника для нужд домашнего хозяйства. Лишь одни несчастливцы эти знают, сколько мерок масла поглощает слабая лампа, знают, как бледнеет и теряет крепость, не уменьшаясь, бутылка коньяку. Знают, как их скучно встречает гостеприимное ложе, у которого привратник пощадил все, даже малейшие складки. Из опыта познают они наконец, что не всегда можно рассчитывать утолить жажду из чистого стакана, растопить камин, чтобы согреться.
Привратник Дюрталя был усатый старик с горячим дыханием, пропитанным сильным запахом спирта. Человек ленивый и смирный, он на требования Дюрталя, чтобы уборка всегда кончалась утром к назначенному часу, отвечал неистощимым упрямством лени.
Не помогали ни угрозы, ни отказ платить на чай, ни упреки, ни мольбы. Отец Рато приподнимал кепи, проводил рукой по волосам, растроганным голосом обещал исправиться и на другой день приходил еще позже.
– Что за животное! – прошептал Дюрталь, слыша, как в скважине повертывается ключ. Он взглянул на часы и убедился, что привратник является в четвертом часу.
Предстояло претерпеть обычную сумятицу, человек этот, сонный и мирный в своей каморке, становился грозным с метлой в руке. Воинственные ухватки, кровожадные инстинкты вдруг просыпались в домоседе, привыкшем с самой зари дремать в тепловатом, пряном запахе жаркого. Он превращался в мятежника, берущего приступом кровать, накидывался на стулья, налегал на рамы, опрокидывал столы, расправлялся с тазом и кувшином, как побежденных за волосы влачил за шнурки ботинки Дюрталя, разносил жилище, точно баррикаду, и воздвигал вместо знамени в облаках пыли свою тряпку над мебелью, поверженной во прах.
Дюрталь спасался тогда в ту из комнат, которую привратник оставлял в покое. Сегодня ему пришлось покинуть кабинет, в котором воевал Рато, и спастись в спальне. Оттуда из-за откинутой занавеси он созерцал спину врага, который с метлой над головой, как бы увенчанный короной могиканина, начал вокруг одного из столов свою пляску скальпа.
Знай я по крайней мере час, когда вторгнется этот сыч, я приготовился бы заранее к уходу, со скрежетом зубовным думал он, наблюдая, как, схватив свои полотерные орудия, Рато скреб паркет, подпрыгивал на одной ноге и размахивал с рычанием щеткой.
Победоносный, вспотевший, показался он в дверях, направляясь убирать комнату, в которой укрылся Дюрталь. Вместе с кошкой пришлось теперь вернуться Дюрталю в усмиренный кабинет. Встревоженное суетой животное ни на шаг не отставало от хозяина, терлось около его ног и последовало за ним в освободившуюся комнату.
Тем временем позвонил де Герми.
– Я надену башмаки и мы уйдем, – воскликнул Дюрталь. – Постой, – и, проведя рукой по столу, он как бы облек ее в перчатку серой пыли, – взгляни, эта скотина переворачивает все вверх дном, сражается сам не знаю с чем и в конце концов после его ухода пыли еще больше!
– Почему возмущает тебя так пыль, – ответил де Герми. – Помимо того, что у нее вкус застарелого бисквита и блеклый запах древней книги, она как бы набрасывает на вещи воздушно-бархатный покров, осыпает их мельчайшим сухим дождем, смягчает чрезмерные краски, грубые тона. Она – одеяние запустения, пелена забвения. Думал ты над горестной судьбой людей, которые действительно вправе проклинать ее?
Представь себе существование человека, обитающего в одном из парижских пассажей. Вообрази кашляющего кровью и задыхающегося чахоточного где-нибудь в комнате второго этажа под двускатной крышей пассажа, ну хотя бы пассажа Панорамы. Окно открыто, поднимается пыль, насыщенная табачными осадками и пряным потом. Несчастный задыхается, умоляет дать ему воздуха. Бросаются к окну, но… преградить доступ пыли, облегчить ему дыхание можно, лишь закрыв окно и уединив больного… и окно закрывают.
Менее благословенна, черт возьми, пыль, вызывающая кровавый кашель, чем та, на которую ты жалуешься.
Но готов ты, идем?
– По какой улице пойдем мы? – спросил Дюрталь.
Де Герми не отвечал. Пройдя улицу Регар, на которой жил Дюрталь, они спустились до Круа Руж по улице Шерш-Миди.
– Дойдем до площади св. Сюльпиция, – сказал де Герми и, помолчав, прибавил: – Если взглянуть на пыль как на прообраз начала и напоминание о конце, то тебе будет, вероятно, ново узнать, что после смерти трупы наши поедаются разными червями, смотря по тому, жирны мы или худы. В трупах людей толстых находят червей, называемых ризофагами. В трупах людей худых наблюдается исключительно другой вид – форосы. Последние, очевидно, наивысшая порода червивого царства, аскетические черви, презирающие изобильную трапезу, пренебрегающие лакомиться жирными грудями, поедать отменные тучные животы. И подумать только, что совершенного равенства нет даже в том, как превратится каждый из нас в смертный прах! Кстати, мы не пойдем дальше, друг мой.
Они вышли на площадь и остановились на углу улицы Феру. Дюрталь поднял голову и прочел надпись над открытыми вратами придела церкви св. Сюльпиция: «Можно осматривать башни».
– Войдем! – пригласил де Герми.
– К чему? В такую погоду!
И Дюрталь показал пальцем на сумрачное небо, по которому, точно дым фабрик, плыли черные облака. Они стлались так низко, что в гущу их, казалось, врезались белые железные печные трубы и, выделяясь над крышами, как бы пробивали в них бойницы.
– Меня не прельщает подъем по лестнице из неровных ступеней, и потом, чего надо тебе там, наверху, – моросит, ночь опускается… Нет, уволь!
– Разве тебе не все равно, где гулять? Пойдем, и, уверяю тебя, ты увидишь там нечто неожиданное.
– У тебя что-то на уме?
– Да.
– Почему же ты молчишь! – И вслед за де Герми он скрылся под вратами.
Маленькая лампада, висевшая на гвозде, освещала дверь в глубине свода. Дверь вела на башню.
Долго карабкались они в сумерках по винтовой лестнице, и Дюрталь начал уже думать, что сторож куда-нибудь ушел, как вдруг свет замерцал из-за поворота, и, круто завернув, они остановились у двери, освещенной висевшей перед нею лампадой.
Де Герми дернул шнурок звонка. Дверь открылась. Они увидели над собою на ступеньках вровень со своими лицами освещенные ноги человека, тело которого окутывал мрак.
– Ах, это вы, господин де Герми, – и, дугообразно согнувшись, на свет выставилась женщина средних лет. – Как хорошо! Луи будет рад видеть вас.
– Где он? – спросил де Герми, пожимая руку женщины.
– На башне. Но вы пока отдохнете?
– Теперь нет. Если хотите, на обратном пути.
– Идите в таком случае наверх до решетчатой двери… Впрочем, какая я глупая, вы знаете все не хуже моего.
– Конечно… Сейчас же! Позвольте, кстати, представить друга моего Дюрталя.
Дюрталь во мраке поклонился изумленный.
– Ах, как я рада, сударь! Луи так желал с вами познакомиться!
«Куда ведет он меня?» – думал Дюрталь, снова карабкаясь во тьме вслед за своим другом по лестнице, освещенной лишь мимолетными отсветами, падавшими из бойниц. Теряясь во мраке, цеплялись они за мелькавшие нити дня. Восхождение казалось бесконечным. Наконец остановились перед решетчатой дверью и, толкнув ее от себя, ступили на деревянный помост, висевший над бездной, на дощатую кровлю двойного колодца, как бы вырытого под их ногами вглубь и одновременно уходившего над ними в высоту.
Де Герми, бывший, по-видимому, здесь как дома, жестом указал на обе пропасти.
Дюрталь осмотрелся.
Он стоял внутри башни, которую пересекали сверху донизу огромные, толстые доски, положенные в виде римской цифры X, балки, связанные брусьями, перехваченные болтами, скованные винтами величиной с кулак. Дюрталь не видел никого. Повернувшись на помосте, он пошел вдоль стены по направлению к свету, падавшему из-под сводчатых навесов над бойницами.
Свесившись над пропастью, он разглядел теперь у себя под ногами огромные колокола, подвешенные к дубовым брусьям, окованным железом. Колокола, подобные вазам из темного металла, колокола из тяжелой, точно маслом умащенной меди, в которой, не отражаясь, тонули лучи дня.
Новые ряды колоколов увидел он, отойдя назад, над головой, в пропасти, уходившей ввысь. На их стенках выступал литой выпуклый лик епископа. Золотистым отблеском мерцали внутри чаш отдельные полосы, образовавшиеся от долголетнего биения языком.
Царило безмолвие; лишь ветер шелестел в покатых навесах бойниц, крутился вокруг балок, громко бурлил на вьющейся лестнице, завывал, сдавливаемый чашами колоколов. Вдруг щеки Дюрталя овеяло трепетание воздуха, безмолвное дуновение кроткой воздушной струи. Он поднял глаза и увидел, что один из колоколов заколыхался, заволновал воздух, потом вдруг зазвонил, как бы вдохновившись, и его, подобный огромному песту, язык стал извлекать из бронзы грозные звуки. Башня сотрясалась, помост, на котором он стоял, дрожал, точно площадка железнодорожного вагона. Непрерывный величественный рокот разносился, отражая дробный гром ударов.
Старательно рассматривая потолок башни, он не заметил никого. Затем ему удалось увидеть ногу, висевшую в пустоте и раскачивавшую одну из двух деревянных педалей, прикрепленных к языку каждого колокола, и наконец, когда он почти лег на доски, он увидел звонаря, который, держась руками за две железные скобы и устремив к небу глаза, сохранял равновесие над пропастью.
Дюрталь, не видевший никогда такой бледности, такого странного лица, поразился. Бледность этого человека не походила ни на восковой цвет выздоравливающих, ни на матовый оттенок кожи продавщиц духов, обесцвеченной ароматами. Его кожа не была серо-пепельной кожей растиралыциков нюхательного табака. Цветом своего лица, синеватым, бескровным, он напоминал средневековых узников, на целую жизнь замурованных в душном мраке сырых темниц.
Голубые, круглые, выпуклые глаза были подернуты мистическою влажностью, но им странным образом противоречили жесткие, колючие усы. Человек этот казался одновременно и кротким, и воинственным, почти неизъяснимым.
В последний раз нажав педаль колокола, он откинулся назад и твердо встал на ноги. Утерев потный лоб, улыбнулся, увидев де Герми:
– А, это вы, отлично!
Лицо его просияло, когда, сойдя, он услыхал имя Дюрталя.
Пожимая ему руку, он сказал:
– Верьте, что вы желанный гость. Друг ваш, который беспрестанно говорит о вас, слишком долго скрывал вас.
– Пойдемте, – продолжал он радостно, – я покажу вам свое маленькое царство. Я читал ваши книги, уверен, что, как и мы, вы полюбите колокола. Но их надо рассматривать, поднявшись выше.
И он устремился на лестницу. Де Герми, пропустив Дюрталя вперед, замыкал шествие.
Снова началось восхождение в извивающейся полутьме.
– Это, конечно, друг твой Карэ? Почему не сказал ты мне, что он звонарь? – спросил Дюрталь.
Но в это мгновение они подходили к каменному своду на самой вершине колокольни. Карэ пропустил их вперед, и де Герми не успел ответить. Они вошли в круглый покой, посредине которого у ног их зияла большая скважина, обнесенная железным перилами, изъеденными оранжевой ржавчиной.
Глаз тонул в бездонной пропасти, если всмотреться, приблизившись. Казалось, что на самом деле смотришь в отверстие камня над колодцем, и что колодец этот чинится. Казалось, что скелет перекрестных брусьев, на которых висели колокола, опущен в глубину сруба, чтобы подпереть стены.