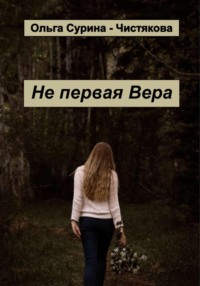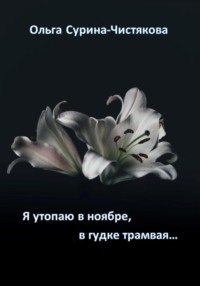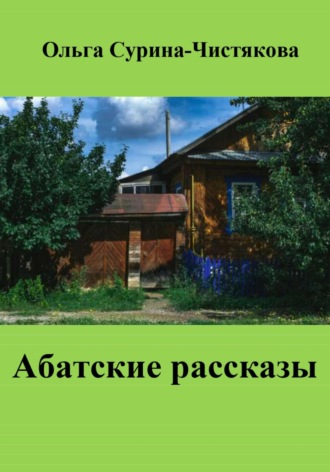 полная версия
полная версияАбатские рассказы
С тех пор на качуле я качалась только с кем-то рядом или в пределах видимости. Стоило на секунду остаться одной, липкий страх начинал облизывать спину, и чьё-то злобное незримое присутствие опять становилось различимым. Я набиралась храбрости, когда что-то рядом колотил дед, и открывала калитку из ивняка, выходила и стояла, с недоумением смотря на примятую траву между двумя кустами смородины за плетеной стеной, на заброшенный соседний дом, через картофельное поле. В жизни много страшных и пугающих вещей, однако, ничто и никогда впоследствии не убедило меня, что может быть что-то более жуткое, чем заполненный солнечным светом, жарой и тишиной летний обычный день, когда зло стоит за твоей спиной, готовое вгрызться тебе в шею.
Спустя годы, в беседе с сестрой, которая старше меня, выяснилось, что она тоже боялась оставаться на качуле одна, качаться спиной к ивовой стене, знала ужас, живший там. Как и я, однажды почувствовав его, узнавала потом. Какое-то неведомое и абсолютное Зло наблюдало и терпеливо ждало, когда ребенок останется один. Бабушка снимала качулю сразу, как уезжали внуки, чтобы ветер не раскачивал её, не скрипел канат, и не казалось, что там продолжает кто-то качаться.
Про цыган
Бабушка знала, что такое голодное военное время. Она была молода, когда началась Великая Отечественная война – восемнадцать лет. Оттого на всю жизнь запомнила, какой голод испытывает молодой растущий организм и как ужасно, когда нечем его утолить или хотя бы перебить. Я маленькая спрашивала о военном времени, просила рассказать. В садике, в школе требовали каждый год какой-то рассказ о том, какую роль в жизни семьи сыграла война, чтобы мы не просто «помнили», а могли прочувствовать боль тех, кто этот ужас выстрадал, перенес.
Бабушка чаще всего отмахивалась: «да нечего рассказывать – жили, работали». Но всегда при этом вздыхала, глубоко и тягостно. «Был же голод», – приставала я – «и что вы ели?». «Что ели, что ели? Траву ели», – устало отвечала она – «молодую крапиву срывали и суп варили». «И всё? Одну траву? Без мяса?», – я представила, как бы пошла, сорвала на ограде пучок травы и жевала, в воображении почувствовав вкус растительной горечи. «Баб, а вкусно это было, а?», – задавала вопрос уже засыпающей послеобеденным сном бабушке. «Вкусно, вкусно, когда несколько дней ничего не едала…», – отвечала она и начинала храпеть своим громоподобным посвистывающим храпом.
Видимо оттого, что бабушка натвердо запомнила, что еда – это роскошь, которую нужно ценить, еда в доме никогда не пропадала даром и не выбрасывалась. То, что не ушло со стола в рот, направлялось свиньям; хлеб высушивался на сухари; корки от пирогов размачивались в чае и тоже съедались. Именно потому, что еда – это добро, которое нужно беречь, нас с детства приучили съедать всё, что положено на тарелку. Ещё одним бабушкиным правилом было: «не есть в гостях». Она могла попить чаю, но «объедать» никого не хотела и всегда отказывалась от предложенных угощений. Меня учила тому же: «Придешь в гости, у них ничего не проси (из еды); посадят за стол – не ешь много, угостилась, «спасибо» сказала и хватит. Есть нужно дома!»
Особенно мне попадало, если бабушка узнавала, что кушать меня усадили в соседском доме, вместе с их ребятишками, с которыми я играла. Для меня это было нормально: мы играем, хотим поиграть ещё, но детям пора есть, их зовут за стол. Не могут же меня тоже не позвать, а отправить домой. Меня тоже усаживали и накладывали мне тарелку. Приходя домой, я получала строгий выговор за то, что осталась «столоваться» у соседей. «Нужно идти обедать домой», – увещевала бабушка. Мне это было непонятно, наверное, потому, что я не знала ни истинной природы отношений между соседями, прожившими бок о бок десятки лет, ни о том, что «быть обязанной за то, что накормили ребенка» бабушка не хотела. Ещё бабушка сетовала: «вдруг соседи решат, что тебя дома не кормят, и ты вынуждена по чужим домам ходить».
Особенно странно мне было оттого, что эти «правила» совершенно не работали у бабушки в доме. Она всех, пришедших к ней, усаживала за стол (хотели они при этом есть или нет, не имело ни малейшего значения). Всех, что приходил в гости к бабушке, она должна была сытно и вкусно накормить до отвала! Родственники и знакомые, близкие и дальние, соседские дети – все собирались за столом и угощались всем, что найдется в доме. Бабушка – самая хлебосольная хозяйка, которую я когда-либо видела! Никто не уходил от неё просто сытым, не то, что голодным. Все уходили с чувством переедания (только тогда бабушка, казалось, была довольна и верила, что гости наелись) и с «гостинцами в дорогу» – всевозможными кренделями и булочками, соленьями и вареньями, грибами и блинами, конфетами и бог знает, чем ещё!
Конечно, главная цель заботы о внучке была – не дать мне проголодаться. Кажется, что если бы в детстве я столько не ела, проблем с лишним весом было бы значительно меньше. День начинался с плотного завтрака: гора блинов соседствовала с банкой густющей домашней сметаны, в пиалах – несколько видов варенья и топленое сливочное масло; гора свежеиспеченного хлеба; крендели и рогалики; большущая чашка творога с сахаром и сметаной; неизменный гость бабушкиного стола – рыбный пирог с пескарями и тарелка ягод виктории. Дополняла ансамбль чашка чая с сахаром, размером в 0,3 литра. Разговоров, что я чего-то из этого «не хочу», «не буду», «наелась» бабушка не принимала категорически. В идеале нужно было съесть всё подчистую, но так как это для ребенка было невозможно физически, то достаточно было поесть «всего по чуть-чуть», что в итоге всё равно приводило к перееданию.
На обед на стол выставлялось всё то же, что было на завтрак, но дополнительно мне наливалась большая тарелка супа, в обязательном для употребления порядке выдавалась большая горбушка хлеба, а «на сладкое» (кроме конфет и печенья») выставлялась широкая миска с густым киселем, который был в виде желе. Правила те же – съесть нужно всё.
Ужинать мы могли жареной со шкварками или вареной картошкой, рыбным пирогом и тушеной капустой с мясом, а также разнообразными кашами. Особенно перловкой, которая с большими кусками мяса томилась в печке несколько часов. К этому конечно доставались все блюда, что побывали на столе в предыдущие трапезы, ведь еду нельзя выбрасывать. Всё нужно доедать.
Когда, казалось, все уже сыты и близился вечер, бабушка опять накрывала на стол, чтобы все «поели перед сном». В городе мы так не ели «на ночь», поэтому этому приему пищи я особенно противилась и есть к этому времени обычно не хотелось. Тогда бабушка высказывала свой самый на её взгляд весомый аргумент: «Ешь, а не то ночью цыгане приснятся!». После этого спорить и протестовать было бесполезно. Я не понимала, что же плохого в том, что мне приснятся цыгане. «Ну, приснятся и приснятся», – размышляла я, – «Что, я из-за них теперь лопнуть должна?!», недовольно откусывая крендель и запивая сладким чаем.
Я цыганского табора или отдельно цыган не видела (в городе их цветастые толпы появятся позднее, в 90-е) и для меня это был какой-то мифический и ненастоящий народ, вроде эльфов или гномов. Они где-то есть, но их уже много веков никто не видел, а потому и нечего их опасаться, тем более во сне. Но бабушка была неумолима, – «Чтобы не приснились, нужно быть сытой». Дело было очевидно не в цыганах, а в памяти моей бабушки, которая провела не одну голодную ночь в своей жизни и не хотела даже вероятности такой допустить для своих детей и внуков.
Качаясь на качуле, я всё-таки как-то раз попросила деда Семёна рассказать мне о цыганах. Он рядом сидел, выстругивая из чурбана какую-то полезную в хозяйстве деревяху. Он крякнул и рассказал, что цыганки воруют детей, яйца у куриц, всё воруют, что смогут достать – такая у них задача, затем это принести своему цыгану, который сидит и просто ждёт. Если цыганка хорошо наворовала – повезло ей, а если мало или не особенно ценное что-то притащила, то цыган берет свою плётку и бьет нерадивую до тех пор, пока не вдолбит ей, что она должна воровать лучше. Мне стало цыганок жаль. Раньше казалось, что их жизнь – сплошное веселье и танцы, яркие юбки и песни под гитару у костра в поле.
Дед добавил: «Вот ты вырастешь, и уведет тебя цыган черноволосый с синими глазами в свой табор. Заставит тебя воровать и ему приносить!» «А если я не захочу?» – несмело проблеяла я, уже подозревая, что услышу в ответ. «Тогда он будет и тебя плёткой хлестать для ума! Иначе никак», – прокряхтел Семён и закурил свой любимый «Беломорканал».
Я на минуту вжилась в роль несчастной цыганки: вот я стою в ужасе и яркой юбке посреди комнаты, ничего не укравшая для своего мужа, даже яйца. Не могу поверить, что я ушла с ним в табор, что нет мне дороги назад, что тот, кто должен меня любить, сейчас меня отстегает плёткой. Горько стало мне от своей выдуманной судьбы и ещё жальче стало цыганок, у которых нет другой.
В тот вечер меня не нужно было уговаривать – ела я перед сном основательно, «чтобы цыгане не приснились». А ещё навсегда зареклась (на всякий случай) знакомиться и встречаться с черноволосыми парнями с синими глазами.
Баня
Баня была по субботам. Стояла низенькая баня в дальнем углу огорода, идти нужно было по тропинке вдоль ягодных грядок. Серые потрескавшиеся бревна, маленький предбанник, помывочная с низким потолком – ничего особенного. К бабушке Варе приезжали мыться тетя Галя с дядей Витей и их дети, поэтому уже с четырех часов дед Семён таскал воду и протапливал баню, а бабушка хлопала половички и мыла в бане пол.
Я баню не любила. По мне, так ванна была значительно удобнее и лучше во всех смыслах. Не было духоты, жара, опасности обвариться кипятком, поскользнуться и шмякнуться с полка на пол. В Абатске гигиенические процедуры сводились к утреннему умыванию из рукомойника и вечернему подмыванию «Катьки» (так бабушка именовала женские половые органы) и ног в тазике. Поэтому баня раз в неделю была необходима.
Всё детство мне твердили, что «баня – это полезно, это здорово», но, сколько я не повторяла себе, что это для моего же блага, нравиться она мне не начинала. Бабушка усаживала меня на полок, где дышать было совершенно невозможно, и говорила: «дыши!». Я, мучаясь от жара и, задыхаясь от недостатка кислорода, терпеливо ждала, когда эта пытка кончится: бабушка решит, что профилактика респираторных заболеваний проведена внучке в полном объеме. Затем наступала очередь веника. Меня хлестали и говорили, что «тебе понравится», что «это добавит тебе здоровья» и ноги мои, искусанные комарами не будут зудеть. На самом деле, когда хлещут веником, это совершенно неприятно: мокрые горячие листья обжигают нежную кожу; здоровее от этого я себя не чувствовала, а мои только что зажившие комариные укусы начинали неистово чесаться с новой силой.
Потом меня мыли. Если я, изнемогая от жары, скулила и просила хоть немного приоткрыть дверь в предбанник, бабушка ругалась, что меня сразу продует и толку от бани не будет. Приходилось терпеть дальше. Наконец, закутав в полотенца, меня отправляли одну по тропинке в сторону дома, где на диване ждала чистая одежда. Я счастливая, что меня оставили в покое, отдыхала и ждала, когда вернется из бани бабушка и нальет мне холодного хлебного квасу.
Когда все помытые родственники сидели у бабушки за столом, пили квас, разговаривали свои взрослые разговоры, мне разрешалось присутствовать. Я была счастлива. Неизменно кто-нибудь спрашивал: «Ну что, понравилась тебе баня?» и все выжидательно смотрели на меня, а я неизменно, не желая испортить момент и огорчить людей, которые так радеют за моё здоровье, отвечала: «да, конечно, баня – это здорово!».
Только один раз в бане мне было по-настоящему хорошо. Дядя Витя и тётя Галя жили в своем доме без бани (она появится у них многими годами позже) и иногда ходили мыться не к бабушке Варе, а в общественную баню. Так как они брали меня на выходные погостить у них, то в баню меня как-то тоже взяли с собой.
Большое красивое здание мне понравилось сразу. Работало одновременно два отделения и мужское с входом слева и женское с входом справа. Мы с тётей Галей разделись в лакированных деревянных шкафчиках и мне выдали серый слегка погнутый тазик. В помывочной было много веселых женщин. Нам уступили место на лавке, тётя принесла воды. Вымыла меня, потом предложила посмотреть парилку, в которую я с охотой вошла и немного посидела там (больше из любопытства). Поселок был небольшой, почти все друг друга знали, смеялись, шутили, просто здоровались. Некоторые спрашивали, дочка ли я тёти Гали, на что она гордо объясняла: «племянница».
Не было духоты, невыносимого жара и приступов клаустрофобии. Когда я смотрела с лавки на пар, который поднимался клубами к высоченному потолку, мне казалось, что это новорожденные облака. Все женщины были объединены чем-то важным, что мужчинам никогда не узнать и не понять. Теперь меня тоже допустили к этому таинству, чем я была чрезвычайно горда. Женщины: старые и молодые, красивые и обрюзгшие, все светились особенной искренностью и открытостью. Не потому, конечно, что были голые. А потому, что в тот момент им нечего было скрывать друг от друга, они очищались, и души их, в доверии друг другу, наполнялись светом.
Когда мы оделись и вышли в теплый летний вечер, дядя Витя уже ждал нас на лавочке неподалёку. Я впервые поняла, как баня полезна для тела и для духа, была так воодушевлена новым опытом, что не могла представить себе, что можно чувствовать себя лучше. Но тут дядя открыл лимонад, который купил в киоске, пока нас ждал. О, этот незабываемый вкус карамели с шипучими пузырьками, прохладный и сладкий! Тётя Галя разрешила мне сходить до киоска одной и купить ещё бутылочку – это была первая самостоятельная покупка в моей жизни.
Не изменяя традиции, дядя спросил: «Ну что, понравилась тебе баня?» и я от всей души ответила: «Да!». Мы сидели с чистыми телами и душами, пили лимонад, вечерело, а впереди были выходной и вся жизнь!
Заброшенный дом
На Власково ходить одной мне было строго-настрого запрещено. Несмотря на то, что почти до самой воды болота вела довольно крепкая утоптанная тропинка, а сама глубина бывшего озерца была, вероятно, небольшой, утонуть там ребенку было можно. К помутневшей, покрытой ряской воде вела тропинка, по сторонам от которой шумел рогоз и камыш; под ногами, случайно наступившими в сторону от тропинки, хлюпала вода. Между болотом и домом бабушки косился на случайных прохожих заброшенный дом без палисадника.
Только одно лето его занимала казахская молодая семья: муж пропадал на работе, дома его ждала жена с тремя малолетними детьми, младшему не было года. Так как старшим детям не разрешено было выходить за ограду, и они ещё плохо говорили, моя надежда найти новых друзей быстро угасла. Казахи держали птицу – курицы щипали траву на ограде, небольшой выводок белых гусей ежедневно, подлезая под слишком высоко посаженные ворота, деловито направлялся к воде в центре болота поплавать и попить. Сушились на солнце простыни и пеленки. Хозяйка отвоевала у зарослей кусочек земли в огороде и посеяла кинзу и баклажаны.
На следующее лето дом опять пустовал. Казалось, дом сам неприветливо относился к своим временным жильцам и те, поспешили найти местечко получше. Я спрашивала: «Чей это дом? Почему в нём никто не живет?». Бабушка пожимала плечами: «Хозяева уехали, живут в другом месте, дом иногда сдают. Ты не должна туда лазить? Поняла?». Я поняла. Но не поняла почему, а оттого мне интереснее было за ним наблюдать.
Дом стоял к нам неприветливой глухой стороной: разделяли наши дома три десятка метров цветущей картошки. Доски, когда-то выкрашенные темно-зеленой краской, облупились и поблекли. В окна нашей комнаты оттуда смотрело небольшое оконце, по типу бойницы, очевидно из сеней. Иногда, когда я, спрятавшись за шторкой, чтобы меня не было видно, смотрела на заброшенный дом, казалось, что там, в сенях кто-то ходит, заслоняя собой это маленькое отверстие. Со стороны глухого переулка, который вел к болоту, дом смотрел на мир стеклами (часто выбитыми) в расколотых старых рамах, покрытых той же темно-зеленой краской.
Калитка была подвешена очень высоко, как и сами ворота во двор, к тому же никогда не запиралась и, проходя мимо, можно было заглянуть под низом в ограду. Там, к удивлению, были протоптаны тропинки, которые не заросли травой, как можно было предположить. Про огород, такого сказать было нельзя – его весь затянуло плотным бурьяном.
Я любила фантазировать про этот дом – в нем могло твориться всё, что угодно: находится в подполе вход в иной мир; могли быть спрятаны в нем несметные сокровища; наконец, там могли обитать неведомые и ужасные чудовища. То, что глухой и заброшенный дом может быть пристанищем преступников и наркоманов, мне в голову не приходило. А потому однажды я твердо решила убедиться в своей смелости и отыскать сокровища, наверняка спрятанные в глубине дома.
Для поддержки я взяла двух сестренок – соседских девчонок, которых тоже привозили из города на лето к бабушке. Сперва они категорически отказались идти в сторону болота, но я поспешила их «успокоить», что мы не будем нарушать запрет и к болоту не пойдем. Мы просто посмотрим на заброшенный дом. Они нехотя поплелись за мной. Чем ближе мы подходили к нему, чем дальше удалялись от своих безопасных оград, тем становилось очевиднее, что идея зайти в чужой дом, пусть даже пустующий, не такая блестящая.
Мы остановились перед домом и переглянулись. Калитка была привычно полуотворена, было видно, что в ограде никого нет. Через грязные стекла нельзя было разобрать, что внутри. Мрак дома мог скрывать кого угодно. Я подошла и отворила калитку. Тихо. Девочки вслед мне тревожно зашептали, что не пойдут туда. Честно говоря, я не рассчитывала, что они даже до ворот заброшенного дома со мной дойдут, а потому не удивилась, и вошла в ограду.
На ограду из дома выходило ещё два окна, за которыми, впрочем, также ничего невозможно было разобрать. Пройдя пять метров вглубь по тропинке от ворот, в которых застыли в испуге соседские девочки, я немного освоилась. «Вот видите, ничего ужасного нет», – повернувшись к ним, заявила я немного громче, чем мне бы хотелось: голос стал будто-бы объемнее, как в бочке. «И никого здесь нет», – сказала я тише и менее уверенно: скорее себе, чем им. Крыльцо и вход в дом, очевидно, были с другой стороны дома. Его нельзя было увидеть, не заглянув за угол, дойдя до конца тропинки.
Я прислушалась: звуков в доме было не слышно, и я продолжила свой путь. Дойдя до конца и воровато заглянув за угол, увидела старое разбитое высокое крыльцо и желтую дощатую дверь, на которой красовался массивный навесной замок. Успокоившись от мысли, что мне не придётся заглядывать внутрь дома, выискивать запрятанные сокровища сегодня, попутно знакомясь с их хранителями, я повернулась и уже собралась неспешным победоносным шагом проследовать в обратном направлении к перепуганным моим безрассудством и непослушанием подружкам, как вдруг в доме послышались отчетливые шаги.
Шаги двигались из глубины дома к запертым дверям, словно тяжеловесный человек спускался по ступенькам в сенях. Я быстрым шагом, изо всех сил запрещая себе бежать, бросилась к выходу. Девчонки уже удирали по дороге к дому. Я выскочила из чужой ограды и тоже бросилась наутек. Добежав до бабушкиного дома, и убедившись в отсутствии погони, я села на лавочку. «Этот кто-то, наверное, меня увидел в ограде, через окно, подумал, что я воровка и решил прогнать», – пыталась логически рассуждать я. «Может там поселился кто-нибудь совсем недавно. Но как же он собирался выйти через закрытую дверь? Может этого кого-то хозяин дома запер внутри специально?», – вопросы жужжали в голове, не давая моему воображению покоя.
Вечером я получила нагоняй от бабушки за мою «вылазку». Соседские девчонки рассказали своей бабушке, что я «заставила их залезть в чужой дом», та, конечно, высказала бабе Варе, что думает о моем воспитании и запретила мне играть со своими внучками. «Ну и подумаешь», – фыркала я, – «кому нужны в подруги предательницы и трусихи?!». Бабушка качала головой и вздыхала: «Нельзя с соседями ссорится. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться!».
Мне не терпелось выяснить, есть ли кто-то на самом деле в заброшенном доме или шаги послышались со страху. Бабушка, словно угадав мои мысли, строго посмотрела и добавила: «Там нет ничего интересного. Просто старый дом. Не ходи туда больше. Обещай». Пришлось уступить.
Темно-зеленый дом ещё какое-то время пялился в наши окна своим прищуром-оконцем из сеней, и я ждала, что его тайна раскроется сама случайно, но шли дни и ничего не происходило. Мне наскучило ждать. Моё внимание, как у всех детей, переключилось на более интересные события и дела.
Спустя пару лет, смотря на уныло стоящий заброшенный дом, я подумала: «Нет никакой тайны в нём. Просто никто не хочет жить на отшибе, у болота, в строении без стёкол, где всё прогнило от сырости, потрескалось и облупилось, где каждую весну погреб, ограду и огород топит вода разливающегося Власково. Я бы не захотела. И это последнее место, где бы мне пришло в голову спрятать свои «несметные сокровища».
Воровка
Взять чужое себе – это плохо. Без оговорок и исключений. Воры представляются большинству детей, как персонажи мультфильма о Карлсоне, который живет на крыше: два недотепы в масках с мешками, которых легко напугать, если натянуть на себя простыню и притвориться привидением. В советских фильмах воров неизменно ловили и садили в тюрьму, поэтому было странно, что кто-то надеется, что останется на свободе с награбленным добром, и продолжает совершать эти бессмысленные действия. Сами преступники и их преступления были чем-то нереалистичным и далёким от советского безоблачного детства. Не представляла я, что вором может оказаться любой человек, даже я сама.
На улице Мира, по соседству с бабушкой, жили такие же пенсионерки, дети которых давно выросли, и если на улице появлялся ребенок, с большой долей вероятности это был чей-то внук или внучка. Через два дома навещали свою бабушку две местные сестрёнки – коренастые огненно-рыжие Олеся и Диана. Их привозили родители погостить, а вечером забирали.
Играли они со мной неохотно: их не интересовали мои забавы. Будучи на пару лет старше меня, они придирчиво перебирали цветные карандаши на моем столе и снисходительно качались на качуле. Было понятно, что им вполне достаточно друг друга. Общение с приезжей тюменской девочкой, навязанное бабушкой, их раздражало. Я была очень открытым и дружелюбным ребенком. Пытаясь хоть чем-то угодить, чтобы девочки подольше не уходили, не оставляли меня в одиночестве, я старалась их удивить и развлечь, рассказывая о жизни в городе, о своих игрушках дома, о подружках. Но чем больше я старалась, тем холоднее и надменнее они становились. Я никогда не встречалась с завистью (а это была именно она), оттого мне было непонятно и обидно пренебрежительное ко мне отношение.
При взрослых они вели себя показательно вежливо. Оставшись же со мной наедине, они могли, полностью игнорируя меня, болтать о своих знакомых, по-хозяйски рыться в бабушкином шкафу, таскать из буфета печенье, совершенно не заботясь о таких пустяках, как «спрашивать разрешение», и рисовать моими красками, неаккуратно перемешивая цветные акварели в одинаковые грязно-серые пятна.
Бабушка Варя между тем, усаживала конопатых толстушек за стол, угощала до отвала, и в придачу, с собой они уносили внушительный запас леденцов на палочках. Только тогда их мордашки несколько смягчались и они обещали зайти ко мне в следующий раз, когда их привезут к бабушке.
Когда же мы встречались на улице, их двоюродный брат – долговязый худющий лопоухий Славка – дразнил меня толстухой и лгуньей, а Олеся с Дианой закатывались продолжительным визгливым смехом. Меня возмущали эти оскорбления – я не была худеньким ребёнком, но его сестра Олеся раза в четыре была меня крупнее! Что касается лжи, она, по мнению Славки, заключалась в моих заявлениях, что я из Тюмени. «На самом деле», – деловито заявлял он, – «Ты всего лишь из Ишима!». «Спроси мою бабушку, откуда я приехала!», – не сдавалась я, уже готовая расплакаться от такого очевидного наговора. «Очень мне нужно с бабками лгуний разговаривать!» – продолжал важничать Славка под непрекращающийся презрительный смех сестёр.
В один из очередных «визитов» на девочек большое впечатление произвела целая коробка цветных мелков, которые подарила мне тётя Галя. Меня убедили вынести их за ограду. Мы вышли на дорогу (только там, на асфальте, мелки чертили хорошо и не крошились) и стали рисовать. Я была довольна: наконец-то меня не дразнят, а ведут себя дружелюбно. Пока две из нас рисовали, одна должна была смотреть в обе стороны и предупреждать, если поедет машина. Первая очередь «смотрящей» досталась мне и пока девочки рисовали моими мелками, я отважно следила за их безопасностью. Как только я попросила кого-нибудь из них поменяться со мной местами, Диана обиженно заявила, что я просто жадина, раз мне жаль давать им порисовать. Она с гордым видом увела сестру домой, оставив меня одну собирать в коробочку мелки, разбросанные на проезжей части.