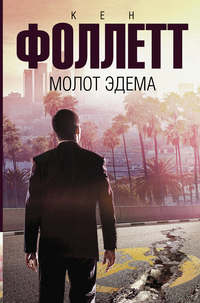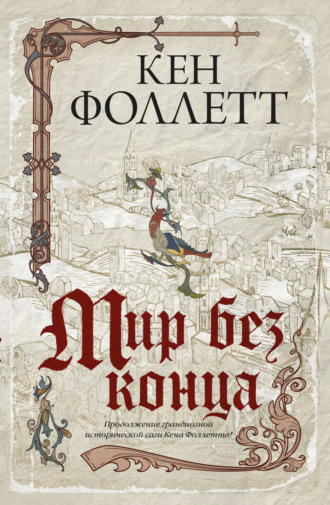
Полная версия
Мир без конца
– Так-так. Кто эта маленькая девочка и любит ли она Иисуса и его Святую Матерь?
– Я Гвенда, подруга Керис. – Малышка опасливо покосилась на Керис, будто испугавшись, что выдала желаемое за действительность.
– Дева Мария поможет моей маме? – спросила Керис.
Сесилия приподняла брови.
– Сразу к делу, да? Вижу, ты и вправду дочь Эдмунда.
– Все за нее молятся, но никто не может помочь.
– А знаешь, почему?
– Быть может, Дева никому не помогает, просто сильные сами справляются, а у слабых не выходит.
– Дочка, не глупи, – вмешался Эдмунд. – Всем известно, что Святая Матерь нам помогает.
– Все в порядке, – успокоила торговца Сесилия. – Дети, особенно смышленые, всегда задают вопросы. Керис, знай: святые наделены могуществом, вот только одни молитвы действеннее других, понимаешь?
Девочка неохотно кивнула. Опять ее не столько убедили, сколько перехитрили.
– Она должна ходить в нашу школу, – задумчиво произнесла Сесилия. Монахини содержали школу для девочек из знатных и богатых городских семейств. При мужском монастыре была такая же школа для мальчиков.
Отец недовольно скривился.
– Роза научила девочек азбуке. А считать Керис умеет не хуже меня, помогает мне в делах.
– Она сможет узнать гораздо больше. Вы же не хотите, чтобы она всю жизнь вам прислуживала?
– Нечего ей в книжки пялиться, – встряла Петранилла. – Она будет завидной невестой. За обеими сестрами женихи в очередь выстроятся. Сыновья торговцев и даже сыновья рыцарей совсем не прочь породниться с нами. Но Керис – очень своенравное дитя, за нею нужен глаз да глаз, чтобы не сбежала с каким-нибудь нищим бездельником.
Керис мысленно отметила, что тетка нисколько не беспокоилась о послушной Элис. Еще бы, сестра наверняка послушно выйдет замуж за того, кого ей подберут.
– А может, Господь желает, чтобы Керис ему послужила, – возразила мать Сесилия.
– Двое из нашей семьи стали монахами – мой брат и племянник, – проворчал отец. – Думаю, этого вполне достаточно.
Настоятельница посмотрела на девочку.
– Сама-то ты что думаешь? Кем хочешь стать – торговкой шерстью, женой рыцаря или монахиней?
Одна лишь мысль о монашестве приводила Керис в ужас. Ведь тогда придется день напролет подчиняться чьим-то приказам. Все равно что остаться на всю жизнь ребенком, имея в матерях Петраниллу. А стать женою рыцаря или кого-то еще – тоже скверно, потому что женщины должны слушаться своих мужей. Помогать отцу, а потом, когда он постареет, перенять, быть может, его дело – подобный исход сулил меньше всего волнений, но и его вряд ли можно было назвать мечтою всей жизни.
– Не хочу вообще ничего такого.
– А чего же ты хочешь? – не отступалась мать Сесилия.
У Керис имелось затаенное желание, о котором она никому еще не говорила. Более того, она сама вдруг осознала это желание лишь сейчас – и ясно поняла, что такова ее судьба.
– Я хочу стать врачом.
Наступила тишина, затем все рассмеялись.
Девочка зарделась, не понимая, что смешного сказала.
Отец сжалился над нею.
– Врачами могут быть только мужчины. Разве ты не знала этого, лютик?
Керис растерянно посмотрела на мать Сесилию.
– А как же вы?
– Я не врач, – ответила настоятельница. – Мы, монахини, конечно, ухаживаем за больными, но всегда следуем наставлениям ученых мужей. Братья обучаются у достойных наставников, им ведомы течения жизненных соков, они знают, как нарушается равновесие гуморов при болезни и как восстановить верное их соотношение для доброго здравия. Им ведомо, из какой жилы пускать кровь при головной боли, проказе или одышке, где именно резать и где прижигать, кому ставить компресс, а кому прописать целебную ванну.
– Разве женщина не может научиться всему этому?
– Наверное, может, но Господь распорядился иначе.
Всякий раз, слыша эти слова, за которыми взрослые прятали нежелание толком отвечать на вопрос, Керис впадала в отчаяние. Прежде чем она придумала, как возразить, сверху спустился брат Савл с тазиком крови и прошел через кухню на задний двор. От вида крови Керис захотелось плакать. Все доктора пускают кровь в лечебных целях, значит, это надежный способ, – но до чего же мерзко наблюдать, как выливают на землю жизненную силу матушки.
Савл вернулся к больной и вскоре снова спустился, уже вместе с Иосифом.
– Я сделал все, что мог, – напыщенно произнес Иосиф. – Она исповедалась в своих грехах.
Исповедалась в грехах! Керис хорошо знала, что это означает, и все-таки заплакала.
Отец достал из кошеля шесть серебряных пенни и вручил монаху.
– Спасибо, брат. – Голос его был хриплым.
Когда Иосиф и Савл ушли, монахини вновь поднялись наверх.
Элис села к отцу на колени и спрятала лицо у него на груди. Керис плакала, прижимая к себе Скрэпа. Петранилла велела Татти убрать со стола. Гвенда смотрела на них широко раскрытыми глазами. За столом царило молчаливое ожидание.
4
Брат Годвин проголодался. Он отобедал похлебкой из печеной репы с соленой рыбой, и этого не хватило, чтобы утолить голод. Монахам на стол почти всегда ставили соленую рыбу и слабый эль, даже не в постные дни.
Конечно, некоторые братья были на особом положении, и приор Антоний питался куда лучше. А сегодня у приора и вовсе пиршество, поскольку он ждет мать-настоятельницу Сесилию. Та привыкла к обильному угощению. Сестры, у которых почему-то вечно денег было больше, чем у братьев, раз в несколько дней забивали свинью или овцу и запивали мясо гасконским вином.
Годвину полагалось проследить за устройством пира, что было нелегкой задачей, когда у тебя самого урчит в животе. Он поговорил с монастырским поваром, проверил жирного гуся в печи и горшок с яблочным соусом на огне. Попросил у келаря кувшин сидра из бочки и взял из пекарни буханку ржаного хлеба, уже зачерствевшего, ведь по воскресеньям хлеб не пекли. Затем достал из запиравшегося на замок сундука серебряные блюда и кубки и расставил посуду на столе в зале дома приора.
Настоятель обедал с настоятельницей раз в месяц. Мужской и женский монастыри существовали по отдельности, каждый имел собственные владения и источники доходов. Приор и настоятельница подчинялись епископу Кингсбриджа, но не друг другу, однако совместно пользовались собором и некоторыми другими строениями, включая госпиталь, где братья исполняли обязанности врачей, а сестры были сиделками. Поэтому общие темы для разговоров неизменно находились, будь то соборные службы, больные и приезжие в госпитале, события в городе… Антоний частенько пытался переложить на Сесилию расходы, которые, строго говоря, следовало делить пополам: на стеклянные окна в здании капитула, на кровати для госпиталя, на починку внутреннего убранства собора, – и настоятельница, как правило, соглашалась.
Однако сегодня скорее всего будут говорить о политике. Вчера Антоний вернулся из Глостера, куда ездил на две недели хоронить короля Эдуарда II, потерявшего в январе трон, а в сентябре – жизнь. Мать Сесилия наверняка пожелает узнать придворные сплетни, сколько бы ни притворялась, что выше этого.
Сам Годвин размышлял о собственных заботах. Ему хотелось поговорить с настоятелем о своем будущем. Он выжидал удобный момент с самого возвращения Антония и уже мысленно приготовил речь, но пока ему не представилось возможности эту речь произнести. Он надеялся, что сможет заручиться вниманием приора сегодня днем.
Антоний вошел в зал в то мгновение, когда Годвин ставил на буфет сыр и чашу с грушами. Приор выглядел этаким постаревшим Годвином. Оба рослые, с правильными чертами лица, светло-русыми волосами и – как все в их роду – с зеленоватыми глазами, в которых проблескивали золотые пятнышки. Антоний встал у очага – в зале было холодно, а по старому дому гуляли сквозняки. Годвин налил дяде кружку сидра.
– Отец-настоятель, у меня сегодня день рождения, – проговорил Годвин, когда приор сделал глоток. – Мне исполнился двадцать один год.
– Верно. Я хорошо помню, как ты родился. Мне было четырнадцать. Производя тебя на свет, моя сестра Петранилла визжала, как кабан, которому в кишки угодила стрела. – Антоний поднял кубок за здравие Годвина и одобрительно оглядел племянника. – А теперь ты уже мужчина.
Годвин решил, что подходящий миг настал.
– Я провел в аббатстве десять лет.
– Неужели так много?
– Да, сначала в школе, потом послушником, потом монахом.
– Подумать только…
– Смею надеяться, я не опозорил свою мать и вас.
– Мы оба гордимся тобою.
– Благодарю. – Годвин сглотнул. – Дело в том, что мне хотелось бы поехать в Оксфорд.
Город Оксфорд уже давно являлся средоточием наук – богословия, медицины, права. Священники и монахи ездили туда обучаться знаниям и искусству ведения диспутов с преподавателями и друг с другом. В прошлом столетии ученые объединились в университет, и король пожаловал этому заведению право проводить экзамены и присваивать ученые степени. Кингсбриджское аббатство имело в Оксфорде свою обитель – Кингсбриджский колледж, где одновременно могли учиться восемь человек, ведя при этом жизнь, подобающую монахам.
– В Оксфорд! – повторил Антоний, и на его лице проступило беспокойство, даже отвращение. – Зачем?
– Учиться. Ведь монахам положено учиться.
– Я никогда не был в Оксфорде, но, как видишь, стал настоятелем.
С этим было не поспорить, но Антоний порою заметно проигрывал в сравнении с другими старшими братьями аббатства. Ризничий, казначей и некоторые другие братья-обедиентиарии[7] являлись выпускниками университета, как и те, которые врачевали. Они выделялись смекалкой и за годы обучения поднаторели в диспутах, а приор иногда выглядел рядом с ними не лучшим образом, особенно на заседаниях в здании капитула, куда ежедневно сходились все монахи. Годвин жаждал научиться той отточенной логике мышления и тому несокрушимому превосходству, какие выказывали оксфордцы, и не хотел становиться таким, как дядя.
Но сказать этого вслух он, разумеется, не мог.
– Я хочу учиться.
– Зачем учиться ереси? – презрительно справился Антоний. – Оксфордские студенты подвергают сомнению учение Церкви!
– Чтобы лучше понимать.
– Бессмысленно и опасно.
Годвин задумался, почему приор настроен столь сурово. Настоятель никогда прежде не выражал озабоченности по поводу ереси, да и сам Годвин ни в малейшей степени не собирался опровергать принятые доктрины.
– Думал, вы с матерью имеете на меня виды. – Монах нахмурился. – Разве вы не хотите, чтобы я достойно нес послушание и когда-нибудь, возможно, сделался настоятелем?
– Хотим, конечно. Но для этого тебе вовсе не обязательно уезжать из Кингсбриджа.
Годвина словно осенило: дядя попросту не желает, чтобы он слишком быстро вырос и обошел его, а если он уедет из Кингсбриджа, то вырвется из-под влияния приора. Жаль, что он раньше не подумал о возможных препятствиях для своих намерений.
– Я не собираюсь изучать богословие.
– Что же тогда?
– Медицину. Нам здесь часто приходится заниматься целительством.
Антоний надул губы. Годвину подумалось, что он нередко замечал схожее выражение лица у матери.
– Монастырь не сможет за тебя заплатить, – произнес приор. – Ты понимаешь, что всего одна книга, бывает, стоит целых четырнадцать шиллингов?
Годвин откровенно растерялся. Он знал, что студенты могут брать книги на время и нанимать при надобности переписчиков, готовых скопировать нужные страницы… Ну да ладно, это не главное.
– А нынешние наши студенты? – спросил он. – Кто платит за них?
– Двоим помогают семьи, одному – сестры-монахини. Мы платим за троих, но это предел наших возможностей. Если хочешь знать, два места в колледже пустуют из-за отсутствия средств.
Годвин знал, что у аббатства имеются денежные затруднения. С другой стороны, аббатство располагало немалыми владениями, куда входили тысячи акров земли, мельницы, рыбные садки и леса, также оно получало изрядную прибыль с кингсбриджского рынка. Трудно было смириться с мыслью, что родной дядя отказывает Годвину в деньгах на учебу. Возникло чувство, будто его предали. Антоний был не просто наставником, но родственником, и всегда выделял Годвина среди прочих молодых монахов. Теперь же приор внезапно превратился из покровителя в противника.
– Врачи приносят аббатству деньги, – заспорил Годвин. – Если не обучать молодых, то, когда старики умрут, аббатство может обеднеть.
– Божьим попущением этого не случится.
Антоний часто спасался от неудобных вопросов такими доводившими до бешенства словами. На протяжении нескольких лет сокращались доходы аббатства от ежегодной шерстяной ярмарки. Горожане просили Антония дать денег на благоустройство, на строительство палаток, отхожих мест, отдельного здания для заключения сделок, но настоятель неизменно отказывал, ссылаясь на бедность аббатства. А когда родной брат Эдмунд предупредил, что ярмарка может захиреть, он ответил: «Господь все устроит».
– Ладно, тогда, может, Господь даст денег, чтобы я поехал в Оксфорд.
– Все может быть.
Годвину было очень обидно. Ему отчаянно хотелось уехать из родного города, подышать другим воздухом. В Кингсбриджском колледже, конечно, придется подчиняться все той же монастырской дисциплине, но все-таки он будет далеко от матери и дяди, и это было весьма заманчиво.
Монах решил не сдаваться:
– Мама очень огорчится, если я не поеду.
Антоний заметно смутился. Он не хотел навлекать на себя гнев грозной сестры.
– Тогда пусть молится, чтобы деньги нашлись.
– Может, мне удастся их найти.
– И как же ты намерен это сделать?
Годвин судорожно подыскивал ответ, и вдруг его озарило.
– Я могу взять пример с вас и попросить мать Сесилию.
Прозвучало вполне правдоподобно. Сесилия заставляла Годвина робеть, бывала ничуть не менее грозной, чем Петранилла, однако не исключено, что на настоятельницу подействует его юношеское обаяние. Глядишь, и вправду удастся убедить ее дать деньги на обучение подающего надежды молодого монаха.
Антоний явно растерялся. Годвин видел, как дядя ищет повод возразить. Но приор сам уже загнал себя в ловушку, сведя разговор к деньгам, и теперь ему было сложно найти иные обоснования.
Пока приор раздумывал, в зал вошла Сесилия.
На ней была плотная накидка из добротного сукна, единственная роскошь в облачении, и то вынужденная – настоятельница всегда мерзла. Поздоровавшись с приором, она повернулась к Годвину.
– Твоя тетка Роза сильно заболела. – У монахини был напевный и чистый голос. – Она может не дожить до утра.
– Да пребудет с нею Господь. – Годвина кольнула жалость. В семье, где все только и делали, что командовали, Роза единственная слушалась. Этот цветок казался тем более хрупким, что его со всех сторон окружали шипы. – Я знал, что ей нездоровится, но не ведал, что настолько. Жаль моих двоюродных сестер, Элис и Керис.
– По счастью, твоя мать сможет их утешить.
– Верно. – Годвину подумалось, что умение утешать не самая сильная сторона Петраниллы. Куда лучше она умеет подпереть человека, чтобы тот не рухнул навзничь. Но он не стал поправлять Сесилию, а вместо того налил ей кружку сидра. – Вам не холодно, мать-настоятельница?
– Зубы стучат, – без обиняков ответила та.
– Я подкину дров.
– Мой племянник Годвин столь обходителен, поскольку хочет попросить у вас денег на обучение в Оксфорде, – съязвил Антоний.
Годвин смерил дядю бешеным взглядом. Он уже приготовил осторожную речь и опять выжидал нужного мгновения, а дядя ляпнул как нельзя грубее.
– Вряд ли мы сможем оплатить учебу еще двоим, – ответила Сесилия.
Теперь настала очередь Антония удивляться.
– Кто-то уже просил у вас денег на Оксфорд?
– Наверное, мне не стоило упоминать об этом, – отозвалась Сесилия. – Не хочу, чтобы у кого-то возникли неприятности.
– Никаких последствий, уверяю вас, – снисходительно заметил Антоний, затем одумался и добавил: – Мы всегда признательны за вашу щедрость.
Годвин подложил дров в очаг и вышел из зала. Дом приора стоял к северу от собора, крытая аркада и остальные строения аббатства располагались с южной стороны. Шагая по лужайке к монастырской кухне, молодой монах дрожал от холода и негодования.
Он предполагал, что приор может не сразу согласиться на его отъезд в Оксфорд: мол, потерпеть, повзрослеть, подождать, пока кто-нибудь из нынешних студентов не получит степень… Антоний юлил всегда, таким уж он был человеком. Однако, привыкнув к дядиному покровительству, Годвин не сомневался, что в конечном счете приор его поддержит. Непоколебимость дяди стала для Годвина неприятным потрясением.
Интересно, кто еще обращался к настоятельнице? Из двадцати шести монахов шестеро были ровесниками Годвина – значит, это скорее всего один из них. На кухне помощник келаря Теодорик трудился подручным у повара. Может, это он заручился деньгами Сесилии? Годвин смотрел, как Теодорик выкладывает гуся на большую деревянную тарелку, где уже стояла миска с яблочным соусом. У этого брата светлая голова. Он вполне может оказаться его соперником.
Годвин понес угощение в дом настоятеля, изнывая от беспокойства. Он не знал, что делать, если Сесилия и вправду решила помочь Теодорику. Плана на подобный случай у него попросту не было.
В будущем Годвин хотел стать приором Кингсбриджа. Он не сомневался, что более Антония достоин этого сана. А успешный настоятель способен подняться выше: до епископа, архиепископа, а то и до придворного или королевского советника. Годвин лишь смутно представлял, как распоряжаться такой властью, но чувствовал свое высокое предназначение. Однако к этим высотам вели всего две дороги: аристократическое происхождение и образование. Он происходил из семьи торговцев шерстью; его единственной надеждой оставался университет. А для того ему нужны деньги Сесилии.
Монах поставил блюдо на стол.
– Но отчего умер король? – спрашивала Сесилия.
– Удар, – ответил Антоний.
Годвин надрезал гуся.
– Могу я положить вам немного грудки, мать-настоятельница?
– Да, пожалуйста. Удар? – недоверчиво переспросила Сесилия. – Вы говорите так, словно король был дряхлым стариком. А ведь ему было всего сорок три!
– Я лишь повторяю слова его тюремщиков. – Когда короля свергли с престола, он томился в заключении в замке Беркли, в нескольких днях пути от Кингсбриджа.
– Ах да, тюремщики, – повторила Сесилия. – Люди Мортимера. – Аббатиса не любила Роджера Мортимера, графа Марча. Он не только поднял мятеж против Эдуарда II, но и соблазнил жену Эдуарда, королеву Изабеллу.
Настоятель и настоятельница приступили к обеду. Годвин надеялся, что ему что-нибудь да останется от угощения.
– Вы говорите так, словно что-то подозреваете, – произнес Антоний.
– Ну что вы! Правда, кое-кто подозревает. Ходят слухи…
– Что его убили? Знаю. Но я видел тело, раздетое донага. Никаких следов насилия.
Годвин знал, что нельзя встревать в разговор, но не удержался:
– Молва уверяет, что, когда король умирал, его предсмертные крики слышала вся деревня Беркли.
Приор посуровел.
– Когда умирает король, слухов всегда предостаточно.
– Король не просто умер, – возразила Сесилия. – Сначала его свергнул парламент[8]. Такого прежде не случалось.
Антоний понизил голос:
– На то были серьезные причины. Совершен гнусный грех.
Это прозвучало загадочно, но Годвин знал, что имеется в виду. У Эдуарда имелись любимчики – молодые люди, к которым он, как утверждали, питал противоестественную привязанность. Один из них, Питер Гавестон, добился такой власти и положения, что возбудил зависть и недовольство баронов и, в конце концов, был казнен за измену. Но ему на смену пришли другие. Неудивительно, говорили люди, что королева завела любовника.
– Я в это не верю, – покачала головой Сесилия, истовая сторонница короны. – Может, разбойники в лесах предаются этим порокам, но особа королевской крови не может пасть столь низко. А есть еще гусь?
– Да, – ответил Годвин, пряча досаду, и, срезав последний кусок мяса, положил настоятельнице.
Антоний продолжил:
– Во всяком случае, новому королю ничто не угрожает.
Сын Эдуарда II и Изабеллы был коронован под именем Эдуарда III.
– Ему четырнадцать лет, его посадил на трон Мортимер, – откликнулась настоятельница. – Кто же станет истинным правителем?
– Нобили рады обрести спокойствие.
– Особенно дружки Мортимера.
– Вы хотите сказать – граф Роланд Ширинг?
– Он сегодня выглядел очень довольным.
– Но ведь граф не…
– … связан как-то с «ударом» короля? Разумеется, нет. – Настоятельница доела мясо. – Об этом опасно говорить, даже с друзьями.
– Воистину так.
В дверь постучали, и вошел Савл Белая Голова. Еще один ровесник Годвина. Может, это и есть соперник? Умный, способный, обладавший вдобавок существенным преимуществом – дальним родством с графом Ширингом. Но Годвин сомневался, что Белая Голова настолько честолюбив и желает отправиться в Оксфорд. Савл был набожен и робок, принадлежал к тем, кому смирение не вменяется в добродетель, поскольку подобное поведение для них естественно. Впрочем, как известно, возможно все.
– В госпиталь прибыл раненый рыцарь, – поведал Савл.
– Интересно, – отозвался Антоний, – но вряд ли настолько важно, чтобы позволять себе врываться в зал, где обедают настоятель и настоятельница.
Монах, похоже, испугался.
– Прошу меня простить, отец-настоятель, – пролепетал он. – Но возникли разногласия по поводу того, как его лечить.
– Ладно, гусь все равно кончился. – Приор со вздохом встал.
Сесилия пошла вместе с ним, следом двинулись Годвин и Савл. Они вступили в северный трансепт собора, миновали средокрестие и по южному трансепту добрались до внутреннего дворика, за которым располагался госпиталь. Раненый рыцарь лежал на ближайшей к алтарю кровати, как и полагалось по его знатности.
Антоний невольно издал возглас изумления, и на мгновение в его взгляде промелькнул страх, но он быстро взял себя в руки, и лицо приняло прежнее бесстрастное выражение.
Однако от Сесилии смятение приора не укрылось.
– Вы его знаете?
– Кажется, это сэр Томас Лэнгли, один из людей графа Монмута[9].
Раненый, красавец лет двадцати с небольшим, был широк в плечах и длинноног. Его успели раздеть до пояса, и на мускулистом теле виднелись шрамы, полученные во многих схватках. Рыцарь был бледен, черты его лица заострились от изнеможения.
– На него напали на дороге, – объяснил Савл. – Ему удалось отбиться, но затем пришлось идти пешим больше мили до города. Он потерял много крови.
Левая рука рыцаря была вспорота от локтя до кисти – судя по всему, столь чистую рану нанес острый меч.
Возле раненого стоял старший врач монастыря, брат Иосиф, невысокий мужчина за тридцать с большим носом и плохими зубами.
– Рану следует оставить открытой, – сказал он, – и обработать мазью, чтобы появился гной. Тогда скверные гуморы выйдут и рана заживет изнутри.
Антоний кивнул.
– Так в чем же спор?
– Цирюльник Мэтью придерживается иного мнения.
Мэтью, низенький, худой, с ярко-голубыми глазами и очень серьезный, был городским хирургом и цирюльником. До сих пор он почтительно держался позади, но теперь вышел вперед с кожаной сумкой, в которой хранил дорогостоящие острые ножи.
Антоний, невысоко ценивший Мэтью, спросил у Иосифа:
– Что он здесь делает?
– Они знакомы, рыцарь послал за ним.
Антоний обратился к Томасу:
– Если хотите, чтобы вас лечил мясник, почему пришли в госпиталь аббатства?
На белом лице рыцаря мелькнуло подобие улыбки, но сил ответить у него, судя по всему, не было.
Мэтью, очевидно, нисколько не испугали презрительные слова Антония.
– На полях сражений я видел много подобных ран, отец-настоятель, – уверенно произнес цирюльник. – Лучшее лечение самое простое. Рану нужно промыть теплым вином, затем туго перевязать. – Похоже, он только с виду казался почтительным, а на самом деле был готов отстаивать свое мнение.
– Интересно, а что скажут двое наших молодых монахов? – спросила мать Сесилия.
Антоний криво усмехнулся, но Годвин был уверен, что правильно истолковал замечание настоятельницы. Это проверка. Выходит, все-таки его соперник в борьбе за деньги – Савл.
Ответ лежал на поверхности, и Годвин выступил первым:
– Брат Иосиф изучал труды древних и, несомненно, знает больше других. Сдается мне, Мэтью даже не умеет читать.
– Еще как умею, брат Годвин, – возмутился цирюльник. – У меня есть книга!
Антоний рассмеялся. Цирюльник с книгой – все равно что лошадь в шляпе.
– Что за книга?
– «Канон» Авиценны, великого мусульманского врача. Перевод с арабского на латынь. Я ее прочел всю, медленно.
– И твое лекарство предлагает Авиценна?
– Нет, но…