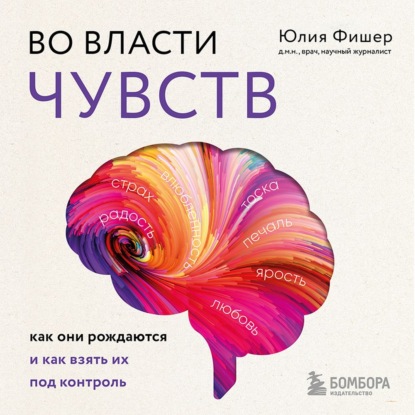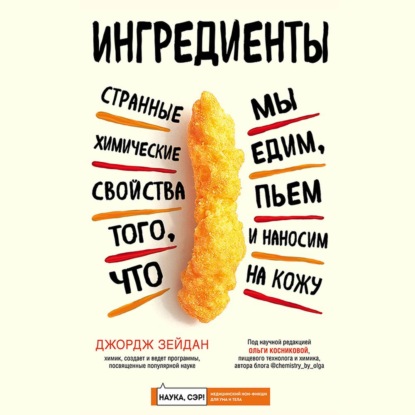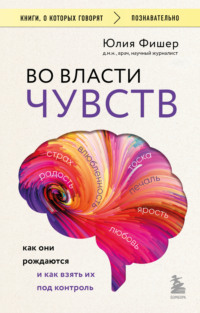Во власти чувств. Как они рождаются и как взять их под контроль
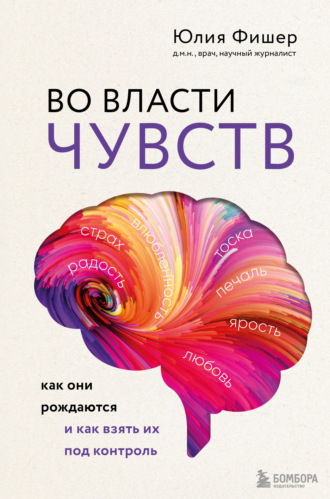
Полная версия
Во власти чувств. Как они рождаются и как взять их под контроль
Жанр: книги по психологиинаучно-популярная литературамедицина / здравоохранениенейропсихологияо психологии популярнобиологиясостояния и явления психикинейробиологияпсихические процессыинтересные фактыповеденческая психологияпсихологические исследованиячеловеческий мозгзнания и навыкиздоровье и медицина
Язык: Русский
Год издания: 2020
Добавлена:
Серия «Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу