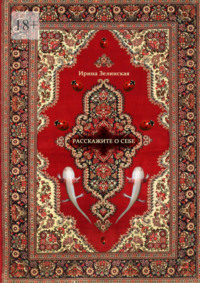Полная версия
Где? – Неважно. Когда? – Все равно
Год назад Кира, в очередной раз захваченная безответной влюбленностью, ехала на дачу на последней электричке. Все, что осталось в памяти от этого вечера, – длинноволосый молодой человек, стремительно несшийся по мосту. Кира почему-то вперилась в его силуэт и, когда он спустился на платформу, даже не удивилась, что этот молодой человек остановился рядом и предложил помочь занести в вагон сумку. Потом всю дорогу развлекал беседой и просил оставить номер. Затем написал свой телефон на обложке Кириного ежедневника, и, спустя несколько дней, она все-таки позвонила по этому номеру, и ее безадресная любовь потихоньку потекла в направлении Паши. Единственной совместной прогулки Кире хватило, чтобы понять, что от этого человека нужно держаться подальше. Но понять не значит выполнить. Паша был существом, выпадающим из Кириных представлений о жизни, человек, ходящий по таким граням, что подчас было совершенно неясно, как он еще не свалился на абсолютное дно. Кире стало понятно, что образ, живший в голове, только по близорукости можно было спутать с Пашей. По сей день мучило это дурацкое знакомство, приправленное судьбоносной мистикой. А теперь неожиданно появился Федор. И что-то подсказывало, что это и есть настоящая судьба. Вот он, тот самый идеал, только живой, настоящий. И в чем-то такой же непутевый, как и сама Кира.
Думая об этом, Кира смотрела, как ее отражение сливается с городским фоном – уносящимися домами, плечом к плечу стоящими по берегам Большого проспекта, как болезненно ветвятся черные руки деревьев, контрастно подсвеченные воспаленным фонарным светом, как растет энтропия лихорадочной суеты улиц. Глядя на такое отражение поневоле задумываешься, есть ли что-то настоящее и жив ли еще сам или уже растворился в заоконном месиве.
Придя домой, Кира с трудом сняла кольца с распухших от мороза пальцев и нырнула в горячую ванну. Казалось, она смотрит на себя со стороны и не понимает, для чего это тело, как оно может носить в себе столько чувств и переживаний. Она смотрела на полки с шампунями, расческами и бритвенными станками на фоне белых, как тетрадный лист в клеточку, квадратов кафеля, а взгляд уходил сквозь них, во Вселенную. В голове начинали пульсировать строки: «Может, вены себе перерезать? Ночка станет короче на нас…». Навязчивая пляска слов вывела ее из оцепенения. Кира нашарила на стиральной машине тетрадь со стихами, которую брала с собой всегда и везде, за исключением разве что туалета, и начала записывать. Стихотворение получилось из тех, что и не стихотворения вовсе: безотвязные повторения образов и мыслеформ, работающие как заклинания, не имели никакой художественной ценности, но зато вполне вмещали в себя мрачные настроения. На этот раз желание дезертировать из жизни вместе с утекающей из ванны водой не ушло в рифмы, а начало преломляться в какое-то истерическое настроение, где главной мыслью становилась известная формула «чем хуже – тем лучше».
На беду, ближе к ночи Кире позвонил Паша:
– Привет! Весь день тебя вспоминал. Решил, что нужно позвонить. Чем занимаешься? Все еще читаешь своих дурацких поэтов?
– Привет. Вроде того. Надоело все. Есть шанс быть не допущенной до экзаменов, хочется писать стихи, а получается какая-то слизь, меня не любят те, кого люблю я. Зачем в таких обстоятельствах жить, совершенно непонятно.
– Я так рассуждал несколько раз. Потом просыпался в реанимации и очень ясно понимал, что в чем-то ошибся. После промывания желудка особенно остро чувствуешь, что облажался. Знаешь, как делается промывание желудка?
– Не знаю и знать не хочу.
– А знаешь, как выглядит человек, умерший от отравления?
– Догадываюсь, что отвратительно. И все-таки. Столько людей живет и страдает. Зачем, спрашивается?
– А как же один популярный персонаж иудейской древности, который сам терпел и другим велел? Для большинства это аргумент.
– Сомневаюсь. Особенно, если, скажем, у человека смертельное заболевание. Все равно ведь умрет. И будет мучительно и тяжело. Так чего ждать? Я вот думала-думала и нашла только один ответ. Решившегося на последний шаг не напугаешь короткой физической болью. Его не напугаешь и адовым котлом в окружении чертей с шумовками, проверяющих грешников на готовность. Единственное, что может остановить от последнего шага – это возможность повторного сценария, и не просто повторного, с потенциальным исправлением ситуации, а поставленного на вечный repeat в той самой, последней, предрешающей точке.
– Может и так. Иначе бы все уже повыпиливались. А про болезни вспоминать вообще тупо. У всех вирус смерти. Так какая разница? Если ты это мне сейчас говоришь, чтобы поделиться планами, знай, что я от тебя так просто не отстану. Если это способ от меня сбежать, то не надейся.
– Конечно, нет. Я бы вообще хотела щелкнуть по тумблеру – и чтобы все выключилось. Чтобы ни мыслей, ни чувств.
– Спать не пробовала?
– Не помогает. А впрочем, да, пора уже. Завтра снова в школу. Пора ложиться.
– Пока. Не вздумай меня здесь бросить.
Кира отключила телефон. Вода в ванне уже совсем остыла, и на ее поверхности подрагивало отражение лампочки. От него щипало глаза, как от городских огней в лужах. Захотелось быть не здесь. Среди удручающего контекста вроде проблем в школе, грозивших недопуском к экзаменам, маминых красочных пророчеств о том, как Кира будет работать на заводе, дворником, проституткой (нужное подчеркнуть), утомительной настойчивости Паши, вечных цейтнотов, недосыпов, усталости и авитаминозов, оставалось единственное обстоятельство, которое действительно было несовместимо с жизнью – безответная любовь, которой Кира мучительно захлебывалась.
Глава 4
Февраль
За дверную ручку пару раз дернули. Лайка фальцетом заливалась в прихожей. Через мутное стекло глазка Кира увидела Пашу и поняла, что утро добрым уже не будет.
Вздохнув и морально приготовившись, Кира открыла дверь.
– Привет. Это опять я. Можно войти? – спросил гость, перетаптываясь на пороге. Грязная лужа из талого снега текла по линолеуму.
– Привет. Если честно, ты не вовремя. Я только что встала, и у меня еще куча уроков несделанных, – Кире ужасно не хотелось общаться с Пашей, памятуя о том, что встречи с ним как правило затягивались на целый день, а наводить порядок в голове после такого общения приходилось еще несколько суток.
– Я ненадолго, мне просто нужно тебе кое-что отдать.
– Что у тебя с рукой? – Кира только сейчас заметила, что одна его рука была в шерстяной варежке, хотя он принципиально не носил ни варежек, ни перчаток.
– Так, ничего особенного. Скучал по тебе, – буркнул он, поправляя кожаные напульсники на запястье и придерживая сползающую варежку.
– В смысле? – недобрые мысли начинали стучаться к Кире в голову.
– Ты знаешь. Так можно я войду?
– Чай будешь? – спросила она по дороге на кухню и тут же мысленно саму себя отругала: «Чертово воспитание! Что за привычка всем приходящим предлагать чай?»
– Давай, – крикнул Паша уже из комнаты.
Кира принесла кружки и села рядом с Пашей на диван:
– Держи, только не обожгись – очень горячий. Так что с рукой?
– Говорю же, скучал, думал о тебе и понял, что без тебя не хочу жить.
Кира начинала вскипать. Она бы выставила Пашу за дверь, но поскольку тот часто ей рассказывал о своем житье-бытье, моральных сил на это ей не хватало. К восемнадцати годам за плечами юноши висели две неудавшиеся попытки суицида, клиническая смерть и немалый опыт психоделических путешествий. Мотивы к тому были сугубо семейные: бизнес отца внезапно рухнул в самом конце девяностых, отец – неудачливый предприниматель – разочаровавшись в жизни, внезапно расширил свою сексуальную ориентацию, после чего последовали развод и пристрастие матери-художницы к алкоголю. Сын же, как ни парадоксально, остался жить с папой. Главным воспоминанием о доме стали постоянные скандалы и кочевья. Квартира в центре была продана. Они переезжали все ближе к окраине, потом еще ближе, и еще. Пейзаж из окон, по воспоминаниям Паши, постоянно менялся, дома напротив становились выше, затем удалялись, свет из их окон становился все размытей, пока не скрылся пульсирующим пятном города где-то далеко. А отец в конце концов перебрался в область и построил дом в Сологубовке, прославленной неизменно высокими урожаями на псилоцибы. Этот дом Паша мечтал превратить в подобие сквота, где собирались бы сумасшедшие металлисты и художники для совместного творчества и морального разложения.
– Я долго думал и решил, что это должно храниться у тебя, – парень достал из торбы диск с нарисованной от руки обложкой и надписью: «Love is Death. For my darling with love».
– Ты все-таки решил дать послушать мне свою музыку? – недоверчиво прищуриваясь, спросила Кира. Она без интереса вертела в руках пластиковую коробочку.
– Нет, я уже говорил тебе, что пока ты не станешь моей женой, тебе нельзя слушать мои опусы. Шансов нет, но все равно не слушай. Просто сохрани.
– Да, шансов нет.
В прихожей снова залаяла собака, и кто-то ключом открыл дверь. Родители вернулись.
Мама заглянула в комнату, где между Кирой и Пашей проходил очередной нервный разговор:
– Павел, здравствуйте! Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! Сырников хотите? Завтракали?
– Здравствуйте! Нет, спасибо.
– Ну и зря, вкусные сырники. Надумаете – говорите, – подмигнула она, закрывая дверь. Маме чрезвычайно нравился Паша, при каждом случае она говорила дочке, что у него невероятно одухотворенное лицо, что с него впору писать иконы и что он похож на Иисуса. Кира несколько раз пыталась объяснить маме, что та сильно заблуждается, поскольку Паша – убежденный сатанист1 и ничего общего с Христом у него точно нет. Но родители, по преимуществу, глухи и слепы, когда в игру вступает их интуиция и опыт, потому что живут в другом измерении и времени.
Мария Николаевна не была исключением. Она называла Петербург Ленинградом, для нее не существовало улиц Большой Конюшенной или Миллионной, вместо них она по-прежнему гуляла по улице Желябова или Халтурина, из-за чего на слух совершенно не ориентировалась в переименованном городе. Все самое прекрасное ассоциировалось у нее исключительно с прошлым. Со смертью обожаемого отца ее жизнь «для себя» словно бы закончилась. Мария Николаевна после развода осталась с трехлетним ребенком на руках и мамой-пенсионеркой. В результате с двадцати восьми лет, на фоне голодных девяностых, главной задачей для нее стало выживание, а стремление дать дочери образование превратилось в навязчивую идею, поскольку без диплома в перестроечном безвременье ей самой приходилось туго.
Кира молчала, надеясь, что гость уйдет. Казалось, что воздух в комнате потяжелел. Раздраженный юноша теребил варежку. Он решил во что бы то ни стало пробить оборону и добиться от Киры какой угодно реакции. Она же, напротив, намеренно перестала спрашивать про руку, чтобы не начинать хорошо известный разговор.
– Я соврал, с рукой все в порядке. Хотел посмотреть на твою реакцию.
– Посмотрел? – со всем возможным равнодушием спросила Кира.
– Нет, ты опять себя контролируешь, ты все время это делаешь! Мне кажется, что если ты себя отпустишь, то разнесешь все вокруг! Ты все время о чем-то думаешь и молчишь! А потом выясняется, что тебе жить надоело! Я ни хрена тебя не понимаю, я устал, я хочу быть рядом, а ты уходишь, и эта твоя тяга к смерти! Я там был, я знаю, что там. Там – полная фигня. Надо жить, ловить кайф! – оратор в Паше распалялся все больше и больше.
Кира по опыту знала, что гость вот-вот потеряет остатки самоконтроля и из него начнет сыпаться нецензурная брань, уже без эвфемизмов – обычный мат. Киру он коробил почти на физическом уровне.
– Во-первых, пожалуйста, говори тише. Мне еще родительских вопросов не хватало. Во-вторых, нет у меня никакой тяги к смерти, меня отчасти привлекает эстетика оной, не более того. Я всего лишь говорила, что жить проще, когда знаешь, что это не навсегда, что это только репетиция перед подлинным выступлением.
– Кто тебе это сказал?
– Он, – она показала на портрет Бродского в деревянной фоторамке, стоящий на стеллаже.
– Кто этот мужик?
– Бродский. Ты бы почитал его стихи. «Памяти Т. Б.», например.
– Сжечь его, если это от него курс на саморазрушение. Ты не слушаешь меня, это плохо кончится! – Паша встряхивал головой, чтобы убрать волосы, падающие на лицо и мешающие говорить, а она смотрела на него и чувствовала, как все дальше отодвигается ее длинноволосый идеал, с которым она когда-то перепутала Пашу, как от этого идеала отваливается хвост, косуха… и остаются только стихи.
Пашины упреки автоматически ею пропускались мимо ушей, в стрессовой ситуации Кира будто покидала тело и уходила вглубь себя. А там, в голове, звучали заученные наизусть строки: «Смерть – это то, что бывает с другими. Смерть – это то, что бывает с другими. Даже у каждой пускай богини есть фавориты в разряде смертных».
Внезапная тишина выбила из ритма стиха. Глухое молчание повисло в комнате. Паша закрывал лицо обеими руками, пряди волос падали вперед. Кира ошарашенно смотрела на него, не понимая, что происходит. Время прекратило ход, казалось, даже пыль повисла в воздухе. Почувствовав Кирин недоуменный взгляд, Паша, не отнимая ладоней от лица, хрипло, с нервным, задавленным смешком, сказал: «Черт, я плачу» – и весь сжался в судорожный, обиженный комок. Кира не знала, что делать, пересела ближе к нему, обняла, осторожно уперлась подбородком в его плечо и тихо-тихо говорила что-то успокаивающее. Так продолжалось долго. Кира гладила Пашу по голове:
– Не переживай. Думаю, все пройдет. А еще я думаю, что ты – шантажист.
Отклик последовал незамедлительно:
– И неплохой актер, – он убрал руки от лица, чтобы ее обнять. Лицо было красным, но скорее от прикосновения рук, а не от слез. Его голова лежала на Кирином плече, а она с тоской думала, что теперь он потерял остатки ее уважения. А от чувства жалости уже начинало тошнить.
Глава 5
Розовая устрица
Февраль сдал позиции, мрак рассеивался, хотя грядущее по-прежнему не просматривалось. На одной из лекций Кире довелось стать участницей странного эпизода. Свободных мест в актовом зале, где проходили занятия, было немного, и Федор оказался в следующем ряду, по диагонали от нее. Столики для письма откидывались от спинки впереди стоящего театрального кресла, народу набилось много, и писать приходилось, подчас задевая друг друга локтями.
– Тьфу ты! Стол отвинтили. – Федор громыхал оторванной доской, пытаясь ее закрепить. Неподалеку еще одна девушка с их курса обернулась назад и стала в упор его рассматривать.
– Какой хорошенький мальчик! Не видела тебя раньше! – барышня широко улыбалась, и на щеках проступали лукавые ямочки. Киру будто обдали кипятком. «Вот это подход! – подумала она. – Это не с малиновыми ушами сидеть оттого, что с тобой не поздоровались».
– Да уж полгода как тут, – пробасил Федя, судя по интонации испытывавший неоднозначные чувства от обрушившегося на него комплимента.
– Садись к нам! У нас место есть, – девушка показала на пустующее соседнее кресло.
– Благодарю, мне и здесь хорошо, – сказал юноша и открыл блокнот, изображая деятельность.
– Как тебя зовут? – не унималась брюнетка, кокетливо поправляя челку.
– Федор.
– А меня Саша. Пересаживайся к нам, поболтаем.
– Говорю же, мне и здесь удобно, – он явно начинал уставать от приставаний целеустремлённой девицы.
– Ну, тогда я сама к тебе пересяду, – она стала собирать вещи со столика и, обернувшись, заметила, что мест рядом с ним нет – справа и слева лежали чьи-то конспекты.
Кира, через голову которой Федор и девица перебрасывались репликами, подала голос, развернувшись к Федору:
– Хочешь, поменяемся: тут у меня с одной стороны свободно. Можете вместе сесть.
Федор перегнулся через спинку, удостоверился в том, что место в самом деле есть, и, быстро взяв вещи, пересел на соседнее с ней кресло. Кира собирала ручки и тетради, чтобы переместиться на следующий ряд, но вдруг услышала его голос, обращенный к брюнетке:
– Я сюда учиться пришел.
Барышня оскорбленно фыркнула и села обратно. Кайрос2 был пойман Кирой.
Когда занятия завершились, она быстро побросала вещи в рюкзак и, на ходу напяливая пальто, выскочила на улицу. Малая Садовая напоминала кегельбан наоборот, в котором нужно было уворачиваться от пешеходов, лавировать между ними, стараясь не снижать скорость. Завал в школе требовал выполнения огромного объема заданий, а это, в свою очередь, требовало времени, которого у Киры не было. Всю дорогу она чувствовала, а периодически и видела боковым зрением в отражениях витрин, как Федор шел за ней в нескольких метрах позади. Уже у турникетов в метро он догнал ее и, поравнявшись, сказал:
– Ты красиво ходишь. И быстро. Еле догнал.
– Привычка торопиться, – пожала плечами Кира.
На эскалаторе они спускались вместе, Федор рассказал, что живет на Дыбенко, и что район этот весьма унылый и надоел ему до черта, и что если бы не курсы в центре города два раза в неделю, то он бы уже с ума сошел в этой дыре. Потом Федор и Кира разбежались по разные стороны, и всю дорогу она думала, что же это было: комплимент, лесть, внезапный интерес? Казалось, что все это ей просто почудилось, что этот вечер – игра воображения или сон.
Дорога до дома у Федора занимала в два раза больше времени, чем у Киры. Рассматривая себя в отражении дверей с надписью «Не прислоняться», он думал о настырной девице, столь бесцеремонно оценившей его как «хорошенького мальчика», что, конечно, было оскорбительно при культивируемом образе декадента. И еще эта чебурашка в хайратнике, вся в феньках и цацках, как алтайский шаман, заблудившаяся во времени и промахнувшаяся минимум на пару поколений. В перерывах она из книжки не вылезает и делает вид, что никого не замечает, по улице идет с таким надменным видом, будто опаздывает спасать планету, или, как блаженная, голову запрокидывает и улыбается непонятно чему – уже не в первый раз замечено. А начнешь с ней разговаривать, так, вроде, ничего. Любопытно. Надо будет пообщаться.
С этого дня на всех последующих лекциях Федор и Кира сидели рядом. Спустя еще пару недель Федор начал приезжать на занятия раньше. Город притягивал, заманивал перспективой выстроившихся в линию домов, узорами перил и блеском шпилей. Однажды, оказавшись на Фонтанке за полтора часа до начала лекции, он заметил на набережной Киру, перегнувшуюся через ограду и смотрящую в воду.
– Категорически приветствую! – громко сказал он, по диагонали перейдя дорогу и оказавшись рядом.
– Привет! – она сняла с плеч рюкзак и запихнула туда пошарпанную тетрадь, которую Федор издалека не заметил.
– Я тут по городу болтался, думаю, дай раньше приеду, а то домой туда-сюда мотаться неохота. А ты что так рано тут делаешь?
– А я всегда заранее приезжаю. Пишу, читаю.
– Что читаешь?
– Бродского.
– А что пишешь?
– Стихи.
Федор смутился. Кира ответила так, будто ей задали из ряда вон глупый вопрос. Действительно, что же, если не стихи? Юноша кивнул и закурил, отбив по голубой пачке «Sovereign» ритм, наподобие марша:
– Почитать где-то можно?
– В документе Word. А вообще, печаталась в паре самиздатов да в газете «Молодежь Якутии». Не спрашивай, как так получилось!
– Не буду, хотя и загадочно! Про самиздат любопытно.
– Могу принести.
– Давай.
– Видел, как необычно сегодня тучи отражаются? – она кивнула на воду. – Как на картинах Дали. Все смотрю и не могу понять почему.
– Течение, наверно. Еще час с лишним до начала, давай, что ли, побродим, – предложил он.
Федор и Кира быстрым шагом перешли через мост Белинского и влились в толкотню Литейного проспекта, пробежали по проходным дворам Моховой, перешли через Аничков мост и за разговорами не заметили, как снова вышли на набережную Фонтанки. Двор Дома кино поманил распахнутой дверью парадной. Кира, заглянув внутрь, махнула рукой Федору, предлагая следовать за ней.
– Не боишься, что нас отсюда попросят? – Федор скептически смотрел на камеру наблюдения.
– Кому мы нужны? – Не оглядываясь, бросила Кира.
Перепрыгивая через две ступеньки, ребята поднялись на самый верх, но, увы, дверь на чердак, как и все двери на этажах, была закрыта на замок.
– Чудо не произошло, – Кира пару раз потянула дверь, и стала спускаться.
Федор подергал за ручку и развел руками, мол, ничего не сделать, и они не торопясь стали спускаться по неосвещенной лестнице вниз.
– Я бы что-нибудь съел, давай в «Устрицу» зайдем.
– Куда? – не поняла Кира.
– В «Розовую Устрицу». На последнем этаже.
Федор и Кира спустились с черной лестницы и зашли в вуз уже с набережной, совершив еще одно восхождение на седьмой этаж. Федор повел спутницу по коридору, который заканчивался отнюдь не тупиком, как думала Кира, а резким поворотом и малюсенькой, на три столика, столовой.
– Волшебство. Я ищу сокровища в парадных и дворах, а тут под боком такое, – Кира с интересом оглядывала столовую. На фуксиновых стенах висели сюрреалистические картинки.
Кира отказалась от перекуса, Федор заказал себе пиццу и чай, и занял место за одним из столиков:
– Редкая удача. Щас пара закончится и набегут, как тараканы, – тут не протолкнуться обычно.
– Я здесь не была никогда, – с удивлением оглядываясь по сторонам, заметила Кира. Она пристально всматривалась в акварельное безумие на стене, изображающее губы на треножнике и навевающее ей ассоциации с улыбкой Чеширского кота, оседлавшей звездолет.
– Что там? – спросил Федор и, жуя, обернулся по направлению ее взгляда. – Напоминает лыбу кэрролловского кота.
– Да, – кивнула она, – тоже об этом сейчас подумала.
– А еще Шклярского.
– «Пикник»? – на всякий случай уточнила она.
– Да, он же рисует всякие богомерзкие сюжеты. Вроде, похоже чем-то.
Продолжить беседу о прекрасном им не дала толпа голодных студентов, с шумом хлынувших в кафе и напомнивших, что пора отправляться на лекцию. Федор стоя опрокинул в себя остатки чая и, грохоча ремнями косухи, пошел вслед за девушкой к аудитории.
А уже в четверг Кира вручила ему диск с подборкой выпусков самиздата с интригующим названием «Поганая молодежь», где, как бы невзначай, в отдельной безымянной папке была подборка ее тщательно отобранных стихов.
Глава 6
Стихотворчество
Накануне следующего вторника перед Федором стояла непростая задача. Нужно было написать стихи. Притом небанальные. Поэтическим эталоном для Федора было творчество Хармса и некоторых других представителей ОБЭРИУ, поэтому единственное, что пришло в голову, это читать их. Спустя тридцать страниц мыслеформы начали ворочаться в голове, образы стали превращаться в слова, мышление ускорилось и… «перейти зрачков тоннелем в несмиренный упокой» … «отвернуться и разрезать воздух пламенной рукой». Строки не склеивались, смысл ускользал, но предчувствие надвигающейся лавины слов уже щекотало горло и било электрическими разрядами в кончики пальцев, пляшущих по клавиатуре. Федор открыл блокнот на экране компьютера и начал торопливо стучать по клавишам: Смертью чешется висок вниз и вверх путь недалек брошен в полночь словно хлам и рассован по углам конь обернутый в репей сдохшей рыбы чешуя не до вас двуногих вшей обожателей гнилья будто насморк жизнь пройдет кашлем в глотке бытия предъявляет полный счет тот кто сам себе судья.
Результат не слишком обрадовал. Но для начала и это было неплохо. Останавливаться было нельзя. Слова, как грибы, не растут поодиночке; найдя одно, нужно продолжать поиски, пока не нападешь на след верного образа, точной формулировки, и тогда уже только успевай записывать. Однако следующий наплыв слов и образов оказался настолько экспрессивным и ритмически рельефным, что решено было прерваться на перекур.
Облокотившись на подоконник, Федор открыл окно и зажег сигарету. Квартира располагалась на первом этаже, и вид был на красную кирпичную стену трансформаторной будки. За ней брякали ползущие к кольцу трамваи. Неподалеку текла узкая и желтая река Оккервиль, изгибаясь дикими, крутыми берегами, с которых местная шпана время от времени скатывала в реку автомобили, демонстрируя таким образом свою ловкость и сообразительность. Внезапный порыв ветра внес клубы дыма обратно в комнату, Федор разогнал их ладонью, затушил сигарету об отлив, бросил окурок в траву и поспешно закрыл окно. Еще раз перечитав только что написанное и отправив его в корзину, молодой человек подошел к книжному шкафу и извлек оттуда избранные сочинения Байрона. Через полчаса родилось новое стихотворение с более чем точным названием: «Приступ байронизма». Судьба наверно вспоминать невиданное никогда ни в чем глазами солнце пожирать быть вам и свету палачом в душе хозяйничает страсть чадит Гоморрой и Содомом для вас свобода как напасть и красота вам не знакома я сам себя считал когда-то мерилом всех грехов людей но потерял свой счет утратам отрекся от своих идей нет мне не нужно больше крови и буду я всегда ничей я отрекусь от прежней роли чтоб сохранить огонь очей.