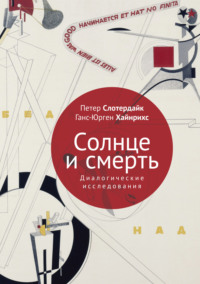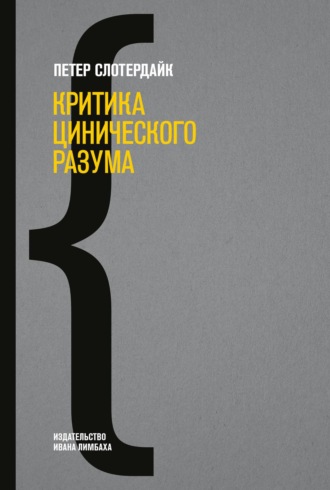
Полная версия
Критика цинического разума
Человеческое знание вынуждено ретироваться, отступая в границы истории, филологии и логики. Нечто вроде страдания от этого отступления проявляется у Лессинга, который не без правдоподобия уверяет, что его сердце охотно оставалось бы более верующим, чем позволяет ему разум. Задавая вопрос: «А откуда это может быть известно?» – Просвещение элегантно, без особой агрессивности подрезает корни знанию, полученному в откровении. При всем желании человеческий разум не может найти в тексте, который признается священным, чего-то большего, чем исторические допущения, сделанные людьми. Постановкой простых филологических вопросов уничтожается притязание традиции на абсолютность.
Историко-филологическая критика Библии неотразима, но абсолютизм веры, присущий организованной религии, тем не менее отнюдь не желает принимать к сведению, что он повержен в пыль по всем правилам искусства борьбы. Он «просто существует» дальше, правда, уже не так, будто полного разгрома и разоблачения не было, но так, будто из произошедшего не следует делать никаких выводов, кроме одного: придется изучать и отлучать от Церкви критиков. И только после фундаментальной критики, произведенной в Новое время, теология полностью погружается на корабль дураков – корабль так называемой веры – и отплывает все дальше и дальше, оттолкнувшись от берега, где безраздельно воцарилась критика, рассматривающая в лупу каждую букву. В XIX веке Церкви дают сигнал: соединять посткритической иррационализм с политической реакцией. Как и все институции, полные воли к выживанию, они умеют выдерживать «теоретическое преодоление» своих оснований. Отныне понятие «существование» попахивает трупным ядом христианства, гнилостным разложением того, что подверглось критике, но, несмотря на это, все никак не умрет[21]. С тех пор у теологов появляется еще одна общая с циниками черта – неприкрытое стремление к самосохранению. В бочке дырявой догматики они уютно устроились до самого дня Страшного суда.
II. Критика религиозной иллюзии
Обман всегда заходит дальше, чем подозрение.
ЛарошфукоСтратегически мудро просветительская критика феномена религии сосредоточивается на атрибутах Бога; за щекотливый «вопрос о существовании» она берется лишь во вторую очередь. Не в том дело, «есть» Бог или нет, – существенно то, что подразумевают люди, которые утверждают, что Он существует и что Его воля состоит в том-то и в том-то.
Стало быть, в первую очередь надлежит выяснить, что именно нам сообщают о Боге, делая вид, будто знают это, кроме того, что Он существует. Материалом для этого нас обеспечивают религиозные традиции. Так как Бог не предстает перед нами «эмпирически», решающую роль в ходе критики играет сопоставление атрибутов Бога с человеческим опытом. Ни при каких обстоятельствах учение о Боге не может уклониться от этой атаки, ведь такое уклонение было бы равносильно превращению его в радикальную теологию, построенную на мистериях, или, если проявить еще большую последовательность, оно пришло бы к мистическому тезису о Боге, которого невозможно назвать по имени и о котором ничего знать нельзя. Этот корректный с точки зрения философии религии тезис обеспечивал бы достаточную защиту от просветительских допросов, призванных выявить человеческие фантазии о Боге, которые скрыто присутствуют в представлениях о Его атрибутах. Но при таком отказе, свойственном мистике, религия не может стать социальной институцией; она жива тем, что представляет в надежно воспроизводимых формах устоявшиеся повествования (мифы), стандартизованные атрибуты (имена и образы), равно как и стереотипные формы обихода со священным (ритуалы). Таким образом, требуется только более детально рассмотреть эти представления, чтобы выйти на след, ведущий к тайне их фабрикации. Текст Библии дает для критика религии решающую подсказку. Первая книга Моисея 1, 27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его». Вне всякого сомнения, было бы верным и обратное толкование этого соотношения образов. Отныне нет никакой загадки, откуда происходят образы; человек и его опыт – вот материал, из которого сделаны официальные фантазии о Боге. Религиозный взор проецирует земные представления на небеса.
Одна из таких элементарных проекций – как же может быть иначе! – возникает из сферы представлений о семье и о зачатии. В политеистических религиях обнаруживаются достаточно запутанные, часто даже весьма фривольные близкородственные романы и сексуальные аферы божеств, в чем можно легко убедиться, изучая истории греческих, египетских и индуистских «обитателей Олимпа». Никто не стал бы утверждать, что человеческая способность воображения, рисуя небесное население, выказывала чрезмерную скромность. Даже столь безупречное в теологическом отношении христианское учение о Троице не свободно от фантазий о семье и о деторождении. И все же его особая рафинированность позволяет Марии забеременеть от Святого Духа. Сатира разобралась, в чем состоит суть этого вызова. Посредством его должно быть устранено представление, что между Отцом и Сыном существует связь, вытекающая из сексуальных отношений. Христианский Бог, может, и способен «порождать», но не способен заниматься сексом, в силу чего кредо, сформулированное с истинной утонченностью, гласит: genitum, non factum[22].
Близко родственной идее порождения является идея творения, которое приписывается в особенности верховным божествам или богам монотеистических религий. Здесь примешивается человеческий опыт производства, корни которого уходят в эмпирию крестьян и ремесленников. В работе человек узнавал себя самого в качестве модели, как творца, как первосоздателя нового, не существовавшего ранее. Чем больше прогрессировала механизация мира, тем больше представление о Боге менялось, уходя от биологического представления о зачатии и порождении к представлению о производстве; в соответствии с этим Бог порождающий все более превращался в фабриканта мира, в первого его изготовителя.
Третья элементарная проекция – проекция деятельности помощника – возможно, наиважнейшее из представлений, конституирующих религиозную жизнь. К Богу как помощнику в житейских невзгодах и на смертном одре обращена большая часть всех религиозных призывов. Но поскольку Божья помощь предполагает власть Бога над происходящим в мире, фантазия о Боге как о помощнике смешивается с человеческим опытом, содержащим познания об опеке, заботе и правлении. Популярный образ Христа – изображение его добрым пастырем, пастухом. На протяжении истории религии богам были отведены области их власти и ответственности, будь то в форме власти над элементами природы, такими как море, река, ветер, лес и урожай в поле, или в форме властвования над сотворенным миром в целом. Невозможно не видеть, что эти проекции пронизаны политическим опытом; власть Бога представляется по аналогии с функциями предводителя племени или короля. Религия феодального общества менее всего скрывает, что ее Бог – результат политической проекции, без колебаний превращая Бога в наивысшего по своему положению феодала и обращаясь к нему с использованием феодального титула «господин»; по-английски еще и сегодня говорят My Lord.
Наивнее всего антропоморфизм или социоморфизм проявляются там, где делаются попытки изобразить богов. По этой причине размышляющие религии и теологии ввели строгие запреты на изображение Бога: они поняли опасность вещного воплощения божества. Иудейство, ислам, а также известные «воюющие с изображениями» фракции христианства практиковали в этом отношении интеллигентное воздержание. Уже сатира просветителей потешилась над африканскими божками, для которых черный цвет был столь же сам собой разумеющимся, сколь и узкий разрез глаз для азиатских идолов. Она повеселилась на славу, прикидывая, как могли бы представлять своего бога львы, верблюды и пингвины: как льва, верблюда и пингвина.
Открыв этот механизм проекций, критика религии дала в руки просветительского движения острое оружие. Нетрудно продемонстрировать, что механизм проецирования в основе своей всегда один и тот же – неважно, идет ли речь о чувственных наивных представлениях, вроде узких глаз и седых дедовских бород, или о более тонких атрибутах, таких как личность, первоавторство при сотворении, перманентность или способность предвидения. При всем при том последовательная критика религии оставляет нетронутым вопрос о «существовании Бога». Ее рациональная тактичность состоит в том, что она не покидает сферу, очерченную вопросом: «Что я могу знать?» Критика претерпевает догматический рецидив метафизики только тогда, когда она позволяет себе негативно-метафизические высказывания[23], перескакивает, таким образом, через границу того, что можно знать, и начинает исповедовать бестолковый атеизм. С этого момента приверженцы организованных религий могли с удовлетворением констатировать сближение «атеистического мировоззрения» с теологическим; ведь там, где сохраняется фронтальное противоречие, лобовое противостояние, не происходит никакого прогресса, выводящего за пределы обеих позиций на более высокий уровень, а большего и не требуется тем институциям, для которых главным является самосохранение.
Наряду с антропологическим разоблачением проекций, определяющих представление о Боге, Просвещению с XVIII века известна и вторая стратегия подрывных действий, в которой мы открываем зародыш современной теории цинизма. Она известна под названием теории обмана со стороны священников. С ее помощью Просвещение бросает первый инструменталистский взгляд на религии, задавая вопросы: кому полезна религия и какую функцию она выполняет в жизни общества? Ответ на эти вопросы – он кажется на первый взгляд очень простым – просветители дают без заминки. Во всяком случае, им требуется всего лишь оглянуться на тысячелетнюю историю христианской религиозной политики от Карла Великого до Ришелье, чтобы этот ответ найти, наблюдая следы приукрашенного религией насилия:
Все религии воздвигнуты на почве страха. Непогода, гром, бури… – вот причины этого страха. Человек, который чувствовал себя бессильным перед происходящим в природе, искал для себя прибежища под защитой существ, которые были сильнее, чем он сам. Лишь позднее честолюбцы, рафинированные политики и философы научились извлекать выгоду для себя из легковерия народа. Для этой цели они изобрели множество столь же фантастических, сколь и жестоких богов, которые не служили никакой иной цели, кроме как укреплять и сохранять их власть над людьми… Так возникли различные формы культов, которые, в конечном счете, были нацелены только на то, чтобы придать существующему общественному порядку своего рода трансцендентную легальность… Ядро всех культовых форм составляет жертва, которую отдельный человек должен принести ради блага сообщества… Таким образом, далее, нет ничего удивительного в том, что от имени Бога… значительное большинство людей угнетается маленькой группой людей, которые сделали религиозный страх эффективным своим союзником»[24].
Эта инструменталистская[25] теория религии изъясняется без обиняков. Правда, и она объясняет генезис религий человеческой беспомощностью (проекцией помощника). Но более существенным в ней является прорыв к открыто рефлексивной, демонстративно инструменталистской логике. В вопросе о функциях и применении религии заложен созданный критикой идеологии динамит будущего – ядро, вокруг которого кристаллизуется современный рефлексивный цинизм.
Для просветителя не составляет труда сказать, для чего существует религия: во-первых, для победы над страхом перед жизнью, во-вторых, для легитимации основанных на угнетении общественных порядков. Налицо историческая последовательность возникновения функций, что явственно подчеркивается в тексте («Лишь позднее…»). Те, кто эксплуатирует религию и пользуется ей, должны быть людьми иного калибра, чем народ, верующий бесхитростно и под влиянием страха. Автор соответствующим образом выбирает выражения: говорится о «честолюбцах» и о «рафинированных политиках и философах». Эпитет «рафинированный» не следует принимать чересчур всерьез. Оно относится к а-религиозному сознанию, которое использует религию как инструмент господства. Ее единственная задача – обеспечить в душе подданных готовность беспрекословно идти на жертвы.
Просветитель предполагает, что власть имущие знают это и, сознательно все просчитав, позволяют религии действовать в своих интересах. Ничего иного и не подразумевает «рафинированность», то есть «утонченность» господского знания. Сознание власть имущего освободилось от религиозного самообмана, однако оно позволяет обману действовать дальше – для собственной выгоды. Оно не верит само, но позволяет верить другим. Многим приходится быть глупыми, чтобы немногие оставались умными.
Я утверждаю, что эта просветительская теория религии представляет собой первую попытку логически сконструировать рефлексивный господский цинизм Нового времени[26]. Но эта теория не смогла прояснить собственную структуру и диапазон действия и в ходе дальнейшего теоретического развития сошла на нет. В общем и целом возобладала концепция, в соответствии с которой принято полагать, что критика идеологии только у Маркса нашла свою действенную форму, над которой продолжали работать системы Ницше, Фрейда и других. Авторы большинства учебников придерживаются мнения, что теория обманывающих священников была недостаточно глубока, а потому с полным основанием была преодолена «более зрелыми» формами социологической и психологической критики сознания. Это верно, но лишь отчасти. Можно продемонстрировать, что эта теория принимает во внимание такой параметр, который совершенно не могут объяснить социологические и психологические критики; более того, они абсолютно не способны его заметить, когда он начинает проявлять себя в пределах собственной области: параметр рафинированности.
Теория обмана более комплексно рефлексивна, чем политэкономическая и глубинно-психологическая разоблачительные теории. Эти две последние помещают механизм обмана позади ложного сознания: его обманывают, оно обманывается. Теория обмана, напротив, исходит из того, что механизм заблуждения можно рассматривать как биполярный. Можно не только подвергаться обману или впадать в заблуждение – можно использовать то и другое против других, оставаясь не обманутым и не заблуждаясь. Именно это явственно открывалось взору мыслителей эпохи рококо и просвещения – впрочем, многие из них изучали античный кинизм (например, Дидро, Виланд). Они называют эту структуру – за недостатком более развитой и совершенной терминологии – «рафинированностью», связанной с «честолюбием»; и то и другое качества были во все времена достаточно хорошо известны тем, кто изучал человека придворного или городского. На самом же деле теория обмана представляет собой крупное логическое открытие, подталкивающее критику идеологий к созданию концепции рефлексивной идеологии. Ведь нетрудно заметить, что вся остальная критика идеологий имеет склонность покровительственно относиться к «ложному сознанию» Другого и считать его одурманенным, сбитым с толку. Теория обмана, наоборот, предполагает уровень критики, на котором за противником признается по меньшей мере столь же развитый интеллект. Она настраивает себя на серьезное состязание с сознанием противника, вместо того чтобы снисходительно комментировать его, поглядывая свысока. Поэтому с конца XVIII века философия получила в руки начало той нити, которая ведет к критике идеологий, осуществляемой сразу в нескольких измерениях.
Рисовать портрет противника, находящегося начеку, сознательного обманщика, как рафинированного «политика» – одновременно и наивно, и рафинированно. Таким образом, дело доходит до конструирования рафинированного сознания еще более рафинированным сознанием. Просветитель превосходит обманщика, мысленно прослеживая его маневры и выставляя их на всеобщее обозрение. Если обманывающий священник или носитель власти – это рафинированные умы, то есть утонченные современные представители господского цинизма, то просветитель, в противоположность им, выступает как метациник, как носитель иронии, сатирик. Он может самостоятельно проследить выстраивание в голове противника обманных маневров и, высмеяв, взорвать их: «Уж не хотите ли вы купить нас так дешево?» Быть может, тут вряд ли обойдется без известного рефлексивного клинча, когда намертво вцепившиеся друг в друга противоборствующие сознания начинают прорастать друг в друга, сливаясь до неразличимости. В этой атмосфере Просвещение ведет к упражнениям в подозрительности, чтобы превзойти обман, постоянно будучи начеку.
Рафинированное соперничество подозрения и обмана можно продемонстрировать на примере приведенной выше цитаты. Вся пикантность в том, кому принадлежит это высказывание. А принадлежит оно просвещенному священнику – одному из тех идущих в ногу со временем и ловких аббатов XVIII века, которые фигурировали в галантных романах той эпохи, обогащая их собственными эротическими приключениями и непринужденными разумными разговорами о том о сем. Будучи, по роду занятий своих, в известной степени знатоком ложного сознания, аббат выбалтывает профессиональные секреты. Сцена выстроена так, как будто священник, критикуя священничество, забывает, что это относится и к нему самому; в этот момент его устами говорит автор (вероятно, аристократ). По отношению к собственному цинизму аббат остается слепым. Он выступает на стороне разума прежде всего потому, что разум никак не возражает против его сексуальных желаний. Трибуной, с которой священником произносятся пикантные речи, посвященные критике религии, выступает любовное ложе, которое он как раз в этот момент делит с очаровательной мадам К. И все мы – рассказчица Тереза, адресат ее конфиденциальных записок и прочая посвященная в эти интимные тайны публика – оказываемся по ту сторону балдахина, отделяющего ложе от окружающего мира, и тоже наблюдаем всё и прислушиваемся к просветительскому шепоту вместе со всем тем, от чего впору отняться зрению и слуху, как писал в своем «Генрихе Четвертом» Генрих Манн, пожалуй, «к большой выгоде для остальных органов чувств».
Вся суть рассуждений аббата нацелена на то, чтобы устранить религиозные препоны, мешающие «похоти». Любезная дама подзадоривает его: «Ну хорошо, а как же быть с религией, любезный мой? Она весьма решительно запрещает нам радости плотских наслаждений вне брака». Часть ответа аббата и передает приведенная выше цитата. Ради своей чувственности он предпринимает разоблачение религиозных заповедей, однако при условии соблюдения строгой секретности. Здесь, в сверхрафинированном аргументе просветителя, проявляется его наивность. Монолог переходит в следующую беседу:
– Видите ли, любовь моя, вот вам, стало быть, мое наставление по части религии. Не что иное, как плод двадцати лет наблюдений и размышлений. Я всегда пытался отделить истину ото лжи, как велит разум. Поэтому, полагаю я, мы должны прийти к выводу, что наслаждение, которое, подруга моя, столь нежно связывает нас друг с другом, является чистым и невинным. Разве не гарантирует секретность, с которой мы предаемся ему, что оно не оскорбляет ни Бога, ни людей? Разумеется, без этой секретности такие развлечения могли бы вызвать невероятный скандал… В конце концов, наш пример мог бы сбить с пути наивные юные души и отвратить их от исполнения того долга, который они имеют перед обществом…
– Но, – возражала мадам, и, как представляется мне, с полным на то правом, – если наши развлечения столь невинны, во что я охотно готова поверить, почему мы не можем посвятить в них весь мир? Чему же повредит тогда, если мы разделим золотые плоды наслаждения с нашими ближними?.. Разве не вы сами снова и снова говорили мне, что не может быть большего счастья для человека, чем сделать счастливым других?
– Разумеется, я говорил это, дорогая моя, – согласился аббат. – Но это еще не означает, что мы вправе раскрывать такие тайны черни. Разве вы не знаете, что чувства этих людей достаточно грубы, чтобы злоупотребить тем, что представляется нам священным? Нельзя сравнивать их с теми, кто в состоянии мыслить разумно… Среди десяти тысяч людей едва ли есть двадцать, которые способны мыслить логически… Это причина, по которой мы вынуждены осторожно обходиться с нашими познаниями (S. 113–115).
Ни одна власть, которую однажды вынудили разговориться, не может допустить разглашения внутренних секретов. Но если обеспечить надлежащую секретность, она может оказаться баснословно искренней. Здесь, говоря устами аббата, она смелеет настолько, что поднимается до поистине провидческих признаний, во многом предваряющих теорию культуры Фрейда и Райха. Однако просвещенный представитель привилегированных кругов в то же время точно знает, что могло бы произойти, думай каждый так, как он. По этой причине пробудившееся знание господских голов желает определить для себя границы секретности; оно предвидит возникновение социального хаоса, если бы в одночасье вдруг исчезли идеологии, религиозные страхи и приспособленчество. Не имеющее никаких иллюзий, оно признает функциональную необходимость иллюзии для поддержания социального status quo. Так Просвещение работает в тех головах, которые постигли, как возникает власть. Его осторожность и его секретность – признаки реалистического мышления. Его отличает такая трезвость, что просто дух захватывает; и с этой трезвостью оно постигает, что «золотые плоды наслаждения» обильно родятся только при сохранении status quo, которое лишь немногим преподносит на блюдечке шансы на обретение индивидуальности, сексуальности и роскоши. Наверняка имея в виду тайны прогнившей власти, Талейран полагал, что сладость жизни познал только тот, кто пожил перед революцией.
Вероятно, какое-то значение должно иметь и то, что именно падкая до наслаждений и жаждущая обучения дама, а не кто-то другой простодушно требует сладких плодов наслаждения для всех и напоминает о счастье делиться, тогда как отличающийся реализмом аббат настаивает на сохранении секретности до тех пор, пока «чернь» не созреет для такой дележки? Вероятно, устами дамы говорит Женское, демократический принцип, эротическая готовность щедро одарять – этакая мадам Сан-Жен[27] в области политики. Она никак не может взять в толк, что наслаждений в мире ограниченное количество, и не понимает, почему то, что встречается столь часто, нужно искать на столь многих обходных путях.
Во вступлении к «Зимней сказке» Генрих Гейне приводил тот же аргумент о щедрости. В системе угнетения он отводит надлежащее место «старой песне, что надо отказывать себе во всем», которую власть имущие предоставляют петь глупому народу:
Я знаю мелодию, знаю и текст,И авторов знаю прекрасно;Тайком они попивают вино,Проповедуя воду гласно.Здесь собрано несколько мотивов – «критика текста», аргумент против личностей, победа рафинированности еще большей рафинированностью; результатом этого оказывается воодушевляющий поворот от рассчитанной на элиту программы господского цинизма к популярной песенке:
Достаточно хлеба растет внизу,Всем хватит милостью Бога;И миртов, и роз, красот и утех,И сладких горошинок много.Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,Для всякого здесь найдется;А горнее царство пускай воробьямИ ангелам достается.В поэтическом универсализме Гейне проявляется адекватный ответ классического Просвещения на христианство: оно ловит христианство на слове в области знания, не желая вдаваться в область веры, где предостаточно неоднозначностей и неопределенностей. Просвещение застает религию врасплох, поскольку относится к ее этическим принципам серьезнее, чем она сама. Потому лозунги Французской революции в начале Нового времени и представляются столь блистательными – они звучат как всехристианнейший отказ от христианства. Наличие в великих религиях непревзойденно-разумного и сообразного человеку – вот что позволяет им снова и снова возрождаться из их способного к ренессансу ядра. Стоит только заметить это, как все формы критики религии, отвергающие ее, начинают вести себя гораздо более осторожно с религиозными феноменами. Представители глубинной психологии выяснили, что иллюзия оказывает влияние не только на религиозные представления, выражающие желаемое, но и на отрицание религии.
Религию можно было бы причислять к тем «иллюзиям», будущность[28] которых на стороне Просвещения, потому что полностью справиться с ними не могут ни отрицательная критика, ни разочарование в них. Вероятно, религия и в самом деле представляет собой неизлечимый «онтологический психоз» (Поль Рикёр), и фурии ниспровергающей критики неизбежно выбьются из сил, поскольку ниспровергнутое ими вечно возвращается.
III. Критика метафизической видимости
Обе критики, с которых мы начали свой обзор, демонстрируют одну и ту же схему действий Просвещения: вначале – самоограничение разума, затем – стремление заглянуть за установленную границу с вновь обретенной точки зрения, причем «небольшое приграничное общение с ближайшими зарубежными соседями» позволительно, только если даются приватные гарантии секретности. Критика метафизики происходит, в принципе, точно так же; она не может сделать ничего большего, кроме как указать человеческому разуму его границы. Она исходит из того соображения, что человеческий разум способен ставить метафизические вопросы, но не способен убедительно решать их собственными силами. Великое достижение кантовского Просвещения состоит в следующем: разум надежно функционирует только при условиях опытного познания[29]. Со всем, что выходит за пределы опыта, он, сообразно своей природе, вынужден мучиться, надрываясь, поскольку взваливает на себя непосильный груз. Его существенная черта – хотеть больше, чем он может. Поэтому после логической критики невозможны плодотворные тезисы о предметах, лежащих по ту сторону эмпирии, недоступных для нее. Правда, главные метафизические идеи бога, души, универсума неуклонно навязывают себя мышлению, но при тех средствах, которыми мышление располагает, они убедительно обсуждаться не могут. Перспектива оставалась бы, если бы они были эмпирическими; но поскольку они не таковы, для разума не существует никакой надежды когда-либо «разобраться вчистую» с этими темами. Правда, рациональный аппарат настроен на проникновение в эти проблемы, однако не настроен на то, чтобы после таких вылазок возвращаться в «посюсторонний мир» с ясными и однозначными ответами. Разум как бы сидит за некоторой сеткой, сквозь которую, как он полагает, ему откроются перспективы метафизического видения; но то, что ему при этом поначалу кажется «познанием», в свете критики оказывается самообманом. В известной мере ему приходится впадать в кажимость, которую он создал себе в форме метафизических идей. После того как он, в конечном счете, постигнет собственные границы и собственную напрасную игру с расширением границ, он разоблачает собственные усилия как напрасные. Это современный способ сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю». В позитивном плане это знание означает только знание о границах знания. Тот, кто пустится в метафизическую спекуляцию, разоблачается отныне как нарушитель границы, как «страстно жаждущий достичь недостижимого».