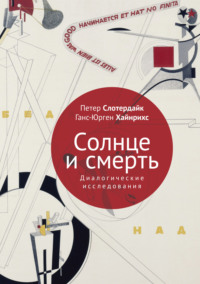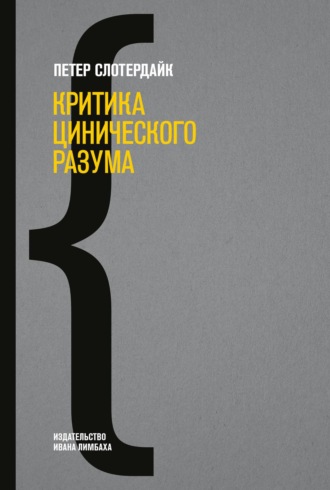
Полная версия
Критика цинического разума
Знать лучшее и делать худшее в пику ему – таково глобальное отношение, существующее сегодня в надстройке; тот, кто действует подобным образом, чувствует себя свободным от всяких иллюзий, но все же вынужденным опускаться уровнем ниже под давлением «власти вещей». Так в реальности положением вещей представляется то, что в логике является парадоксом, а в литературе – юмором; это формирует новую позицию сознания по отношению к «объективности».
«Просвещенное ложное сознание»: эта формула не должна пониматься только как эпизодическое выражение или фраза, сказанная мимоходом. Скорее она должна определять системный подход, выступать как (концептуальная) модель, на основе которой ставится диагноз. Если так, то она обязывает к ревизии Просвещения; она должна ясно и определенно выразить свое отношение к тому, что традиция называет «ложным сознанием»; больше того, она вынуждена будет подвергнуть пересмотру и переоценке сам ход Просвещения и труды, направленные на критику идеологий, в процессе которых оказалось возможным то, что «ложное сознание» вобрало в себя и поглотило Просвещение. Если бы данное эссе замышлялось как исторический экскурс, то он был бы посвящен постепенной модернизации ложного сознания. Но замысел изложения в целом не исторический, а физиогномический: речь пойдет о структуре ложного сознания, дающего отпор атакам (просветительской критики). И я хотел бы продемонстрировать, что эту структуру невозможно понять, если не локализовать ее понятийно в некоторой политической истории полемических рефлексий[11].
Без сарказма не может быть здорового отношения сегодняшнего Просвещения к собственной истории. У нас есть только один вариант выбора – между пессимизмом, который «сохраняет верность» истокам Просвещения и больше смахивает на декаданс, и веселой непочтительностью, с которой, однако, будут выполняться первоначально поставленные задачи. При нынешнем положении дел верность Просвещению может заключаться только в неверности ему. Отчасти это объясняется положением наследников, которые вынуждены становиться скептиками, оглядываясь на «героические» времена и сопоставляя их с нынешними результатами. У того, кто оказывается наследником, всегда присутствует определенный «цинизм положения» – это знает и всякий, кто посвящен в истории с наследованием семейных капиталов. Но одной только оглядкой на прошлое не объяснить специфичности тона современного цинизма. Разочарование в Просвещении никоим образом не есть только лишь знак того, что последователи могут и должны быть более критичными, чем основоположники. Специфический дух современного цинизма имеет более глубокую и принципиальную основу: его природа коренится в самой конституции больного Просвещением сознания, которое, набравшись исторического опыта, отвергает всякого рода дешевый оптимизм. Новые ценности? Нет, спасибо. На смену надеждам, упорно сохранявшимся несмотря ни на что, приходит приземленный эгоизм. В новом цинизме сказывается «рас-просвещенная» тяга к отрицанию, которая не оставляет для себя никакой надежды – разве что немножко иронии и сострадания.
То, о чем идет речь в конечном счете, – это социальные и экзистенциальные границы Просвещения. Необходимость выживания и желание самоутвердиться смирили и унизили просвещенное сознание. Оно становится больным оттого, что вынуждено принимать заданные ему отношения, которые сомнительны для него, оттого что ему приходится применяться к ним, а в итоге и заниматься всякими неблаговидными делами, с ними связанными.
Чтобы выжить, приходится идти учиться в школу реальности. На языке тех, кто одобряет такой шаг, это называется взрослением, что отчасти правда. Но это еще не всё. Вовлеченное в эту деятельность сознание с некоторым беспокойством и раздражением оглядывается на утраченную наивность, которую уже не вернуть, потому что случившиеся промывания мозгов необратимы.
Готтфрид Бенн, выступающий записным адвокатом современных цинических структур, дал, пожалуй, лучшую за этот век формулировку цинизма – блестящую, ясную и бесстыдную: «Быть глупым и иметь работу – вот в чем счастье». Полное содержание этого тезиса раскрывается только с учетом его оборотной стороны: быть интеллигентным и тем не менее исполнять свою работу – вот несчастное сознание в его модернизированной, больной Просвещением форме. Оно не может снова стать «глупым», простодушным и незлобивым – невинности не вернешь. Ему приходится застывать и закосневать, теша себя мыслью о необыкновенной суровости тех отношений, к которым его приковывает инстинкт самосохранения. Что ж, тут ничего не попишешь. При двух тысячах марок в месяц чистыми (без налогов) потихонечку начинается контр-Просвещение; оно основывается на том, что каждый, кому есть что терять, в индивидуальном порядке справляется со своим несчастным сознанием или надстраивает над ним «служебные обязанности».
Новый цинизм – именно потому, что он существует как фундаментальная установка личности, сообразующаяся с положением вещей в мире, – уже не бросается в глаза так, как этого можно было бы ожидать, исходя из сложившегося представления о нем. Он облекает себя в тактичные формы: как мы вскоре увидим[12], тактичность – ключевое слово, используемое для того, чтобы изящно сказать об отчуждении. Приспособленчество, вполне сознающее себя таковым и вынужденное «по необходимости» пожертвовать знанием о лучшем, не видит повода агрессивно и скандально выставлять себя напоказ в неприкрытом виде. Бывает такая нагота, которая уже не воспринимается как разоблачение и которая не предполагает выставления на всеобщее обозрение никаких «голых фактов», способных стать почвой для веселого реализма. Неоциническая сделка с данностями – это нечто жалкое, а отнюдь не нагота во всей ее гордой независимости. Поэтому и методологически не так-то легко найти способ, которым можно было бы выразить в языке диффузный, всепроникающий и незаметно распространяющийся цинизм с его нечетко очерченным профилем. Он свелся к печальной рас-просвещенности, которая пытается скрыть, словно постыдный недостаток, свое знание, уже не годящееся для атак. Крупные наступательные демонстрации цинической дерзости стали редкостью; они сменились приступами хандры, а для сарказма недостает энергии. Гелен полагал, что сегодня на ехидство не способны даже англичане, поскольку все запасы недовольства истощились и настали времена приспособления к данностям. Разочарование и досада, последовавшие за предпринятыми атаками, не позволяют раскрывать рот настолько, чтобы от этого могло выиграть Просвещение.
Это одна из причин, по которой во второй части данной книги приводится непропорционально много «цинического материала», относящегося ко временам Веймарской республики, тогда как более ранние документы почти совсем не рассматриваются. В Историческом разделе, описывая Веймарский симптом, я пытаюсь дать физиогномику эпохи. Речь при этом идет о характеристике десятилетия, первоочередным наследником которого стал фашизм, а наследниками второй очереди являемся мы, сегодняшние.
Говорить о Веймарской республике – все еще значит заниматься социальным самопознанием. По причинам, на которые можно указать, веймарская культура была предрасположена к цинизму, как никакая другая ранее; она произвела на свет множество блестяще выраженных цинизмов, которые можно использовать как наглядный школьный материал для изучения основ. Она более сильно и остро испытывает муки от модернизации и говорит об утрате своих иллюзий холоднее и резче, чем на то способно любое современное общество. Мы находим в ней из ряда вон выходящие определения современного несчастного сознания, столь выдающиеся, что они обладают жгучей актуальностью по сей день, а возможно, даже и такие, что общую их значимость мы способны понять только сейчас.
Критика цинического разума оставалась бы академической игрой в бисер, если бы она не выявляла связи между проблемой выживания и опасностью фашизма. На деле вопрос «выживания», самосохранения и самоутверждения, на который предлагает свой ответ всякий цинизм, напрямую связан с ключевой проблемой – проблемой сохранения настоящего и планирования будущего в современных национальных государствах. Используя различные подходы, я пытаюсь определить логическое место немецкого фашизма в лабиринтах и вывертах современного рефлексивного цинизма. По этой причине позволительно сказать, забегая вперед, что в немецком фашизме соединяются типичные для современности динамичные процессы возрастания психокультурного страха перед распадом и разложением, процессы регрессивного самоутверждения и развития холодной рассудочности, связанной с новым обстоянием вещей – старым добрым солдатским цинизмом, который имеет столь же жуткие, сколь и прочные традиции на немецкой, а в особенности на прусской почве…
Возможно, эти размышления о цинизме как четвертом члене в ряду форм ложного сознания будут способствовать нарушению странного молчания чисто философской критики по поводу так называемой фашистской идеологии. Относительно «теоретического фашизма» профессиональная философия не выдвигает никаких собственных тезисов, потому что ей в принципе представляется, что фашизм ниже всякой критики. Объяснения фашизма как нигилизма (помрачения сознания и т. п.) или как продукта «тоталитарного мышления» остаются чересчур широкими и расплывчатыми. Ведь «несобственный», лоскутный характер фашистской идеологии описан уже достаточно, а все то, что она намеревалась «отстаивать» в содержательных тезисах, давно подверглось радикальной критике со стороны частных наук – психологии, политологии, социологии, историографии. Программные положения фашизма «не представляются» философии субстанциональной идеологией, которую стоит принимать всерьез, – такой идеологией, над которой действительно следует поработать рефлексирующей критике. Но здесь-то и обнаруживается уязвимое место – уязвимое место критики. Она сосредоточила свое внимание на «серьезных противниках» и, следуя такой установке, устранилась от решения задачи рассматривать идеологические образцы «несерьезных», «неглубокомысленных и поверхностных» систем. Поэтому критика по сей день оказывается не на должном уровне, демонстрируя неспособность к рассмотрению современной смеси из мнения и цинизма. Поскольку же при обсуждении вопросов социального и индивидуального самосохранения используются именно такие смеси, есть веские основания для того, чтобы позаботиться об их изготовлении. Вопросы самосохранения следует обсуждать на том же языке, на котором обсуждаются вопросы самоуничтожения. Как представляется, здесь действует так же логика опровержения морали. Я называю ее логикой «цинической структуры», то есть логикой самоопровержения высококультурной этики. Ее прояснение позволит лучше понять, что это значит – выбирать жизнь.
2. Просвещение как диалог: критика идеологий как продолжение неудавшегося диалога другими средствами
Тот, кто заводит речь о цинизме, напоминает о границах Просвещения. В этом отношении изучение ярких проявлений цинизма в Веймарской республике – занятие благодарное: мало того что здесь цинизм предстает в наиболее явной форме; вдобавок открываются хорошие перспективы для историко-философских исследований. Веймарская республика фигурирует в немецкой истории не только как продукт замедленного национально-государственного развития, которое было вызвано тяжким бременем – наследием Вильгельма, духом циническо-антилиберального государства; она еще и являет собой образчик «неудавшегося Просвещения».
Часто рисуют такую картину: передовые поборники республиканского Просвещения в те времена просто обречены были представлять собой отчаявшееся меньшинство разумных людей доброй воли, которому приходилось противостоять почти непреодолимым силам. Далее перечисляют эти силы, объясняя причины произошедшего: массовые течения, направленные против Просвещения и питающие ненависть к интеллигенции; целая фаланга антидемократических и авторитарных идеологий, которые сумели организоваться и эффективно повлиять на общество через публицистику; агрессивный национализм с реваншистскими чертами; не поддающаяся Просвещению мешанина твердолобых консерватизмов, запущенного филистерства, мелких мессианских религий, апокалиптических политических направлений, а также отказов выполнять требования неуютной современности – как реалистических, так и психопатических. Нарастающий кризис снова и снова заносил инфекцию в раны, нанесенные мировой войной; продолжало бурно разрастаться ницшеанство, наиболее явно выражавшее стиль мышления раздосадованных немцев, склонных к нарциссизму, и соответствовавшее их предельно эмоциональному «протестантскому» отношению к «скверной реальности». В атмосфере кризисной лихорадки начались постоянные и всеохватывающие психополитические колебания между страхом перед будущим и отвращением ко всему, основанным на чувстве собственной неполноценности; между неустойчивыми псевдореализмами и быстро изменяющимися состояниями души. Если есть эпоха, которая настоятельно требует исторической психопатологии, то это как раз полтора десятка лет, отделяющих падение империи кайзера от утверждения у власти национал-социализма.
На первый взгляд, здесь все верно: тот, кто намеревался заниматься Просвещением в таком обществе, занимал проигрышную позицию. Силы Просвещения были чересчур слабы по целому ряду причин. Просвещение так и не смогло заключить эффективного союза со средствами массовой информации, а «совершеннолетие человека»[13] никогда не было идеалом для промышленных монополий и их объединений. Разве все могло сложиться иначе?
Совершенно очевидно, что Просвещение было сокрушено сопротивлением противоборствовавших сил. Но было бы ошибкой рассматривать это только как вопрос простой арифметики власти. Ведь оно потерпело поражение и потому, что сопротивление сознания противника было качественно иным. Оно яростно противилось приглашениям к дискуссии, не желая вступать в «подрывной» диалог об истине; вызывали злость разговоры как таковые, потому что в них все вертелось вокруг набивших оскомину воззрений, ценностей и форм самоутверждения. Истолкование этого сопротивления как основы для идеологии стало главным мотивом Просвещения.
Просвещению приходилось иметь дело с противостоящим ему сознанием, закрепившимся на позициях, которые становились все более и более неприступными для него не только в Новейшее время. В принципе можно было бы проследить историю такого противостояния вплоть до времен инквизиции. Если верен тезис, который активно усваивало рабочее движение, – тезис о том, что знание – сила, – верно и то, что далеко не всякое знание бурно приветствуется. Поскольку нигде не существует истин, которые можно было бы утвердить без борьбы, и поскольку любое знание вынуждено искать себе место в той структуре, которую составляют власти и силы, им противоборствующие, средства, необходимые для того, чтобы придать значимость знаниям, представляются едва ли не более важными, чем сами знания. В современных условиях Просвещение обнаруживает себя как комплекс, предназначенный для решения тактических задач. Требование сделать Разумное всеобщим достоянием влечет за собой определенную политику, педагогику, пропаганду. Тем самым Просвещение сознательно вытесняет из памяти горький реализм учений древних мудрецов, которым было совершенно ясно, что масса глупа, а разум есть только у немногих. Современное стремление к элитарному приходится маскировать демократической фразеологией.
В наши задачи не входит историческое прослеживание того, как Просвещение постепенно погружалось во мрак. Мы знаем, что в XVIII и XIX веках оно, несмотря на наличие многочисленных противников и противоречий, умело справляться с ферментом сомнения в себе, вдохновляясь собственными достижениями и планами, действуя преимущественно продуктивно и устремляясь вперед. При всех трудностях в развитии и при всех попятных движениях оно все же имело основания полагать, что законы прогресса на его стороне. Великие имена эпохи стали символами великих достижений: Уатт, Пастер, Кох, Сименс. Можно, конечно, и отвергать эти достижения, но это – брюзжание, продиктованное настроением, а не справедливостью. Пресса, железные дороги, социальная помощь, пенициллин – кому придет в голову оспаривать, что всё это замечательные новации в «саду человеческом»[14]? Однако после всех мерзостей XX века, устроенных с помощью техники, – от Вердена до Гулага, от Освенцима до Хиросимы – опыт не располагает к оптимизму. Историческое познание и пессимизм, кажется, заставляют делать один и тот же вывод. А катастрофы, которые еще не произошли, но уже нависают над нами, ставят цивилизацию под сомнение повсеместно. В конце ХХ века на гребне оказывается негативная футурология. «Возможность самого скверного уже принята в расчет», ему осталось «всего лишь» случиться.
Я хотел бы поначалу ограничить рассмотрение темы неудовлетворенного Просвещения только одним вопросом – какими средствами силового воздействия на сознание противника располагает Просвещение. Ставить вопрос о «средствах силового воздействия» в известной мере некорректно, ведь Просвещение по своей сути предполагает свободное согласие. Оно представляет собой такое «учение», которое отнюдь не желает прибегать к нажиму, добиваясь своего. Разум – это один его полюс, а другой полюс – свободный диалог людей, стремящихся к Разуму. Суть метода Просвещения и в то же время его моральный идеал – это добровольный консенсус. Тем самым подразумевается, что сознание противника расстается с прежними позициями только под влиянием просвещающих аргументов, и никак иначе.
Это – процесс, протекающий исключительно мирно и ненасильственно: весомые аргументы разума заставляют покидать те сформированные на основе мнений позиции, которые уже невозможно отстаивать. Таким образом, Просвещение предполагает, если позволительно так выразиться, утопическую сцену: мирную теоретико-познавательную идиллию, прекрасное и высоконаучное зрелище – зрелище свободного диалога заинтересованных в познании людей, происходящего без всякого принуждения и насилия. Здесь сходятся непредвзятые, не порабощенные собственным сознанием, не угнетенные социальными обязательствами индивиды для того, чтобы вести диалог, направленный на выяснение истины по законам разума. Из истины, которую желают распространять просветители, вытекает вынужденное – но без применения силы! – присоединение к более сильным доводам. Сторонник просветительской идеи либо первооткрыватель ее и сам совершил такой же шаг, но несколько раньше, и, возможно, ему тоже пришлось пожертвовать своим ранее существовавшим мнением.
Процесс Просвещения имеет, соответственно, два аспекта: присоединение к лучше обоснованной позиции и расставание с прежним мнением – предрассудком. Налицо амбивалентность чувств: радость обретения и боль утраты испытываются одновременно. Утопия исполненного любви критического диалога учитывает эту трудность. Боль утраты перенести легче, если сознаешь, что испытать эту боль решаются совместно и добровольно ради обретения общности. «Проигравший» вправе считать себя выигравшим. Таким образом, просветительская беседа в сущности есть не что иное, как рабочая борьба мнений и исследовательский диалог между персонами, которые а priori следуют правилу поддержания мира, потому что их встреча может закончиться только обоюдным выигрышем – выигрышем в познании и в обретении солидарности. Потому-то расставание с прежними мнениями переживается без особых мучений.
Это, как уже было сказано, академическая идиллия и в то же время – регулятивная идея любого Просвещения, не желающего отказываться от перспективы грядущего братства. То, что в действительности все обстояло вовсе не так, едва ли кого-то удивит. При конфронтации Просвещения с ранее возникшими установками сознания речь шла вовсе не об истине, а о чем-то совершенно ином: о властных позициях, о классовых интересах, о непоколебимых точках зрения школ, об устремлениях и желаниях, о страстях и о защите «идентичностей», о борьбе за сохранение существующего положения. Эти заданные условия столь сильно изменяют форму просветительского диалога, что было бы более уместно вести речь о войне сознаний, чем о мирной беседе. Противники не выполняют договора о мире, о котором они условились заранее, – скорее они ведут конкурентную борьбу, нацеленную на вытеснение и уничтожение; и они находятся всецело во власти тех сил, которые велят их сознанию говорить так, а не иначе.
Перед лицом этих фактов, открывающихся трезвому взгляду, модель диалога можно предлагать, только сознательно греша против реализма. Эта модель признает лишь весьма ограниченное значение за архипрагматичным правилом: primum vivere, deinde philosophari[15]; ведь, насколько известно, сплошь и рядом возникают ситуации, в которых «философствование» – единственное, что помогает жить дальше.
Возникает искушение позубоскалить над «методологическим антиреализмом» идеи диалога; и действительно, часть этой книги посвящена тому, чтобы утвердить право смеяться над любой формой глупого идеализма; но тогда, когда все противоречия будут сняты, произойдет возвращение к этому началу – разумеется, с сознанием, которое прошло через все адовы круги реализма. Сохранить в силе целительную иллюзию свободного диалога – вот конечная задача философии.
Несомненно, само Просвещение ранее чем что бы то ни было обнаружило: с одним только рациональным и вербальным диалогом «дело не вытанцовывается». Никто не мог более остро, чем оно, почувствовать возникновение заминок, искажение жизненных предпосылок, появление внезапных пауз, неудачу диалога. Ведь критика идеологий начинается с удивления тому, насколько оппонент туг на ухо, – с удивления, которое быстро уступает место реалистическому освобождению от иллюзий. Тот, кто не желает слушать, вполне способен дать другому это почувствовать. Просвещение вдруг вспоминает, с какой легкостью открытый разговор может привести в лагерь и в тюрьму. Властвующие силы[16] не так-то просто позволяют говорить с собой и не садятся добровольно за стол переговоров со своими противниками – они полагают, что будет лучше, если те сядут за решетку. Но и традиция — если позволительно будет столь аллегорически выразиться о ней – в первую очередь не чувствует никакого желания предоставлять просветителям право говорить наряду с собой. С незапамятных времен в человеческом восприятии старое представляется истинным, а новое – сомнительным. Просвещению вначале приходится подавлять «архаическое» чувство истины – без этого новое не покажется нам истинным.
Раньше предполагалось само собой, что политические и духовные властвующие силы объединяются в консервативный фронт, отвергающий все новое. Там, где происходили духовные реформы – я имею в виду прежде всего монашеские движения Средневековья и религиозные перевороты XVI века, – они понимали себя как «консервативные революции», которые стремились вернуться к первоистокам. Наконец, некоторую третью – после властвующих сил и традиции – инстанцию, которая мешает охотно внимать просветительским призывам к нововведениям, представляют собой человеческие головы, всегда забитые до отказа всякой всячиной. Они встречают Просвещение сопротивлением инертных привычек и тщательно оберегаемых воззрений, которые оккупировали все пространство сознания; только в исключительных ситуациях людей можно привести к тому, чтобы они услышали другой разум, представления которого отличаются от традиционных. Сосуд знания нельзя наполнить дважды. Просветительская критика видит во всем, что «уже наличествует» в головах, своего исконного внутреннего врага; она презрительно именует его предрассудком.
Полемика на три фронта – критика власти, борьба с традициями и атака на предрассудки – дает нам привычный образ Просвещения. Все три важных фронта – это поля сражений с противниками, которые отнюдь не желают диалога. Просвещение намерено говорить с ними о вещах, о которых власти и традиции предпочитают молчать: разум, справедливость, равенство, свобода, истина, исследование. Молчание лучше гарантирует сохранение существующего положения. Разговор может завести чересчур далеко, к непредсказуемому будущему. Просвещение идет на этот диалог почти с голыми руками, вооружившись одним лишь хрупким предложением – свободно соглашаться с лучшим из аргументов. Если бы оно могло добиваться своего силой, то было бы не Просвещением, а способом разнообразить несвободное сознание. Но что же в итоге остается, если люди, делая выбор, руководствуются, как правило, чем угодно, только не «разумными» основаниями?
Просвещение пытается извлечь из ситуации максимум. Так как ему все дается с боем, оно почти сразу, едва пригласив к мирному диалогу, начинает параллельно развивать другую, воинственную стратегию. Раз уж ему наносят удары, то и оно должно отвечать ударом на удар. Иной обмен ударами продолжается настолько давно, что было бы бессмысленно задаваться вопросом, когда именно он начался. История критики идеологий – это по большей части история второго, полемического, жеста – история великого ответного удара. Такая критика – теория борьбы — нужна Просвещению по двум причинам: во-первых, как оружие против закосневшего консервативно-самодовольного сознания, а во-вторых, как необходимая тренировка, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Отказ противника вступить в просветительский диалог представляется столь важным фактом, что его тут же превращают в теоретическую проблему. Тот, кто не желает участвовать в Просвещении, должен иметь на это свои причины – и, вероятно, совсем не те, на которые он ссылается. Просвещение делает предметом исследования само сопротивление, которое ему оказывается. Таким образом, противник превращается в «клинический случай», а его сознание – в объект. Если он не желает говорить с нами, то придется говорить о нем. Но с этого самого момента, как всегда бывает при настроенности на борьбу, о противнике начинают думать не как о неком Я, а как об определенном аппарате, в котором действует – отчасти открыто, отчасти скрыто – некоторый механизм сопротивления, лишающий его свободы и повинный в возникновении ошибок и иллюзий.