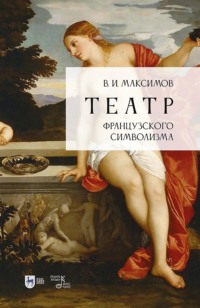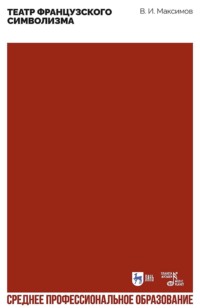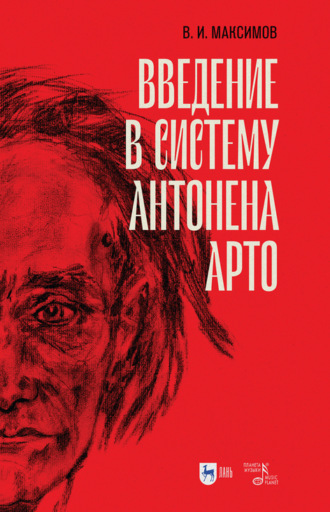
Полная версия
Введение в систему Антонена Арто
Пьеса Джона Форда, написанная в 1633 году, стала одной из главных причин яростных нападок пуритан на театр, хранивший традиции высокого ренессансного искусства. Борьба эта закончилась закрытием лондонских театров в 1640-е годы и завершением великой театральной эпохи. Хотя действие пьесы разворачивается в католической Италии, утверждающее новые ценности буржуазное сознание не могло смириться с появлением на сцене героев, отдающихся своей любви, невзирая ни на какие моральные обстоятельства. Читателям 1930-х годов «Аннабелла» была хорошо известна, так как существовала в переводе Мориса Метерлинка, выполненном в 1895 году для постановки О.-М. Люнье-По в символистском театре Эвр.
Метерлинк акцентировал в пьесе мотив ожидания смерти, столь близкий его творчеству, и преображения человека в трагической ситуации. Арто, типологически продолжающий символизм, акцентирует в пьесе другие моменты – проявление нескольких типов жестокости, в частности, жестокости как «акции протеста». Джованни, главный герой пьесы, любящий непреодолимой взаимной любовью свою сестру Аннабеллу, становится для Арто воплощением героического (и жестокого), оправдывающего любые действия против лживого мира. Любовь создала их друг для друга и противиться этой стихии они не в силах. Кроме того, важен мотив слияния преступления и благодеяния, извращения и подвига. Преступление, совершаемое Джованни и Аннабеллой, становится основой страсти, страсти очищающей. Для пьесы характерно противопоставление обыденной реальности, с ее кровавостью, миру людей, сметающих любые преграды на пути очищающей страсти.
Несколько сюжетных линий трагедии – своеобразного шедевра жанра «кровавой драмы» – сплетаются в тугой узел бесконечных заговоров, измен, убийств, отравлений. Это мир, где каждый грешен (включая алчного кардинала и подразумевая папу), каждый обречен на преступление, которое, в свою очередь, рождает следующее. Преступление Аннабеллы и Джованни, внешне подобное другим, имеет иную природу. Их любовь – протест миру «повседневных» преступлений, их любовь – та сила, которая этот мир разрушит.
По мысли Арто, Джованни – существо, призванное направить все свои силы на протест против заведенного миропорядка.
Оно ни минуты не колеблется, ни минуты не сомневается и этим показывает, сколь мало значат все преграды, которые могут возникнуть у него на пути. Оно преступно, но сохраняет геройство, оно исполнено героизма, но с дерзостью и вызовом. Все толкает его в одном направлении и воспламеняет душу, нет для него ни земли, ни неба, – только сила его судорожной страсти, на которую не может не ответить тоже мятежная и тоже героическая страсть Аннабеллы. «Я плачу, – говорит она, – но не от угрызений совести, а от страха, что не смогу утолить свою страсть». Оба героя фальшивы, лицемерны, лживы, во имя своей нечеловеческой страсти, которую законы ограничивают и стесняют, но которую они смогут поставить выше законов (IV, 35).
Говоря о пьесе Форда, Арто определил ее уникальное место среди елизаветинской драматургии: изначальная порочность и лживость ситуации (любовь брата и сестры, вступление Аннабеллы в брак, чтобы скрыть рождение внебрачного ребенка) оборачиваются утверждением высшей духовности. В финальных сценах, где любовники обличены, развязка конфликта очевидна, но герои делают все, чтобы максимально усугубить трагическую развязку и свои страдания. Через кровавые события развязки, через самоуничтожение героев искупается изначальная порочность мира.
Аннабелла, согласившаяся выйти замуж за Соранцо, не в состоянии скрывать свою любовь. Унижения и оскорбления, обрушившиеся на нее, вызывают у Аннабеллы лишь презрение к своим палачам. Она находит способ сообщить возлюбленному о грозящей опасности, но, несмотря на предупреждение, он устремляется в логово врага. Джованни приходит на торжество, зная, что это ловушка. Влюбленные клянутся, что они найдут друг друга после смерти. Джованни закалывает сестру, затем он приходит на пир с кинжалом, на острие которого наколото сердце Аннабеллы, затем убивает Соранцо, а сам погибает от руки слуги Васкеса с именем Аннабеллы на устах. Джованни
сумеет подняться над местью и преступлением благодаря новому преступлению, страстному и неописуемому, он преодолеет страх и ужас благодаря большему ужасу, который одним махом сбивает с ног законы, нормы морали и тех людей, у кого хватает смелости выступить в качестве судей (IV, 36).
Трагедия Форда «Как жаль ее развратницей назвать» стала для Арто моделью пьесы для крюотического театра. Задача драматургии видится Арто следующим образом:
Настоящая театральная пьеса будит спящие чувства, она высвобождает угнетенное бессознательное, толкает к какому-то скрытому бунту, которым, кстати, сохраняет свою ценность только до тех пор, пока остается скрытым и внушает собравшейся публике героическое и трудное состояние духа (IV, 34).
Высвобождая бессознательное, такая пьеса – и театр в целом – «завладевает действием и доводит его до предела», то есть заставляет работать сознание таким образом, что оно откликается на подсознательные действенные модели, таящиеся в глубине сознания. Они становятся понятны, и театр говорит со зрителем на языке глубинных взаимосвязей.
Помимо общеупотребимого абстрактного понятия «образ», Арто вводит новое понятие – «символ-тип». Театр, считает Арто,
вновь обретает понимание образов и символов-типов (symboles-types), которые действуют как внезапная пауза, как пик оргии, как зажим артерии, как зов жизненных соков, как лихорадочное мелькание образов в мозгу человека, когда его резко разбудят. Все конфликты, которые в нас дремлют, театр возвращает нам вместе со всеми их движущими силами, он называет эти силы по имени, и мы с радостью узнаем в них символы. И вот пред нами разыгрывается битва символов, которые бросаются друг на друга с неслыханным грохотом, – ведь театр начинается только с того момента, когда действительно начинает происходить что-то невозможное и когда выходящая на сцену поэзия поддерживает и согревает воплотившиеся символы (IV, 34).
Арто предлагает свой термин для обозначения того, что является конкретным материалом спектакля – символы-типы (типические символы). Символ-тип имеет бесспорное родство с юнговским архетипом, однако Арто, не претендуя на научность, нигде не использует психоаналитических терминов. Кроме того, нет уверенности, что Арто в данном случае подразумевал именно юнговское понятие, так как концепция архетипа не была еще окончательно сформулирована ко времени написания статьи. Понятие «архетип» возникает в аналитической психологии К. Г. Юнга с 1919 года. Далее на рубеже 1920-30-х годов Юнг разрабатывает учение об архетипах коллективного бессознательного. Именно в тридцатые годы термин «архетип» начинает широко применяться и самим Юнгом и авторами эстетических исследований (Bodkin М. Archetypal Patterns in Poetry. Oxford, 1934).
Артодианское символ-тип опирается, скорее, на юнговское понятие «тип»: крайние типы человеческой психики – интровертивный и экстравертивный. Так же, как Юнг вывел из теории типов психики учение об архетипах, фиксирующих непреходящие образы коллективного бессознательного, так и Арто (восприняв и аналитическую психологию Юнга, и ностальгию по сверхчеловеку у Ницше, и восточные эзотерические тексты) вывел понятие символа-типа – глубинного, общепонятного знака, свойственного определенному типу.
Несмотря на то, что это понятие встречается только в одной статье сборника «Театр и его Двойник» (в дальнейшем Арто использует термин «символ»), значение его принципиально для понимания концепции крюотического театра. Дело в том, что это фактически единственный случай конкретизации идеи архаического уровня сознания, на котором и реализуется театр Арто и который обнаруживает глубинные общечеловеческие связи. То, о чем говорит Арто, бесспорно подразумевает погружение в глубины бессознательного. Но в крюотическом театре это не бессознательное состояние в процессе творчества, как у сюрреалистов, и даже не ритуальный транс балинезийских танцоров, а совершенно осмысленный, контролируемый процесс открытия в человеке сущностных способностей сознания.
Указание на символ-тип дает возможность понять о каком уровне бессознательного идет речь. Совершенно подобную схему можно видеть в учении К. Г. Юнга об архетипах:
Речь идет о манифестациях более глубокого слоя бессознательного, где дремлют общечеловеческие, изначальные образы. Эти образы и мотивы я назвал архетипами (а также «доминантами»)[24].
Кстати сказать, в аналитической психологии Юнга используется и понятие «символ», но используется оно применительно к внешнему обозначению «неизвестной сущности», то есть в значении почти противоположном «архетипу».
Если использовать юнговское учение об архетипе в качестве разъяснения основных положений «Театра и чумы», то механизм театра Арто предстает как воздействие на коллективное бессознательное зрителя, и на этом уровне сознания должно происходить восприятие произведения. Можно сделать вывод, что такой театр не имеет ничего общего с театротерапией, которая направлена, напротив, на выявление субъективно-психического в сознании (пациента).
По Юнгу, реализация (осуществление) идеи (научное открытие, создание художественного произведения) есть извлечение изначального образа – архетипа, таящегося в коллективном бессознательном. Поэтому юнгианские архетипы «статичны», они лишь условно обозначают те образы, которые существуют и «действуют на протяжении тысячелетий». Применительно к театру, к искусству в целом, речь вряд ли может идти о выявлении таких условных обозначений, скорее, о динамичном художественном преобразовании первообразов. Не случайно сам Юнг отмечает, что реальностью, формирующей архетип, является не «физический процесс», а миф, то есть никак не знак, а сложная модель, имеющая специфическую структуру. Художественные законы театра требуют решения, прежде всего, принципов композиционного построения. Поэтому в «Театре и чуме» разговор о театре Арто начинает с проблемы установления не обыденных – глубинных человеческих связей. Кстати, Юнг отмечает, что архетип
всегда несет в себе некоторое особое «влияние» или «силу», которая имеет «побуждающий к действиям характер»[25].
Ежи Гротовский, активно использующий идею архетипа и при этом адаптирующий мифологическую основу крюотического театра, основывает свою концепцию на принципах ритуала. В основе театрального искусства по Гротовскому —
поиск архетипических образов <…> в значении мифологического образа вещей[26].
Гротовский приводит следующие примеры архетипов: принесение личности в жертву ради общества; крестный путь Христа. Юнг в работе 1922 года, специально посвященной художественному творчеству, дает такое определение:
Праобраз, или архетип, есть фигура – будь то демона, человека или события, – повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия[27].
Подобного рода архетипы использует и Арто, однако он не спешит называть их символами-типами. Примером может служить яркий образ, встречающийся в статье «Театр и культура». Давая характеристики богам центральноамериканских индейцев, Арто обозначает специфику этой культуры, как мира, «где камень оживает», тем самым противопоставляя ее европейской, обозначенной архетипом соляного столпа. Культура индейцев —
мир органической цивилизации, в котором жизненные силы выходят из состояния покоя, – этот человеческий мир внутри нас участвует в пляске богов, без оглядки, не поворачиваясь назад, не боясь, как мы, превратиться в рыхлый соляной столп (IV, 16).
Соляной столп — образ, хорошо известный благодаря Библии. Ангелы сообщают праведнику Лоту, что город Содом будет подвергнут каре и ему следует уйти вместе с женой и дочерьми. При этом поставлено условие «не оглядываться назад». «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом (Бытие, 19:26). История Лота и его дочерей использована Арто в статье «Режиссура и метафизика». Каменные столпы, представляющие собой окаменевшие человеческие фигуры, можно считать общепринятым примером архетипа. Подобные сюжеты имеются почти во всех мифологиях. Наиболее известен античный сюжет об Эвридике, окаменевшей вследствие нарушения Орфеем запрета оборачиваться по пути из Аида. Мотив окаменения всегда связан с нарушением запрета. Так, например, в фольклоре саамов шаман (нойда) нарушает условие тишины (запрет шума) и превращается в камень. Для Арто подобный архетип имеет два значения. Во-первых: камень, в котором заключена жизнь (способность вещи ожить). Во-вторых: опасность оборачивания назад, сформированная данным архетипом. Задача состоит в преодолении страха. Ведь сзади находится тот самый Двойник, который руководит пляской богов. Встать с ним лицом к лицу, отождествиться с ним – предназначение человека, реализовать которое мешает страх. Архетип соляного столпа используется также Ежи Гротовским, который сравнивает состояние зрителя в театре с необходимостью обернуться, невзирая на опасность окаменения:
все наши поступки в жизни служат утаиванию правды, не только от других, но также от самих себя. Мы убегаем от правды о себе, а тут нам предлагают остановиться и смотреть. Нас охватывает страх пред превращением в соляной столп наподобие жены Лота, когда мы повернемся, чтобы разглядеть правду[28].
В сценической практике Арто также использовал архетипы. Примером подобного архетипа можно считать колесо в спектакле «Семья Ченчи», на котором распинают Беатриче. Но все же наличие тех или иных архетипов определяет крюотический театр, ибо архетипами насыщены все подлинно художественные произведения. В теории Арто ориентировался на более тонкие и еще более широкие обобщения. Архетипы в театре реализуются не в неких застывших символах, а в постоянно движущихся, постоянно формирующихся на сцене иероглифах. Спектакль близок каллиграфии, с ее многозначностью, запечатленностью процесса создания и конечной гармонией. Архетипы приобретают форму непосредственно на сцене и воплощаются в конкретные иероглифические образы, каждый раз новые. Зафиксированность формы губительна для восприятия архетипа.
В поздних работах Юнга понятие архетипа корректируется в сторону именно артодианского понимания символа-типа. Так, в работе 1952 года «Ответ Иову» Юнг пишет:
Архетипы, как и сама психика или как материя, непознаваемы в своей основе – можно лишь создавать их приблизительные модели[29].
Таким образом, архетип становится еще более глубоким понятием, никак не исчерпывающимся его символической конкретизацией.
Но уже в работах 1910-20-х годов Юнг недвусмысленно заявляет, что полное следование архетипу, погружение в бессознательное – опасный для человека процесс. Примером тому является стремление к отождествлению сознательного «Я» с архетипом мана, выражающим сильную личность, наделенную оккультными знаниями (отец, вождь, маг). В результате возникает мана-личность, то бессознательное, которое полностью подчиняет себе конкретного человека.
Необходимо помнить об опасности подпасть под доминанту мана-личности. Эта опасность состоит не только в том, что сам становишься отцовской маской, но и в том, что принимаешь эту маску всерьез, когда ее носит другой[30].
Мифологические образы
не могут непосредственно переводиться в наш мир, а должен быть найден опосредованный путь, который соединяет сознательную и бессознательную реальности[31].
Юнг, естественно, не дает далее рецептов. Но таким опосредованным путем соединения двух реальностей является сфера художественного. Мир театра в концепции Арто и предстает той тотальной реальностью, которая строится на общечеловеческих реалиях, воспринимаемых бессознательно, но эта реальность имеет исключительно миметическое – художественное – отношение к «сознательной» реальности. То есть тотальная реальность не подражает обыденности, а преодолевает её, ориентируясь на архетипическую сущность. Крюотический театр – конкретный мир сущностной реальности, так как материалом для него служат реальные образы коллективного бессознательного. Но тем самым обнаруживается и трагический разлад возможностей человеческого сознания и обыденной («общественной») жизни. Арто пишет, имея в виду символы-типы:
Эти символы – знаки зрелых сил, до сих пор содержавшихся в рабстве и не находящих себе места в реальной жизни. Они ослепительно сверкают в немыслимых образах, дающих право на существование поступкам, по природе своей враждебным для жизни общества (IV, 34).
Определение символов-типов вновь обращает Арто к постоянной теме «Театра и чумы» – противопоставлению «материальной природы» (lanature materialisee), «реальной жизни» (la realite) подлинной реальности, «духовной силе». Это противопоставление свидетельствует о стремлении Арто разрешить не узкоэстетические, а глобальные проблемы человеческого сознания. И кроме того – эти проблемы разрешаются на основе преобразованных законов художественного творчества.
Если чума – болезнь, физический распад, умирание «духовной силы», то в творческом акте мы имеем дело с разложением поверхностной формы и выявлением «духовной силы». Она творит поэтические образы, не связанные с обыденной реальностью и подчиненные высшей логике.
Арто углубляет сравнение творческой и обыденной ситуаций.
Актеру, захваченному неистовой яростью этой силы, приходится проявлять гораздо больше доблести, чтобы не сделать преступления, чем убийце – храбрости, чтобы его совершить. Воздействие сценического чувства с его немотивированностью оказывается бесконечно более ценным, чем чувства реальные (IV, 31).
Ярость убийцы, считает Арто, расходуется без остатка в момент реализации. Индивидуальная энергия художника исчерпывается в результате творческого акта, преобразуясь в качественно новую энергию – энергию космическую, внеличностную, когда все разбуженные противоречия сняты. В обыденной жизни иначе – любая акция провоцирует ответную реакцию (преступление – наказание, око – за око и т. д.). В этом состоит глобальное отличие двух реальностей.
Для Арто реальность одна – «художественная». Он ориентируется на принципы, сформулированные Аристотелем на материале трагедии и содержащие точные критерии художественности. В этом значительное отличие Арто от множества его последователей, подменяющих понятие мимезиса стиранием границы художественного и «повседневного» и игнорирующих художественную структуру спектакля. Многим современным режиссерам, наследующим принципы Арто, художественная структура чужда, и они делают объектом своего творчества обыденную реальность, не подчиненную законам художественного произведения. Именно поэтому практические воплощения теории Арто часто производят жалкое впечатление.
Тотальная оппозиция космоса и хаоса, обыденной жизни и сверхреальности актера включает в себя зрителя и распространяется на все человечество так же, как крик больного чумой способен вызывать эпидемию.
Можно допустить, что внешние события, политические конфликты, природные катаклизмы, программные революции и хаос войны, проходя через театр, разряжаются в чувствах тех людей, которые смотрят на них, будто охваченные эпидемией (IV, 32).
Здесь Арто явно опирается на миметическую основу театра.
Конечно, теория Арто производит впечатление явно новаторской, противостоящей предшествующим художественным формам, а также представлению о человеке, как о гуманистическом, индивидуальном, субъективном совершенстве. Пафос Арто направлен на отрицание скомпрометировавшего себя к началу XX века гуманизма, на снятие оппозиции добра и зла, на опровержение личностной устремленности человека. Но отрицание старого объективно явилось очищением сущностных законов человечества и утверждением вечных критериев.
В этом смысле книга «Театр и его Двойник» является обоснованием катартической концепции Аристотеля применительно к XX веку. Сразу следует оговориться, что учение о катарсисе и аристотелевскую «Поэтику», в целом, никак нельзя рассматривать только как теорию театра или литературы, но как способ реализации предназначения человека через осуществление творческого потенциала.
По ходу действия крюотического спектакля актер должен оказаться в том же положении, что и обычный человек, находящийся в пограничной ситуации. Пройти весь катартический процесс до развязки (не реализовав, к примеру, реальное убийство) ему позволяет художественная композиция произведения, поддерживающая внутренний конфликт в постоянном равновесии до отождествления противоборствующих сторон и уничтожения внешней формы. Арто подчеркивает, во-первых, реальный характер происходящего на сцене, реальное (не вторичное, по воспоминаниям) проживание на сцене (в этом смысле театр Арто – уникальный в своем роде, но имеющий продолжателей, – стремится преодолеть театральную условность). Во-вторых, художественную природу происходящего на сцене Арто видит в том, что реальные внутренние процессы становятся знаками-иероглифами, к которым приобщаются все соучастники (зрители), обладающие коллективным бессознательным (подобно таинству ритуала). Весь зал проникается единым состоянием, когда запретное убийство уже совершено. В постановке «Семьи Ченчи» Арто убивает графа с предельной жестокостью. И хотя это действие не совершается внешним образом, в актере оно прожито реально! Сила переживания определяется не реализованностью самого факта, а реальностью духовного процесса. Равно как и у зрителя, оно сильно оттого, что зритель не действует на сцене.
Движение конфликта поддерживается тем, что до поры до времени знаки действия (иероглифы) не замыкаются в законченную форму. Законченность формы возникает в развязке. Это означает исчезновение формы (можно сказать, что она становится сверхреальна), разрешение конфликта и невозможность возвращения к реалиям.
Арто пишет:
Ярость убийцы истощается, но ярость трагического актера остается в замкнутом и чистом кольце. Ярость убийцы сделала свое дело, она разряжается и теряет контакт с силой, которая ее толкала, но более уже никогда не станет поддерживать. Она принимает форму ярости актера, отрицающей себя по мере своего высвобождения и слияния с космосом (IV, 31).
Эти слова позволяют с уверенностью сказать, что в основе крюотического театра лежит замкнутый катартический процесс.
Концепция катарсиса заключена в классической формулировке трагедии, данной Аристотелем. Одновременно в «Поэтике» сформулировано понятие «трагического», как ключевого в европейской культуре. Вот это определение.
Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по-разному в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей[32].
А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» дает такой перевод аристотелевской формулировки определения:
[трагедия] при помощи сострадания и страха достигает очищения подобных аффектов[33].
Очевидно, что ключевыми словами здесь являются «сострадание и страх». Сотни толкований понятия «катарсис» сводятся именно к взаимосвязи названных трех понятий. Толкования можно разделить на три группы:
1) катарсис – это очищение страха и сострадания;
2) страх и сострадание очищаются аффективно (через аффект);
3) некто очищается от сострадания и страха.
Но в любом случае речь идет о «подобных страстях/ аффектах». Независимо от того, рассматривать «страх и сострадание» как «страсти» или «аффекты», мы имеем дело не с обычными «страхом и состраданием», а с подобными им. Впрочем, остается вопрос: «подобными» они становятся в момент катарсиса или являются таковыми изначально?
А. Ф. Лосев приводит высказывание Олимпиадора, трактующего аристотелевский катарсис как излечение зла злом[34]. Таким образом, нечто, подобное злу, очищается этим же подобием зла, а не просто «злом», конечно. В данном случае понятие «зло» совпадает с понятием «страх».
Кроме того, «страх и сострадание» выступают как структурные понятия. Конфликт произведения, являющийся единственной его объективностью, строится на этих понятиях и их альтернативах, за счет которых совершается противоборство в структуре конфликта. Это противоборство должно уничтожиться в развязке. Соответственно, в развязке снимаются «страх и сострадание», что бы они собой ни представляли.
Итак, ключевыми понятиями катартической концепции искусства являются страх и сострадание. Эти слова на протяжении веков сблизились с бытовым восприятием подобных явлений и перестали быть понятиями. Однако страх – это вовсе не обычная боязнь, не реакция на некий «страшный» объект, не отношение к какому-либо конкретному предмету, а именно «ужас», который «ужасает» своей всеобщностью и глобальностью и который вновь осмысляется в XX веке в новых обличьях – от «бездны» Мориса Метерлинка до «Ничто» Мартина Хайдеггера. Ужас вызывается не конкретными явлениями, а скорее отсутствием их.