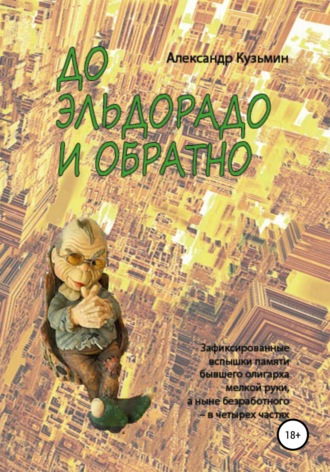
Полная версия
До Эльдорадо и обратно
‒ Во славу русского оружия – до дна!
Отец выпил, глазом не моргнул, я обмишурился – закашлялся.
Стаканы мгновенно наполняются снова. Хозяин молча взирает на отца, явно ожидая ответного тоста. Интенсивность разговора ясно показывает, что оба крепко помнят: «Болтун – находка для шпиона».
‒ Как я понимаю, – говорит наконец батя, поднимая стакан, – я его (кивок в мою сторону) пропил!
Эпизод второй. Горькое похмелье и мудрые советы
«Не кручинься и не хнычь!
Есть печали и опричь!»
Л. Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Наутро, слегка протрезвев, я отправился в Секретный банк, расположенный в здании Секретного же министерства, принимать дела у бывшего председателя правления. Шикарное помещение! Три комнаты, малонаселённые. Правда, проникнуть в эти хоромы клиенту банка абсолютно невозможно: что вы хотите – режим секретности. Но, может быть, уполномоченному банку клиенты и не нужны? Затыривать-то и прятать валюту лучше именно в режиме секретности. Трутни, я слышал, вообще из улья не вылезают, им и там хорошо. Однако беседа с моим предшественником на героической «валютно-капустной» вахте вскрыла некоторые обстоятельства, перекрасившие стены уполномоченного банка из радужных в багровые тона.
Первое.
Уставной капитал существовал исключительно в приказе министра. На деле, взносы сделали только два личных друга председателя правления, которые собирались их забрать обратно практически синхронно с его уходом. (Мелочь, вытрясенная из отдельных заводов, не в счёт, поскольку её не хватало даже на четверть требуемого по закону капитала).
Второе.
Тем не менее, деньги своих друзей мой предшественник успел отправить на тот свет – в Петропавловск-Камчатский. Мне же предлагалось востребовать кредиты досрочно у приморских братков.
Третье и самое приятное.
Выяснилось, зачем это акционеры, не внесшие денег, тем не менее умудрились собрать собрание, уволить бедолагу и заочно назначить меня. Он отказался (какая наглость!) «взять на грудь» выбитый военно-промышленным тараном из ЦБ СССР кредит и раздать его предприятиям министерства. Наши оборонщики и не такое придумывали, а уж проект – повесить ответственность за кредит на коммерческий банк и его начальника, а самим освоить денежку, выдали «на гора» мгновенно.
Однако предшественник оказался «битым фраером», уже посидевшим в СИЗО КГБ, и принимать кредит из ЦБ в одном пакете со сроком отказался. Тут-то в прицеле доблестных оружейников и возник недалёкий честолюбивый карьерист в моём лице.
Приняв дела, я взгрустнул. С одной стороны, не хотелось отказываться от жизни трутня – шинковщика капусты, а с другой, и не хотелось закончить так, как обычно заканчивают трутни в улье.
Однако долго грустить не пришлось: позвонил родитель. Его всё-таки беспокоила судьба пропитого имущества. К тому же я числился директором его филиала, хотя одновременно уже работал ещё в двух банках – Нормальном и Секретном. Причём в моей трудовой книжке были только записи о приёме на работу и ни одной записи об увольнении. (Это обстоятельство вкупе с упоминавшейся выше коллекцией записей принят-уволен с полугодичными интервалами за 1980–1984 годы чуть не испортило мне впоследствии приятного общения с инспекторами биржи труда. Они никак не могли поверить, что я в свою трудовую книжку никогда не заглядывал, правил приёма и увольнения не знал, а отдел кадров в тогдашних банках считался пережитком социализма).
‒ Дела принял? – спросил отец.
‒ Принял.
‒ И как – дела?
‒ Да так, что ты, может, последний раз со мной без адвоката разговариваешь.
‒ Интересные дела! Излагай, только факты, а не жалобы в Amnesty international.
Излагаю факты.
‒ И из-за этого ты растираешь телефоном сопли по лицу?! Значит так:
Первое. Денег никаким друзьям не отдавать. Объяснишь, что непременно, скорее всего вернёшь, как только всё наладится. Впрочем, лучше ничего не говори, на работе к телефону не подходи, а в банк они через режим секретности не прорвутся. Место жительства на время лучше смени – «заляг на тюфяки», как советовал Марио Пьюзо.
Второе. Не вздумай просить у заводов обещанных взносов в уставной фонд. От доблестных героев тыла никто и никогда денег не получал, а нытиков-просителей они не любят.
Третье. Про средствА, сгинувшие в районе долины гейзеров, забудь. Кредиты отрази в балансе как спонсорскую помощь региону восходящего солнца. Мы ещё везде тебя показывать будем, как пример социально ответственного бизнесмена в гипертрофированной форме.
‒ Подожди, а как же работать без денег?
‒ А вот это четвёртое. Когда, говоришь, монеты из ЦБ получить можно? Как только всё оформишь? Значит, если не лениться, завтра, а лениться – на неделе. А отдавать когда? Через два года? Так чего ты руки заламываешь, как Майя Плисецкая? Бери: «за это время кто-нибудь обязательно помрёт или эмир, или ишак, а потом разберёмся, кто лучше знал богословие!». Да, не удумай добытые финансы министерской ватаге в кредиты раздать, если сладкая жизнь дорога!
‒ Как же я им не отдам? Они вон, у банковских помещений уже дозорных выставили с рациями – стерегут.
‒ Эх, всему тебя учить! Ты сначала разработай порядок выдачи кредита. Думаю, если постараться, месяца три-четыре на это уйдёт. Потом собери коллегию министерства для утверждения этого самого порядка. Если я ещё нюх не потерял, они там должны все доутверждаться по «самые это, ну тебе по пояс будет», подводя правила под себя и выводя из-под коллег. Люди они серьёзные, полагаю – раньше, чем через год, ссориться не перестанут. В это время ты в глубокой тайне выдай пару кредитов заводу, где наш предсовета директорствует, он станет тебя прикрывать, в надежде получить ещё. Глядишь, уже время – долг ЦБ возвращать, а ты ещё кредитовать и не начинал. Тогда запускай своих бронебойщиков опять в ЦБ, раз они так умело его пользуют, и всё опять по новой: сначала деньги, потом порядок выдачи, коллегия и так далее. Ну как, я ещё не «мёртвый волк»?
‒ Живее всех живых! Спасибо! Ну, поехали!
Стали мы с главным бухгалтером документы на получение пайка из ЦБ готовить. Да только в ЦБ из условий такой лабиринт соорудили – куда там Дедалу с Минотавром! Однако мало-помалу, кое-как что-то состряпали. И всё же одно препятствие стояло Берлинской стеной между мной и Эльдорадо. Не хватало нам требуемой величины уставного капитала. Что делать – ума не приложу.
В этом месте ЦэБэшного лабиринта, Ариадна ‒ главный бухгалтер и говорит:
‒ Это элементарно, Ватсон! Простите, забыла ваше отчество. Какой, говорите, капитал нам нужен?
Берёт письмо в ЦБ, где был описан весь наш экстерьер, и впечатывает в него необходимую величину этого самого капитала.
‒ Что вы делаете?!
‒ А что? Мы сейчас ксерокопию с письма снимем – заметно, что цифра после впечатана, не будет.
‒ Да разве в этом дело? Письмо и перепечатать можно. Но от этого подлог не исчезнет!
‒ Ах ты божешь мой! Держите меня трое! Подлог! Слова-то какие – чистый прокурор! Да если бы мы в министерстве творчески к делу не подходили, обороноспособность страны давно бы порушилась, поскольку не видать бы нам финансирования, как мне поездки в Париж! А перепечатывать письмо я не стану, ночь уже на дворе, муж ни за что не поверит, что я с таким интересным мужчиной письма перепечатываю.
Этим последним она меня окончательно покорила – подмахнул я ксерокопию письма (на всякий случай, левой рукой, чтоб потом можно было сказать, что подпись не моя).
И что вы себе думаете? Получили мы из ЦБ свой «аленький цветочек»! А сладкоголосую сирену я вскоре отправил в Париж за счёт заведения. Так что и её мечта сбылась.
Эпизод третий. Подпольщики
«Строгий секрет. Государственная тайна… кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать!»
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-Бей
Полгода пролетели в радостных заботах по выдавливанию соков из государевых денег. За это время разгон инфляции достиг таких масштабов, что можно было и в самом деле начать кредитовать оборонку. Рубли так стремительно превращались в пыль, что вернуть займ ЦБ не представляло труда, а пыль от рублей можно было заводам и подарить, чтоб не плакали о возврате. (Как и обещал отец, эмир помер).
В результате я стал уважаемым членом общества. Мне даже после произнесения тоста: «Во славу русского оружия!» позволялось пить не до дна. Чудо-богатыри делали скидку на мой малый вес. «Ладно, отстаньте от него, ему ещё деньги считать!» – говорил Святогор – предсовета. Надо отдать ему должное – лучшего начальника за всю жизнь я не встречал.
Он простил мне даже отсутствие на рабочем месте в переломный момент истории – 19 августа 1991 года – и не оказание помощи ГКЧП. Сам-то он издал приказ всемерно поддерживать это начинание. Вы не поверите (потому что никто не верит), но в это время я отдыхал с семьей в Форосе (местечко выбрал, а?), поэтому всё судьбоносное пропустил вместе с Горбачёвым.
Как-то, по-моему, в ноябре 1991 года, звонит Святогор мне в кабинет.
Да-да, теперь у меня был собственный кабинет! Раскинулся он на месте бывшего склада (для швабр, половых тряпок и пр.), отбитого у заведующего этим складом в честной аппаратной борьбе. (А завскладом-то, чистая душа, при нашем первом разговоре нагло заявлял, что ноги моей не будет на его родовой территории).
Для оценки достигнутого мною положения в обществе, нужно отметить, что звонил он по «вертушке». «Вертушка» ‒ это телефон правительственной связи. Наличие его у меня было предметом моей гордости, поскольку «вертушку» ставили только номенклатурным людям, в качестве знака отличия ‒ нечто вроде генеральских погон. Предполагалось, что значительным персонам для обсуждения важных государственных вопросов требуется особая связь. Однако, к моему удивлению, 99% звонков сводились к просьбам решить бытовые проблемы. Первый, как сейчас помню, был звонок замминистра, просившего купить ему топор.
− Зайди-ка в заднюю комнату, к министру.
Вылезаю из-за стола и бегу, верхним чутьём (отцовская школа) предчувствуя поживу.
Кстати, стол у меня появился – классный! Я его в качестве контрибуции на подписании завскладом безоговорочной капитуляции взял. Правда, зелёное сукно на столешнице в одном углу мыши обгрызли, да я это место Законом о банках и банковской деятельности прикрыл – солидно получилось.
Прибегаю, в задней комнате гуляют крепкие парни. Все мне знакомые, кроме одного. Ростом он пониже меня, зато в ширину – как мой любимый начальник. Толщина, впрочем, не уступает ширине.
‒ Знакомьтесь, это наш банкир, Шурик. А это зампред ЦБ В-ан В-ыч.
Представил нас министр и продолжил прерванный, видимо, разговор:
‒ Вот ты, В-ан, наш друг, а ничего для нашего банка не сделал.
‒ Как не сделал? А кредит кто выделял?
‒ Так это когда было!
‒ К тому же я вашего Шурика не знаю, может ему доверять нельзя.
‒ Так познакомься!
Тут присутствующие гаркнули про славу разделяющихся боеголовок и выпили. Все – до дна, только я, пользуясь индульгенцией, половину. В-ан посмотрел на мой стакан неодобрительно:
‒ А он-то у вас не коммунист!
‒ А мы его примем!
‒ А когда?
‒ А сейчас!
Надо напомнить, что за окном – ноябрь 1991-го, нерушимый союз коммунистов и беспартийных рухнул, подняв вверх кучу пыли, новой номенклатуры и бандитов, а секретарь Свердловского обкома КПСС запретил деятельность своей родной партии.
‒ И как же это вы его примете?
‒ Незамысловато – вот как. Нас тут трое, не считая тебя, значит по уставу первичная ячейка уже в наличии. Можем принимать новых сообщников, голосуем! Единогласно!
‒ А испытательный срок? Срок нужен.
‒ Срок он и без нас получит. А вот ты устав родной партии плоховато разучил.
‒ Чёй-то?
‒ Той-то. В условиях подполья испытательный срок не нужен.
‒ Ишь, ты! И то правда!
‒ То-то! Бери бумагу, Сашок, пиши заявление в партию большевиков.
‒ Не-е, пусть он сначала водку допьёт, а то я в его искренности сомневаюсь.
Я допил, потом написал, потом – не помню. А по партийному стажу я сейчас уже ветеран, с опытом работы в подполье.
Эпизод четвёртый. Кооператив «Счастье банкира» и живое творчество масс
«Хотели, как лучше, а получилось как всегда».
В. С. Черномырдин
Пока я сидел в подполье на партийной работе, ухвативший власть за демократическую бороду отечественный бизнес не стоял на месте. Борьба с прежним «прижимом», как выражался М. Шолохов, принимала, как это помягче, причудливые формы.
Нашёлся уральский умелец, вычитавший в условиях выпуска ещё сталинских облигаций госзайма, что физическое лицо, собравшее бумажек больше определённой (не помню какой) суммы имеет право предъявить их к оплате без очереди и в безусловном прядке. Так этот Данила-мастер, раскинув невод по всему Уралу, укомплектовал финансовыми «мёртвыми душами» мешков десять и прибыл в Минфин, в кассу. Впечатление от его появления хорошо иллюстрирует шедевр Брюллова «Последний день Помпеи». За неимением средств к оплате, Минфином были предложены переговоры, в ходе которых уральский мастер выменял мешки на лицензию финансовой биржи – получил-таки свой каменный цветок.
Тем временем в ЦБ было прислано новое руководство из числа предавших ГКЧП чекистов. Поскольку горячее сердце не дружило с холодной головой, чистые руки месяца через два развалили всю систему расчётов. Платёжные документы (компьютерной сети в ЦБ не существовало) заполнили помещения ЦБ, как, по уверениям Советских газет, зерно заполняло закрома Родины. Даже в приёмную начальника проникли ушлые мешки с платежками.
Не умея обращаться с межбанковскими расчётами и не доверяя им, бравые офицеры предложили банкам рассчитываться между собой чеками с гордым названием «Россия».
Вообще недоверие к бухгалтерскому учёту и, в частности, к отражению средств накопления и платежа в балансе, характерно для органов. Уже много лет спустя дотошная прокурорша всё добивалась от меня: куда я дел средства клиента – предприятия с громкой оборонной славой. Ответ, что все деньги – на депозитном счету, её не устраивал. Страж законности искренне считала, что они, аккуратно сложенные в чемодан, закопаны где-то поблизости.
Так вот. Чеки-то выпустили, а как их учитывать, не прикинули. Говорю же, бухучёту не доверяли. В результате, банкиры – ум, честь и совесть возрождённой России – явочным порядком установили свои правила. Состояли они в следующем. Далее читайте внимательно − здесь закопана собака Баскервилей.
Банк, пославший средства, списывал их со счёта только по получении письменного подтверждения прибытия чека с гордым именем в банк-контрагент. (Последнее слово особенно нравилось новому руководству ЦБ – навевало воспоминания о молодости).
А банк-контрагент зачислял эти средства себе на счёт, под легендой – «деньги в пути» сразу, как только получал по телефону известие об отправке чека из Жуликобанка. Таким образом, те, кто умеет считать, поймут, что на просторах нашей Родины родилась новая денежная масса в размере посланных средств. Говоря по-научному, два ума без чести и совести осуществили эмиссию рублей, перехватив эту тяжёлую ношу у Центрального Банка. Оп ля! Можно пускать возникшие по мановению авторучек фей от финансов денежки в оборот.
Отдельные таланты довели этот процесс до совершенства, добавив, как говорится, штрихи мастера к портрету. Чеки посылались не абы кому, а своему собственному филиалу, срочно открытому где-нибудь вблизи Чукотки.
Заметив, правда не сразу, смелый почин стахановцев от финансов и не в силах хоть что-то придумать по поводу его обуздания (расстрелы на время вышли из моды) или, на худой конец, налаживания нормальных расчётов, руководство ЦБ постановило извлечь коммерческую выгоду из ситуации.
Чеки были запрещены, а вместо них появился кооператив, получивший в банковских кругах кодовое имя «Счастье банкира». Кооператив по справедливой цене занимался спасением платёжек вашего банка, затерянных в бесконечном море мешков. После обнаружения, за отдельную плату, можно было их и исполнить.
Так что практически всю премию за стахановско-эмиссионный почин пришлось отдать доблестным наладчикам расчётов.
Эпизод пятый. Схватка за счёт
«Доброе утро! Если оно вообще доброе».
Ослик Иа-Иа
Бухгалтерия банка всю плешь мне проела: надо, мол, клиентов привлекать на обслуживание, а вы (к тому времени я уже был «вы» всё пьёте с руководством, а потом по Минфинам да Цетробанкам шляетесь.
Да шляюсь, признаю, но ведь не без успеха! Вот на днях выделенная нам из запасов Минфина сотрудница вместе с моим доблестным заместителем под моим чутким руководством (с безопасного расстояния) так замминистра финансов в лифте прижали, что он враз всё необходимое подписал.
Однако «бухини» не отставали: выложи да подай им новых клиентов с гарниром из расчётных счетов. Делать нечего. Наметил я, как мне казалось, цель попроще – родную alma mater, вуз, где мне в голову вбивали законы природы.
Направляю туда свои блудные стопы, и что узнаю? Оказывается, мой родной дом уже вовсю окучивает известный бизнесмен, будущий сиделец за демократию. При этом, пытаясь соблазнить невинные учёные души, врёт безбожно про какое-то обладающее демонической силой межбанковское объединение, которое он вот-вот родит.
Незадолго до этого этот видный демократ провернул аферу с выпуском акций, по которым не то что дивиденды не начислялись, а неясно было даже, кто их должен начислять. В его рекламе говорилось про одну организацию, акции под этот трындёж выпускали сразу три других, а «гробовые» деньги бабулек собирала пятая. И так это было обставлено аппетитно (включая муху на телеэкране в качестве рекламы), что в число лохов поспешили записаться даже сотрудники экономической кафедры вуза.
После сбора урожая, отдыхая перед телекамерой, наш герой втолковывал пришедшим в себя акционерам, что дивидендов ждать не нужно, а нужно ждать повышения курса акций. (Эту тему впоследствии подхватил и с большим успехом исполнил Мавроди).
Ясно, что в схватке за расчётный счёт организации, несущей разумное, доброе и всё остальное, будущий узник совести имел гандикап.
Пришлось активизировать старых друзей, хотя сомнения относительно наличия купюр достойного достоинства в этом заведении, не скрою, были.
Прихожу к И.Б. – доверенному лицу ректора. Тот сидит грустный.
‒ Что ты молодец не весел? Что ты уши тут развесил? – спрашиваю я, осторожно подводя к теме, что конкурент им лапшу на уши вешает.
Он даже не улыбнулся. Конечно, шутка так себе, а всё-таки что-то тут не то, юмор – не зарплата доцента, его у И.Б. всегда хватало.
‒ Случилось что? – уже серьёзно забеспокоился я.
‒ Вот и ты тоже! – отвечает болезный, глаза слезами налились, дышит с трудом.
‒ Да что у тебя?! – не на шутку перепугался я.
‒ День рождения у меня, а никто даже не вспомнил.
«Вот неудобняк какой, – думаю, – а у меня даже горшочка из-под мёда с собой нет. Надо быстро за коньяком сгонять».
Тут в комнату входит ректор.
‒ Привет, ты что тут делаешь? – это он мне.
‒ А ты что такой? Тараканы покусали? – это нашему Иа-Иа.
Вся сцена с забытым днём рождения повторяется до мельчайших подробностей, на сей раз с ректором в главной роли. Отец-командир краснеет (вот что значит высокая учёная степень!) и скрывается за дверью. Я тоже делаю вид, что очень хочу в туалет и мчусь за коньяком. Дело знакомое, и маршрут тоже. Меня, как самого молодого на курсе, вечно гоняли из общаги за добавкой. Повторив личный рекорд по скорости добычи спиртного, возвращаюсь обратно. Ёлки-моталки! В кабинете весь стол уставлен яствами из студенческой столовой, в бокалах, доставаемых ректором только по особым случаям, брызги шампанского, магнитофон орёт музыку того же названия, начальник хозчасти толкает речь.
«Ну, – думаю, – пронесло, а то больно уж стыдно – забыл день рождения друга. Всё нажива проклятая. Место души уже заняла, а всё ей мало – на мозг перекинулась».
Достаю бутылку коньяка, со слезами раскаяния подношу И.Б., наливаю себе из неё же и выпиваю. А что тут такого? Мои товарищи по голодухе в общаге всегда так делали. Шли в гости с бутылкой водки в качестве подарка, сами её выпивали, а закуска-то хозяйская.
Правда, следующий шаг, логически вытекающий из такой тактики: употребить закуски как можно больше, нёс собой определённую опасность. Пригласили как-то раз моего товарища в приличную профессорскую семью – девушка решила его с родителями познакомить.
Голодающая общественность тут же выдвинула встречное предложение жениху: либо идём на смотрины все вместе, либо он нам не друг и, в случае чего, куска хлеба не подадим. Не то, чтобы счастливчик испугался – лишнего куска всё равно не предвиделось, а совесть на профессорские харчи менять не захотел. Прибыли мы, расселись за столом, кому места хватило, крикнули авансом «горько» – чтоб другу в благодарность приятное сделать, выпили.
Хватаю я самый большой солёный помидор, из поблизости разложенных, и запихиваю в рот. Однако он оказался немалого размера – целиком не проглатывается. Пытаюсь раскусить, опять же из-за его размеров зубы не сходятся, а нёбом сдавить не удаётся – профессорша солить умела. В отчаянии хочу выплюнуть – зубы назад фрукт не пускают, а шире рот раскрыть – уже нет никакой возможности. Товарищи давятся от смеха, жених краснеет от стыда, девушки скромно смотрят в разные стороны, а я начинаю задыхаться: помидор, чтоб его, и дыхательное горло перекрыл. Тут профессор встаёт и, перекрывая лёгкое замешательство хорошо поставленным преподавательским голосом, говорит: «Вы что иронизируете? Не видите, студент в беде! Не расстраивайтесь, молодой человек, сам в общежитии жил – хорошо вас понимаю. Прошу вас, пройдёмте в ванную, я закуску вилкой выковыряю».
Тем временем праздник разрастался – прибывали новые, вызванные ректором забывчивые коллеги. Все были рады загладить вину и выпить. Только именинник как-то беспокойно ёрзал на стуле.
‒ Что опять не так?
‒ Пойдём, выйдем, посоветоваться надо.
Выходим.
‒ Говори, ща совет дадим.
‒ Тут такое дело. Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. В общем, так сказать, ну, да, вот…
‒ Ещё пара вводных слов, и я за себя не ручаюсь.
‒ Мой день рождения ещё только через полгода будет.
‒ В самом деле… Точно! Зачем же тогда ты «стену плача» в кабинете воздвиг?!
‒ Да грустно как-то было. Настроения никакого. Ты же сам заметил.
Я не то что бы рассмеялся – я скис от смеха так, что по-настоящему помчался по малой нужде. Поэтому объяснения И.Б. с публикой не видел. А зачем приходил – забыл начисто. Хорошо посидели…
Эпизод шестой. «Безумием окована земля,
Тиранством золотого Змея»
«Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и велика! Ловись, рыбка, и мала и велика!» Рыбка к тебе сама на хвост и нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь».
«Лиса и волк». Русская народная сказка
Следуя логике революционного процесса – крепчать в ногу со временем, пришла ваучерная пора – «очей очарованье» во всей своей «печальной красе».
Не все, конечно, приняли её с таким же восторгом, как классик ‒ осень. Известный парламентарий на букву Ж., в бессильной злобе назвал двух своих собак Ваучер и Чубайс, после чего, гуляя по закрытой территории дач новых начальников, боровшихся с привилегиями, любил покрикивать: «Ваучер, пошёл вон! Чубайс, сидеть!»
Однако инвестиционные фонды и другие организации, ведущие славную родословную непосредственно от «Рогов и копыт» росли, как плесень в чашке Петри.
Например, в недостроенном, полуразрушенном здании бывшего министерства электронной промышленности вместе с мечетью разместился инвестиционный фонд «Тибет». Название было выбрано то ли из-за близости к «небесам обетованным», то ли из-за труднодоступности финансовой отчётности. День и ночь там стояли громадные очереди очарованных граждан, желающих подарить ламам из новых русских свою часть великой страны.
Но мастер-класс в этом деле продемонстрировали новорусские бандиты. В предгорьях «Тибета», на первом этаже старого дома с аркой во двор, было арендовано помещение. Из него в арку прорубили окно. (Так и хочется сказать – в Европу). После этого привлечённые к делу «мошенники на доверии», понимавшие наших людей не хуже правительства, подходили к концу очереди в Шамбалу, а дальше происходило следующее:
‒ Чего дают? Зачем давка?
‒ Это не давка, это собрание партнёров.
‒ А долго стоите?



