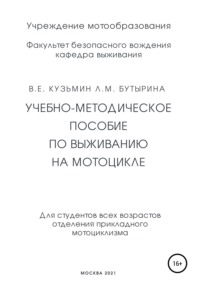Полная версия
Априори Life 3
Перелом тогда случился болезненный. Закрытый, в трех местах и за две недели до поездки Макса на соревнования. Полгода мне потребовалось на восстановление, еще почти столько же, чтоб вернуться к надлежащему уровню жизни и катания. Именно тогда после усмиренного эмоционального всплеска: «Зачем?» и «Для чего снова?», лежа в четырех белесых стенах с загипсованной ногой и наблюдая по экрану планшета с крахом провалившееся выступление Макса, а вслед за ним полнейшую просадку его бизнеса на фоне очередных экономическо-банковских реформ, в мой унылый и растекшийся от статичного полу горизонтального положения мозг каким-то образом заползла очередная бредовая мысль. Но, как известно, чем более сумасшедшей на первый взгляд выглядит новая идея, тем прибыльнее и грандиознее она в итоге может быть. И какой бы безнадегой ни казалось сиюминутное положение, важно помнить, что это еще далеко не конец, что рано или поздно все прояснится, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как тонкое кружево. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Будет. Обязательно будет. Но на тот момент было единственно понятным то, что после очередного хода цикличности любого бизнеса, школе возникла новая необходимость оттолкнуться от дна, чтоб просто остаться на плаву особенно в преддверии закрытия сезона. Так мы стали возить в холодные месяцы группы учеников на европейские треки. Мототуризм давно к тому времени набрал обороты и стал достаточно популярным, с одним лишь условием, что никто, кроме нашего учебного заведения не предоставлял делать это по всем направлениям мотоспорта. Уровень мастерства европейским райдеров далеко скрывался за горизонтом, и грех было ни перенять их азы, будучи в прямом к ним доступе с последующей адаптацией их на свою манеру езды. Так родились победы на заездах полупрофессионального и профессионального уровнях, а вместе с ними и мировая Мото звезда.
Максу тогда пришлось нелегко. Разрываясь между тренировками, организационными вопросами бизнеса и хромающей спутницей жизни, способной вести дела разве что дистанционно, он хоть и пытался держать себя в руках, срывался то и дело безбожно. И на мне в том числе. Осторожность и внимательность в наших взаимоотношениях била тогда все рекорды, – только бы не утонуть в раздражении, только бы не потерять их в отчужденности. Не легкое дело стать одною душою и одним телом. Но надо стараться. И не сдаваться, если знаешь ради чего. Даже если постоянная ноющая боль в ноге нервирует разум, а психозы близкого человека бьют все рекорды. Такие моменты самое время становиться еще нежнее. Теплота и ум, – наверное, свойства зрелости. Это в двадцать лет куда интересней быть бессердечной и легкомысленной, капризами вымогая желаемое, и воспринимать другого человека, как проблему, концентрируя его на том, насколько он несовершенен. И лишь со временем приходит понимание, что тот, кто тебе действительно нужен, на самом деле вообще не соответствует твоим понятиям. Нам ведь, женщинам, так свойственно быть падкими на романтичных мужчин… до тех пор, пока не понадобится реальная мужская хватка. А он стоит такой – слезинка в глазах, и руки из жопы.
Единственной романтикой между нами тогда были свечи и масло.... в его гараже хранения и обслуживания мототехники. И единственным связующим звеном, позволяющим до сих пор не послать друг друга ко всем чертям, – любовь. Любовь, прежде всего к тому, что мы делали. Все остальное было мелочью. И как, все-таки, приятно иногда осознавать приобретенную за всем этим мудрость, чтобы не обижаться по мелочам, и оставаться при этом все же слишком женщиной, чтобы их не замечать.
А не замечать приходилось многое. Оглядываясь вокруг, в последнее время то и дело приходишь в отчаяние. Или приходишь в отчаяние – и оглядываешься вокруг. В первом случае непроизвольно хочется наложить руки на собственное тело; во втором – на душу. И причиной тому служит, как правило, индивид, который настолько туп, что и сам даже не до конца ведает, что вытворяет. Смотришь на подобных и диву даешься, какими могут оказаться порой даже близкие, казалось бы, люди. И вдвойне – своей адекватности, так как именно этим людям по умолчанию отводилась если не основная, то далеко не побочная роль в комбинаторики тщательно выстроенного сценария. Но именно в такие моменты, когда, кажется, что партия проиграна, и все безнадежно упущено, – самое время садиться за игровой стол.
Я ведь по-прежнему не разлюбила эти спонтанные звонки и повороты, когда ты будто получаешь сигнал к действию. Того, что никогда еще не делала, но внутренне была готова уже давно. Тогда-то и появляется на губах эта легкая чуть лукавая улыбка – улыбка опытного игрока, выдерживающего паузу перед тем, как сделать точечный и стратегический ход.
Ждать пришлось не так уж и долго, но все же достаточно, чтоб улыбка возымела властный и чуть надменный характер…
Густые, кустистые, угольно-черные брови, заостренные черты лица и все та же неизменная глубина глаз возникли напротив меня столь же внезапно, сколь ожидаемо. Я традиционно наслаждалась утренним кофе и открывающимся с террасы видом: жемчужно-бирюзовое море, пепельно-синие, безветренные горы материка. Я всегда выходила сюда около полудня. Ни души. Галечный берег неподалеку от часовни, беззвучный лепет искрящейся воды на камнях, деревья, тарахтение крылатых моторчиков в воздухе, бескрайняя панорама молчания. Я дремала в сквозной сосновой тени, в безвременье, полностью растворенная в природе и плетеном соломенном кресле. Силуэт возникшей вдруг мужской фигуры, однако, не ввел меня в замешательство совершенно. Он стоял возле перил, доходчиво давая о себе знать, но при этом деликатно дожидался официального приглашения. Я едва заметно кивнула, после чего он незамедлительно двинулся в мою сторону.
– Лес тогда был гуще. Моря не видно, – заговорил он, заслоняя собой лучи солнца, – да, и деревья были большими…
Я улыбнулась в пространство перед собой. Молчание. Иронический тон его голоса зацепил меня; я смотрела на него полу укоризненно и увидела его выточенное бледное, как мрамор лицо, но заметно смягчившееся, в тот момент, когда я встретилась с ним глазами. Я почувствовала вдруг тончайший порыв тепла на фоне его неизменной любви к сарказму и отчего-то вспомнила сказанные им когда-то слова о том, что красивые жесты умеют производить впечатление – при условии, что они тебе по плечу. Затем снова опустила глаза, поболтала в чашке остатки кофе и выплеснула их ему в лицо. По хлопковой рубашке поползли бурые потеки. Он замер на секунду, затем взял со стола салфетку, утерся и вновь улыбнулся. Ни малейшей досады в реакции.
– Какое, право, недоразумение, – прервала я тишину без тени эмоционального окраса. – Это немного невежливо с моей стороны, – я ведь даже не предложила вам присесть…
– Не нужно вежливости, – пожал плечами он, почтенно кивая в ответ. – Вежливость всегда скрывает лицо истинной действительности, – куда более информативной и значимой.
Его самообладание и порывистая уверенность ошарашивали. Я невольно залюбовалась ими. Или просто не без удовольствия вспомнила. Бытует мнение, что голос забывается в первую очередь. Нет. Первыми уходят манеры, а вслед за ними уже интонации. Он окинул тем временем взглядом пейзаж и снова посмотрел на меня. Я чуть прищурилась в лучах, проступающих чуть выше его плеча, солнца и улыбнулась его глубоким и непроницаемым глазам. На фоне ясных белков радужка казалась совсем черной – бесконечно внимательный взгляд маски, будто пытающейся прочесть мои мысли. По спине непроизвольно пробежал холодок. И будоражило меня не то, что вижу, а то, что не совсем понимаю, зачем это вижу. Не сама «маска», – а то, что скрывалось теперь под ней. Неиссякаемая череда воспоминаний разом всколыхнулась из памяти. Голова пошла крутом. Но не от цепочки минувших событий, а от чудовищного хамства по отношению к каждому из них. Ему же с самого начала, выходит, было плевать. Наплевать на грани чистоты беззаконности, на мою работу, и на информационное таинство, – на все негласно принятое, устоявшееся, авторитетное. Плевать на все, чем я дорожу, и на все, чем, как мне до последнего момента казалось, дорожит он сам.
Я опустила кисти рук на плетеные подлокотники, чувствуя, как ладони покрылись испариной. Что ж… меня тогда откровенно натыкали мордой в лужу, показав, что даже если кажется, что уже спустился на самое дно, это еще далеко не гарант, что не отыщется вдруг лазейка, ведущая еще глубже. Причем как следствие какой-нибудь мелочи, на фоне абсолютно глупой нелепости, упущенной по собственной нерасторопности когда-то / где-то, возможно очень давно. У жизни, как известно, свое мерило изменений в пространстве: это у нас, смертных, по сути, в обрез времени, – у вселенной его полно. Поэтому ты можешь быть кем угодно, – архангелом, шутом, преступником, представителем абсолютной инертной массы, святым или непроходимым кретином – и ничто это не изменит. Но вот оторвись у тебя, скажем, пуговица у кармана пальто в определенный день в определенном месте в определенную минуту – и это в последствие повлечет за собой «апокалипсис». И отнюдь не случайно, а вполне закономерно, просчитано до тонкостей и закодировано при рождении на генном уровне. И существование твое обусловлено именно этим функционалом, именно на этом клочке вселенной, именно в этом временном промежутке. И ты будешь нести эту миссию пока не выполнишь, изо дня в день, повторяя машинальные действия, пока сотни субстанций ни сойдутся в единой точке единой материи благодаря твоей некогда оторванной вовремя пуговице. Так уж устроен свет. И тьма. Потому что в этом и есть единственный смысл. И не надо лишний раз что-то выдумывать, просчитывать или пытаться предугадать. Просто живи, просто будь в равновесии с самим собой, и в определенный момент ты почувствуешь это мгновение. Оно будет как вспышка в мозгу и как толчок в районе солнечного сплетения, непременно побуждающий к действию. А пока будешь теряться в сомнениях и неопределенности, будешь вновь и вновь возвращаться к исходному. Обманчива в таких случаях земная стезя, – идешь то туда, то обратно, и дважды войти в ту же реку нельзя, а в то же говно – многократно.
Что ж, значит, моя стезя, – это свобода удержать удар, какой бы ценой ни пришлось за это расплачиваться.
От любви до ненависти – один шаг, говорите? От уважения до ярости – и того короче.
«Лишь грубым даются силы, потерянным дается печаль.
Мне ничего не надо, мне никого не жаль…», – вспомнились строки, прежде чем я еще более безукоризненно улыбнулась, чуть вытянув шею, и заговорила:
– Тебе же на все было изначально плевать. – Пауза. Еще большая провокация в мимике. Гул самолета вдалеке. – И не потому, что не знал, а потому просто было плевать. Потому что, когда человеку не плевать – он рядом. Даже если не знает, что сделать, чем помочь – он просто рядом. Ты же все время просиживал в своем продавленном офисном кресле с моим фото в рамочке на столе, но ни на миг не задумывался каково мне там – быть с «пеклом» один на один…
Он слушал неподвижно – нависающий предо мной темный силуэт. Тяжелый взгляд. Взгляд того, кто созерцает и ждет. И знает, чего ждет. Почти уверен, что рассчитал все правильно. Почти… По спине табунами носились мурашки, а я тем временем продолжала:
– Из-за меня убивали, по моему повелению убивали, – ты знаешь это. У тебя на то связи повесомее моей секретной службы. И чем глубже ты давал осознавать мне свободу, тем меньше я ею на самом деле обладала. Вот, что единственное ты мне в свое время действительно подарил. Хотя других подарков я никогда и не требовала.
Безжалостный хлыст полосовал мою душу, одну за другой сдирая с нее защитные оболочки, всякий раз, когда он целенаправленно бросал меня на амбразуры. И всякий раз улыбался, принимая результат. Всегда улыбался. Он улыбался так и сейчас. Лишь со временем до меня дошло, что под этим жестом «улыбка» мы всегда подразумевали с ним абсолютно разные вещи: сарказм, меланхолия, жестокость, почти всегда сквозившие в его насмешках, сквозили в них и по умыслу. Его улыбка по сути своей всегда была безжалостна, потому как безжалостна была и та свобода, по законам которой он осознанно принимал на себя львиную долю вины за то, кем стал. Такая улыбка далеко не проявляла свое отношение к миру, а скорей отражала все его жестокости. А жестокости неизбежные, так как на выбранном нами однажды пути жесткость и существование становились разными именами одного и того же. «Учись улыбаться», «Смейся и стой на своем», – в его устах звучали как: «Учись быть безжалостной, учись горечи, учись выживать». И я научилась…
– Ты, как выяснилось, многое держала от меня в секрете, – заговорил он после протяжного вздоха.
Я пожала плечами и снова посмотрела ему в глаза: взгляд нарочито проницательный, беззастенчивый, даже надменный. Потом ответила: – А с чего мне было выдавать тебе всю информацию? Твоя же школа, Рам. А я быстро учусь, ты сам говорил. И чтобы потерять доверие близкого человека стараний много не надо, правда, же? Достаточно безразличия. Тем более с позиции наставника. Это – двойное свинство. Это слишком жестоко. Тем самым ты не оставил к себе даже уважения. Но у меня лишь один вопрос к тебе – почему? Откуда в мой адрес у тебя столько жестокости?
Я, разумеется, не услышала ответа. Потому что слишком хорошо его знала. Типичная ситуация, когда взращённый монстр требует объяснений от своего создателя. Требует его же методом, его же манерой и все той же невыносимой улыбочкой на губах. Он ведь и этому меня тренировал, – улыбаться загадочно и высокомерно, а сейчас он повернулся спиной к ней, к ее мягкости, к ее смертоносной светскости и, подойдя к перилам, глубоко вздохнул. Небо, море, горы – целое полушарие вселенной раскидывалось перед ним. Облик виллы позади меня явно приводил его в замешательство. Она была слишком чужда ему, белая и роскошная, она сковывала и лишала уверенности в себе.
– Ты, помнится, классифицировал, что хороший учитель – объясняет, отличный – показывает, а великий – вдохновляет. И лишь душевное безразличие отличает только закоренелых развратников, – била я словами вдогонку.
Что уж там… Специфика «кнута и пряника» на моем опыте была такова, что пряник засохший и им тоже бьют. К тому же, нет никакой разницы, с третьего этажа вываливаться или с семидесятого, поэтому, если уж и падать, то – с небоскреба. А наслаждаться полетом я всегда любила с разгона.
Для протокола: погода сегодня спокойная, солнечная, летная, ветер умеренный, но воздух был разряжен концентратом недосказанности…
Я вытянула ноги на соседнее соломенное кресло, откинула голову на плетеный подголовник и прикрыла глаза, снова уловив сладковатый, шафрановый аромат цветов, росших внизу, у гравийной площадки. Умение вовремя сосредотачиваться на главном всегда дает иные грани восприятия. Этому тоже он меня в свое время научил. Как обучил быть милой и вежливой с каждым – уметь пользоваться хорошими манерами как рычагом, чтобы двигать неподъемные туши в нужном направлении. Ведь никогда не знаешь, где и как та или иная туша может пригодиться. Каждый по отдельности – всего лишь неопределенные и неказистые кусочки пазла, и лишь собравшись воедино, они способны воссоздать собой нечто поистине восхитительное. Я научилась их собирать, – как на ниточку нанизывать события, людей, повороты, опасности – на пути к масштабному и фееричному и рисковать. В особенности рисковать. Когда жизнь теряет смысл – есть единственный выход – рисковать, каким бы опасным на первый взгляд этот риск ни казался. Ведь рано или поздно наступает день, когда ты понимаешь, что есть предел. И ты достигаешь этого предела. Ты прикасаешься к нему и думаешь: «Итак, это предел». Но если ты все еще стремишься к намеченному, если ты действительно к этому стремишься, всегда найдется в себе ещё немного больше: еще немного разума, еще немного упорства, еще немного чутья, чуть больше опыта. Снова и снова. Тогда есть шанс продвинуться еще немного дальше… В этом-то и состоит противоречие. В этом-то и кроется истинная опасность. Опасность – как часть человеческой жизни, с которой можно научиться сосуществовать, смело смотреть ей в лицо (не как на что-то негативное) с готовностью к самозащите. Тогда ты становишься быстр, как никогда, ты ощущаешь себя невообразимо хрупким и уязвимым, потому что понимаешь, что за долю секунды всё может исчезнуть. Как при входе в поворот (рано или поздно такое случается) ты вдруг осознаешь – вот оно, чего ты так боялся! Всё, улёт! Удержаться невозможно! Но если при этом ты всё же чудом удержался, то понимаешь, – это и была тот самый предел. И теперь так надо ездить всегда…
Я с жадностью хватанула ртом воздух, рывком отпрянув от спинки кресла, и раскрыла глаза. День финального заезда гонки прошлого сезона в чистых красках вновь всплыл перед глазами. Какие бы сто восемьдесят моих «я» ни пытались отдать жизнь за одно-единственное, – не вспоминать о тех событиях; я не кривя душой пережила бы их снова. Потому что только опасность способна по-настоящему возбуждать. Потому что только такие крайности помогают дополнять себя и познавать всё глубже и глубже. Потому что однажды расширивший свои границы разум, уже никогда не вернется в прежние. Все как на трассе. Все, как и в жизни. На трассе жизни… А все эти мнения, что стремление рисковать – серьезный изъян всего рода человеческого. Мол, выходим из тьмы, во тьму возвращаемся, – для чего ж еще и жить-то во тьме?
А для чего тогда жить-то, в принципе?!
Ведь то, что произошло в тот день на треке, – не было случайностью. На атомном уровне миром правит чистый Его Величество – случай и, этого уже давно никто не оспаривает, хотя поверить в это до конца, все равно, невозможно. Но и моей самой большой ошибкой это тоже назвать нельзя… Невозможно. Я делала глубокие вдохи, чтоб хоть как-то привести эмоции в норму. Глаза защипало. Слезы выступили с напором – слезы гнева, слезы бессилия. Я, как сейчас, видела, когда опустился клетчатый флаг. Перед кем он опустился. В тот момент мне хотелось плакать и кричать. И я заплакала. Преодолевая последние метры до финишной отметки, я плакала. Ведь, это была великолепная битва двух людей, самая красивая гонка и самый красивый чемпионат, и в котором я оказалась не первой.
Невозможно передать ощущения пилота, когда он побеждает на гонке. Еще сложнее описать чувства того, кто проигрывает в ней в неравноправных условиях…
Тогда все ощущения за меня скрывал шлем. Сейчас его не было. Но это по-прежнему не было моей самой большой ошибкой. Ведь я была там. А сейчас – здесь, в настоящем, но в то же время я очень далеко от самой себя… Дальше, чем сама реальность. Я – на трассе. А моя самая большая ошибка? Она… она просто ещё не случилась.
Хруст гравия обратил меня в окружающую реальность. Рамир снова шагал в мою сторону. Я вскинул левую руку, чтобы заблаговременно пресечь все его реплики. Он промолчал, затем взял меня за кисть и неспешно присел рядом. Меня сразу охватило чувство, будто подобного жеста я и ждала все это время. Не поворачиваясь в его сторону, я медленно обвела взглядом море и горы на юге. Полный покой. Высоко в западной части неба гудел самолет – третий или четвертый за сегодняшний день. Я непроизвольно представила себе его борт изнутри: стюардессу, везущую меж кресел тележку с напитками, спящий или вечно жующих пассажиров, сухой кондиционированный воздух салона, слабый гул. И необъяснимая тоска внезапно овладела мной в тот момент, – ощущение сродни потери. Потери навсегда. Того, что будто еще вчера видела вблизи, держала за руку, чувствовала живое тепло… утраченное идеалом обыденности. Как сейчас.
Я медленно перевела взгляд на сидящего рядом некогда более, чем родного, а сейчас совершенно неизвестного мне человека, и тут же уперлась в его цепкие и пронзительные глаза. Он молчал. Он всегда был из тех, кто мало говорил, а в последние годы, – еще и тех, кто мало смеется. Я слишком хорошо понимала, что означает его это молчание, и, боясь сбить его или самой отвлечься, я чуть сильнее сдавила пальцы и ждала продолжения. Этот взгляд невозможно понять неправильно. Этот взгляд сложно спутать. Он с неизменной присущей ему настойчивостью говорил, что, возможно, как для учителя, я, все же, – полный педагогический провал, но как для человека я по-прежнему значу нечто Большее.
– Все те же глаза, Лерочка, – начал он, за секунду превращаясь из солидного человека в комичного мальчишку, которому эта моя секундная заминка будто вернула молодость. Он взял меня за вторую руку, чуть тянул к себе и мягко улыбнулся. – Такие лица, как твое… смотрят разве что с полотен Боттичелли. С моей же занятостью не то, что в галереи, из-за стола не всегда выбираешься, но тяга к прекрасному не оставляла никогда. А с твоей выходкой лишь обострилась.
Настал мой черед загадочно улыбаться. Я не собиралась ничего объяснять, и в большей мере потому, что вся эта нарочитая любезность вызывала во мне уже только пресыщенность и досаду. Однако врожденное любопытство и приобретенный такт уже непроизвольно делали свое дело в терпеливом ожидании истинного мотива всей этой словесной прелюдии. Грациозный поворот головы, пристальный взгляд, затянутое молчание, – все самое настоящее, все истинно женское, как демонстрация восприятия. Мягкость без слезливости, открытость без наивности. Он практически утратил подвижность. Морщинки нежности у его глаз. Он видел меня одну, словно мое присутствие отменяло разом все окружающее. Я с улыбкой принимаю эту дань, превозмогая желание проговорить очередную колкость в его адрес, по той лишь причине, что все эти колкости чрезмерно будут переполнены ласки…
– Есть единственная причина, по которой я разрываю какого-либо рода отношения – это невозможность личностного роста в сложившихся условиях, – нарушила я молчание, жестом откинув за плечи, растрепавшиеся на ветру светлые локоны.
– Мне хотелось защитить тебя, оградить, – с порывом начал он, – потому я тебя дистанцировался, отдаляя тебя по ряду вопросов. Рядом с тобой я всегда чувствовал себя защитником. Но если вдуматься на деле, – это ты меня защищала. И защитила бы, коли пришлось…
Он так же резко умолк, затем с еще большим напором продолжил: – И мне бы держаться за тебя. Мне бы не вести себя, как уродливый паразит, который существует лишь при удачном стечении обстоятельств (в остальное же время делает бурную ее имитацию) и прекратить уже мучиться «рефлексом непреодолимых препятствий». Мне бы воспринять тебя, как точку опоры. Мне бы найти в себе смелость отречься от прежнего опыта, от прежних ориентиров. Мне бы не поддаться на профанации собственных страхов и не усомниться в твоей преданности. Мне бы… мне бы. А я просто взял и позволил себе забыть, что каждым великим мужчиной стоит великая женщина…
«…потому что именно такие и умеют подкрадываться», – закончила я мысленно. Очередное подтверждение, что? если у тебя кроме традиционных женских качеств есть еще и мозги, – ты представляешь собой реальную проблему. Ведь у тебя могут быть два красных диплома, ты можешь знать, о чем молчит черный квадрат Малевича и зачитываться Булгаковым, но кого это интересует, если на момент встречи в твоем наряде присутствует элемент обнаженного плеча…
– Глупости, – произнесла я вслух, чуть расплываясь в улыбке.
– Ты права, тут же подхватил он. – Одни сплошные глупости, – что на уме, что на языке. Я и сам понимаю, как в них запутался.
– Запутался? – демонстративно фыркнула я. – Зарвался. Вот это вернее.
Я не сводила с него глаз, все же, не удержавшись от колкости. Он молчал. Он понимал, что на самом деле я далеко не так сердита, какой пытаюсь выглядеть. Эта нарочитая небрежность была лишь противопоставлением его спокойствию, и я ничуть не жалела своей невежливости, и о том, что отвергаю тем самым его располагающие жесты. Слишком уж они отдавали давнишними рецептами викторианской кухни: варенья, лакомых перемен, не получишь, пока не объешься черствыми корками ожидания. У меня с тех самых пор выработался хронический гастрит на этот вид деликатеса, уходящий в рецидив разве что после ударной дозы приторности обретенного. Однако моим любимым лакомством были, и по сей день остаются люди и события, способные оставлять послевкусие. Когда после пусть и не продолжительной порой встречи с теми или иными, всегда есть над чем подумать. Многое, зачастую, открывается в новом свете и становится понятным. А то, что остается непонятным, можно понимать как угодно…
– Вся эта история – все равно, что книга, дочитанная до середины, – продолжила я, спустя продолжительную паузу. – Не отложишь уже и выбросишь. И пусть сюжет слегка затянут, а повествование отдает предсказуемой нудятиной, – все еще может измениться, верно?
– Тебя интересует мое мнение на сей счет? – оживился он с присущей ему лукавостью.
– Что ты…. Давно известная бессмыслица интересоваться о достоинстве произведения у другого писателя: оно априори обречено на провал по двум причинам, – бездарность вопрошающего, либо зависть оппонента, – ответила я в той же манере. – Мне интересно соавторство. В равном соотношении. Если на то найдутся желание и возможности, разумеется…