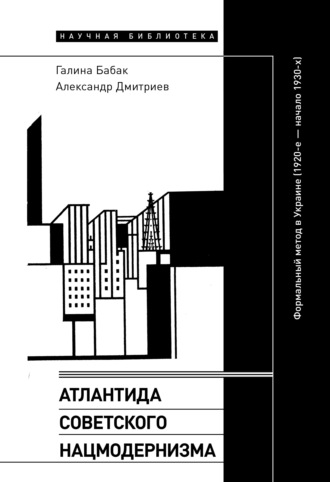
Полная версия
Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
В 1922 году в киевском издательстве «Слово» была опубликована «Наука стихосложения». Работа, которую сам автор называет «элементарным учебником по стихосложению»[445], стала первой попыткой в украинском литературоведении последовательно изложить теорию стиха на материале украинской же поэзии. Само название работы апеллирует к «Науке поэзии» Горация и «Науке о стихе» Валерия Брюсова, что указывает на представление о версификации как о предмете, требующем особых знаний: «Стихосложение, как и каждое искусство, имеет свою технику – и достаточно сложную. ‹…› Волшебство стихов заключается не только в их хорошем содержании, но и в особой форме (курсив наш. – Г. Б., А. Д.), что делает их собственно стихами и отличает от прозы»[446].
Книга также содержит обширную библиографию, которая свидетельствует о знакомстве автора с основными русскоязычными работами по теории стиха[447], изданными ранее: «…украинскому читателю придется обратиться к русской литературе как самой доступной и близкой касательно принципов стихосложения»[448]. Однако, по замечанию самого Якубского, библиография работ на русском языке «является неполной, кое-что из старых российских журналов, а также кое-что из новейшей литературы Москвы и Петербурга нельзя было достать на Украине»[449]. «Науку стихосложения» высоко оценил Борис Томашевский в рецензии, опубликованной в «Книге и революции» год спустя[450].
Книга состоит из пяти частей (каждая содержит несколько глав): «Теория стихотворного ритма», «Античное (метрическое) стихосложение», «Новое (тоническое) стихосложение», «Стихотворное благозвучие (эвфония)» и «Строфика».
В первой части Якубский обращается к изучению спорных положений современной ему науки о стихе. Таким является вопрос соотношения музыкального и стихотворного ритмов: «До сих пор многие исследователи ритма считают, что нет различия между законами ритма музыкального и ритма стихотворного»[451]. Якубский пишет, что музыкальный ритм основан на понятии такта – «единице времени, которая, объединяя в себе иногда несколько звуков, все время (по крайней мере, на определенном промежутке пьесы) остается неизменной и постоянной»[452]. По мнению ученого, античное стихосложение, основанное на долготе звуков, является примером точного следования законам музыкального ритма (разделение времени на равные такты). Однако современная система стихосложения такой возможности не имеет. Во-первых, она основана на чередовании ударений в стихе. Во-вторых, цезура и логические паузы нарушают равномерность такта. В-третьих, слог может состоять как из гласных, так и из гласной и нескольких согласных, что влияет на длительность произношения.
Якубский также выделяет три степени ритмизации: простейшая – чередование ударных и безударных, более сложная – чередование строк одинаковой длины (с приблизительно равным количеством стоп), высшая – чередование строф в стихотворении. Таким образом, стопа, поэтическая строка и строфа являются ритмическими элементами поэтического текста. Отдельное место в системе ритмизации Якубский отводит грамматике, которая «помогает почувствовать строку как отдельный ритмический член: чаще всего строка является законченным грамматическим предложением»[453]. В перспективе вопрос соотношения грамматики и ритмики получит развитие в работах М. Л. Гаспарова[454]. Из воспоминаний Р. Якобсона и П. Богатырева о работе Московского лингвистического кружка известно, что вопросу взаимообусловленности метрики и синтаксиса были посвящены ранние доклады О. Брика и С. Боброва[455].
Якубский также уделяет внимание вопросу взаимоотношения ритма и метра. Исследователь указывает на путаницу, которая сложилась вокруг этих понятий, в чем, по его мнению, виновны «российские исследователи стихосложения»[456]. Традиционная школа версификации, по замечанию Якубского, переняв греческую терминологию (где метр – это «размеренность, ритмичность поэтического языка»), всю сложную теорию стихосложения свела к «простому подсчету стоп, не обращая внимания, что сложное разнообразие наших стихов не дает втиснуть себя в суровые схемы этих метров»[457].
Ученый подчеркивает, что на эту проблему указывал еще Андрей Белый, определив ритм как «симметрию в нарушениях метра, т. е. некоторое сложное единообразие отступлений»[458]. Такое понимание ритма переняли почти все дальнейшие исследователи русского стихосложения после Белого: В. Брюсов, Н. Недоброво, которые в своих работах определяют метр как главное понятие, а ритм – как второстепенное. С таким подходом Якубский не соглашается в двух пунктах. Во-первых, исследователь отмечает, что это ошибочный взгляд, так как «метрические стихи» тоже ритмичны: «Основным в стихах является ритм. Под „метром“ греки понимали размеренность стихотворного текста, ритм слов, а под „ритмом“ – распорядок музыкальной мелодии в пределах времени»[459]. Во-вторых, Якубский указывает на методологическую ошибку Белого и Брюсова, для которых метр является родовым понятием, а ритм – видовым. По мнению исследователя, все обстоит наоборот: «Ритм является делением на части, упорядоченность, размеренность; метр – это деление на правильные, равные части, что в стихах бывает уже не всегда»[460]. Поэтому Якубский предлагает пользоваться словами «ритмика», «ритм» всюду, где речь идет о размеренности стиха, а терминами «метрика», «метр» – для обозначения правильных ритмов[461].
Охарактеризовав основные античные метры и строфы, Якубский подчеркивает практическое значение теории метрического стихосложения для современной науки, чему посвящает отдельную главу. Подобная авторская интенция может показаться не совсем понятной ввиду очевидности вывода. Однако в начале ХХ столетия необходимость ориентироваться на античную версификационную систему вызывала сомнение среди русских исследователей стиха.
В следующей части «Новое (тоническое) стихосложение» Якубский предлагает выделять две системы стихосложения: 1) метрическую, основанную на чередовании долгих/кратких слогов; 2) тоническую, основанную на чередовании ударных/безударных слогов. При этом силлабическая[462] и метро-тоническая системы, по мнению исследователя, являются частью «общего тонического способа ритмизации слова, частью тонического стихосложения новых времен»[463]. Тем не менее в дальнейшем автор синонимично употребляет понятия тонической и метро-тонической систем, в которых основополагающее место отводит ударению. В качестве примера одного из простейших способов тонической ритмизации исследователь приводит народное стихосложение, в котором ритмичность создается с помощью количества ударений, а строка выступает ритмическим элементом: «Поэтому в каждом стихотворении несколько слогов приобретают наибольшую силу (ритмическое ударение, которое не всегда совпадает с логическим ударением)»[464].
Обозначив, что ритм тонического стихотворения основан на ударении, Якубский отмечает, что ударение создает «все новые и новые ритмы»[465]. Это явление исследователь объясняет (помимо апелляции к другим элементам ритма) «теорией целого слова» – количеством слов в строке и их длиной, а также малой цезурой. В контексте идеи «целого слова» исследователь указывает на роль синклитиков и проклитиков – «слов, которые в языке соединяются со словом, что стоит рядом, и имеют с ним общее ударение». Среди исследователей, отстаивающих «теорию целого слова», Якубский также называет Б. Томашевского, который в своей ранней статье «О стихе „Песен западных славян“» (1916)[466] писал: «…произношение часто расходится с орфографией. Мы пишем „тысяча“, а читаем „тысча“ – в два слога. Счет слогов, основанный на подсчете пишущихся гласных, не всегда правилен. В русской речи многие группы гласных в произношении комкаются, пары гласных превращаются в односложные дифтонги»[467].
В той же статье Томашевский говорит о «новом направлении» в стихосложении, призывающем подчинить понятие ритма декламации, а понятие «стопы» заменить «сказом»: «Отмечу иное направление в современной литературе о ритме, – это направление, строящее стих на „сказе“. Говорят – стих распадается не на стопы, а на слова, стих живет „сказом“. Этим наука о ритме ставится в зависимость от изучения звуковых форм живой речи»[468]. Однако если Томашевский эту тенденцию опровергает по причине того, что «до сих пор считалось не ясным, как следует читать стихи», то Якубский видит в самом намерении практическое применение: «Реальный ритм стихотворения будет зависеть от слов, которые его составляют»[469]. В этом контексте исследователь обращает внимание на то, как меняется динамика стиха в зависимости от метра: «Мы привыкли говорить: „хореический ритм“, „анапестический ритм“ и связываем с этими терминами понимание быстрого, подвижного ритма, бодрого, энергичного»[470].
Отдельное внимание Якубский уделяет украинскому стихосложению. Беря за основу классификацию, предложенную Степаном Смаль-Стоцким и Федором (Теодором) Гартнером[471], исследователь выделяет три типа ритмики, свойственной украинской поэзии. В основе первого типа лежат народные песенные ритмы (преимущественно коломыйковый[472]); второй тип – так называемые «чужие ритмы», исторически развивающиеся в рамках силлабики; наконец, третий – метро-тоническая система, которая развилась под влиянием российского стихосложения. Якубский также рассматривает верлибр или «свободный стих» как результат борьбы «со всякими метрическими узами»[473].
Опираясь на работу В. Перетца «К истории малорусского литературного стиха», ученый замечает, что украинское стихосложение пришло из Польши, поэтому первые стихи были силлабические, попавшие под влияние народной поэзии. В свою очередь, «такие элементы искусственного стиха, как количество слогов, ‹…› цезура, систематическая рифмовка не могли не повлиять на народную поэзию»[474]. Таким образом произошла «тонизация» силлабической поэзии и «силлабизация» народных песен: «Следствием всех этих процессов стало то, что классический украинский стих, стих Шевченко, можно считать насколько народным, настолько и силлабическим»[475].
Однако, пожалуй, самое интересное – это вывод, к которому приходит Якубский, отвечая на вопрос, «какая из этих систем наиболее природная для украинского стихосложения»[476]. В качестве решения исследователь предлагает «новейшую» теорию «распевчатого единства», изложенную в посмертно изданной книге рано погибшего поэта-футуриста Божидара (она вышла в 1916 году с подробным комментарием его соратника по группе «Лирень» Сергея Боброва[477]). Якубский также отмечает, что «книжка невероятно ценная, но полная методологической и терминологической путаницы»[478].
В основе божидаровской теории лежит представление о том, что все размеры стремятся к объединению в общем ритме («распеве»): «Стопа, стих, стишие, стихотворение – уподоблением претворяются в разрастающиеся двигатели единого духовного сдвига творца. Все стопы (размеры), ‹…› вся движная задача творчества устремляется в изыскание некого единого размера – устава того дивного снаряда бытия, что есть совершенная вселенная»[479]. Подтверждение этому Якубский находит в феномене Шевченко, который «с чрезвычайной, неслыханной легкостью в одной и той же поэзии переходил от одной системы стихосложения к другой, ‹…› сохраняя при этом то гениальное „ритмическое единство“, которое присуще любому целостному художественному произведению»[480].
Все же для украинского стихосложения, как замечает Якубский, более характерен тонический принцип, что не исключает сосуществование других систем, потому что «теперь, когда мы имеем перед собой новейший принцип „ритмического единства“, мы можем только гордиться тем, что никогда не замыкались в рамках одной, всегда узкой системы»[481].
В последней части «Стихотворное благозвучие (эвфония)» Якубский обращает внимание на мелодичность украинского языка, определяет понятия аллитерации, ассонанса и диссонанса, дает классификацию рифм, основываясь на «Науке о стихе» Брюсова. Якубский отмечает, что украинские поэты мало работают над рифмой и «только в последние годы поэты-символисты обратили внимание на рифму, как и поэты-символисты западные и российские»[482]. Обращение современных поэтов к ассонансной и диссонансной рифмам исследователь связывает с «туманными», «неясными» современными настроениями, которым «не соответствует ясная точность рифм»[483].
В качестве вывода укажем на следующие важные моменты. Во-первых, перед нами свидетельство интереса украинского литературоведения 1920‐х к формальным аспектам литературного произведения. В этом контексте «учебник по стихосложению» Якубского является в каком-то смысле революционным исследованием в украинской науке о стихе. На это обращает внимание и Томашевский в своей рецензии: «Книжка Якубского, несмотря на свою элементарность, объединяет в себе выводы новейших исследований русского стиха. ‹…› Следует пожелать, чтобы автор переиздал ее на русском языке»[484].
В то же время Якубский, несмотря на важнейшие открытия в области стихосложения (разделение музыкального и стихотворного ритмов, взаимоотношение метра и ритма, значение синтаксиса и грамматики в теории стиха, выделение малой и большой цезуры и т. д.), во многом остается в плену идей своего времени. На это, в частности, указывает увлеченность автора отдельными теориями, которые не закрепились в дальнейшем в науке (выделение силлабической системы в рамках тонической, теория «распевчатого единства»). На эту особенность указывает и Томашевский: «Правда, можно упрекнуть автора за некоторую компилятивную эклектичность изложения: не всё в современных писателях о стихе заслуживает внимания, и кое-что лучше игнорировать. Но как первый самостоятельный опыт книга эта весьма ценна»[485].
В рецензии Томашевского есть еще одно интересное замечание: «В нашей скудной литературе по теории русского стихосложения книжка Якубского является событием. Написанная по-украински и обращающаяся к украинским поэтам, она трактует, собственно, теорию русского стиха (курсив наш. – Г. Б., А. Д.). Специальному вопросу об украинском стихе автор посвящает около 10 страниц»[486]. Другими словами, Томашевский подчеркивает, что теория стихосложения, изложенная Якубским, может применяться и к изучению русского стиха, так как в ее основе лежат современные методы и оригинальный авторский подход. Но, помимо этого, здесь может присутствовать и другое намерение: «вписать» работу Якубского в общий научный контекст, т. е. обратить на нее внимание российских теоретиков[487]. И наконец, о высокой оценке «Науки стихосложения» может говорить и факт включения ее в список источников составителем библиографии к работе Томашевского «Теория литературы», изданной в 1925 году[488].
Не осталась незамеченной работа Якубского и среди украинских критиков и литературоведов. В 1920‐е годы в диалоге с «Наукой стихосложения» находятся почти все исследователи, которые занимались изучением поэтического языка и стихосложением. Среди отдельных статей можем перечислить исследования «К проблеме свободного размера» М. Йогансена (1922), «Ритмика языка (тонический стихотворный ритм)» Л. Кулаковского (1925)[489], «Динамика слова» Л. Булаховского (1926), «Поэзия и музыка» Б. Навроцкого (1925), «Ритмические поиски современной украинской поэзии» (1930) В. Ковалевского и др.[490]
Глава 5. «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров» Майка Йогансена и «О теории прозы» Виктора Шкловского
Творчество украинского поэта, писателя, критика и, не в последнюю очередь, переводчика и лингвиста Майка Йогансена (1895–1937), одного из деятелей «Расстрелянного Возрождения», является ярким примером культурного трансфера: то, как Йогансен воспринял, использовал и трансформировал формальный метод, можно проследить в его и теоретических работах, и в художественной прозе. Настоящая глава посвящена сравнительному анализу двух теоретических текстов – «О теории прозы» Виктора Шкловского и «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров» Майка Йогансена.
Исследователи отмечают, что художественные, поэтические, и теоретические поиски Йогансена следует рассматривать как органическое целое, где теория и практика дополняют друг друга[491]. Это «единство» будет продемонстрировано на примере анализа романа Йогансена «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей возлюбленной Альцесты в Слобожанскую Швейцарию» (1930), который представляется важным и интересным как с точки зрения примера формалистской прозы, так и с точки зрения традиции пародийной литературы в до- и послереволюционной Украине и России[492].
Для начала несколько слов об авторе. Как сообщает Йогансен в автобиографии[493], он родился в Харькове в семье учителя немецкого языка Гервасия Йоганнсена (согласно законам украинского правописания Майк оставил в фамилии одно «н»), выходца из Курляндии, и Ганны Крамаревской из рода старобельских казаков. Начальное образование получил дома, потом учился в Третьей мужской гимназии в Харькове (окончил в 1913 году) вместе с будущими поэтами-футуристами Григорием Петниковым, Божидаром[494] и писателем и географом Юрием Платоновым[495]. В истории украинского и русского авангарда Петников – значимая фигура. Он был одновременно близок кругу украинских литераторов и художников – Михаилу Доленго, Максиму Рыльскому, Дмитру Загулу, Михайлю Семенко, Борису Косареву, Александру Белецкому, и среде русских футуристов – Николаю Асееву, Велимиру Хлебникову, Владимиру Маяковскому, Давиду Бурлюку, Божидару, Борису Пастернаку, Елене Гуро[496].
Дружба с Петниковым продлилась до самой гибели Йогансена[497], который также переводил петниковские футуристические стихи на украинский и немецкий языки[498]. В письмах Петникова к Платонову читаем:
Мне вспомнились наши гимназические годы, вступительный экзамен, который я держал в харьковскую 3-ю гимназию – вместе с Мишей Йогансеном – что была на улице тихой, напротив костела, улице Гоголя ‹…›. Как вскоре купили втроем – на паях, экономя на завтраках ‹…› футбольный чудесный мяч (Миша, я, и Юра Платонов, будущий автор «Хмеречи» и других книг), это была новинка тогда, вроде полетов Уточкина, что происходили за городом, возле парка, я вспомнил этот наш футбольный мяч, а потом и бутцы… и гоняли его по каким-то пустырям за Лермонтовской улицей, где стоял и домик кирпичный учителя немецкого языка Гервасия Андреевича (Йогансена)[499].
Добавим, что Петников на рубеже 1910‐х–1920‐х годов был другом и последователем Велимира Хлебникова, который даже передал ему титул Председателя Земного шара. Можно предположить (хотя фактических доказательств этому нет), что Йогансен был близок к кругу авангардистов – Николаю Асееву[500], Хлебникову, Владимиру Маяковскому, сестрам Синяковым. В этот круг также входил украинский художник-конструктивист Василий Ермилов, с которым был дружен поэт Валериан Полищук[501].
В 1917 году Йогансен закончил классическое отделение историко-филологического факультета Харьковского университета, получив степень магистра филологии (специализация – латынь)[502]. Приблизительно в те же годы он учился и на словесном отделении историко-филологического факультета в Полтаве, сдал экзамен, однако диплом не получил. Впоследствии Йогансен с перерывами преподает курс истории украинского языка в ХИНО.
Еще будучи гимназистом, он начал писать стихотворения – на русском и немецком. Однако с 1918 года перешел на украинский язык, решив, что именно так его стихи «выходят более естественными». Позже Йогансен также вспоминал, что в 1918 году он впервые заинтересовался политикой и начал изучать марксизм: «читал Плеханова, Маркса, Энгельса, Каутского, Гильфердинга, а дальше преимущественно Ленина»[503]. Выбор украинского языка, как и политической позиции, был продиктован впечатлением от кровавых расправ белых в Харькове: «Год 1919 – под впечатлением деникинщины – провел резкую линию в мировоззрении: примкнул к марксистскому»[504]. В своих воспоминаниях украинский литературовед Александр Лейтес[505] об этом пишет:
Я спросил его – почему он, владеющий столькими языками, пишет стихи на украинском и только на украинском языке. На это Йогансен ответил, что хотя шкала ценностей языков может быть разной… лучшим языком для каждого становится тот, на котором он лучше всего может выразить самое значительное, что есть в его душе. А таким языком для него, Йогансена, был и остается язык его [родной матери, язык Шевченко и Тычины, больших неисчерпаемых возможностей][506].
В 1921 году были напечатаны его первые стихотворения – в журнале «Шляхи мистецтва», альманахе «Штабель», сборниках «На сполох», «Жовтень»; последний содержал составленный Йогансеном «Универсал к рабочим и пролетарским художникам украинским» (подписанный также Хвылевым и Сосюрой) («Составил манифест для сборника „Жовтень“ („Универсал“) в конструктивистском духе…»[507]). В «Универсале» провозглашалось:
Одинаково отмахиваясь от всяких неоклассиков, которые, подкрасившись красным кармином, кормят пролетариат избитыми формами из прошлых веков, и от жизнетворческих футуристических безбудущников, которые выдают голое разрушение за творчество, и от всяких формалистических школ и течений ‹…›, объявляем эру творческой пролетарской поэзии настоящего будущего ‹…›[508]
Тем не менее в своей автобиографии Йогансен отмечает, что в 1920 году он еще думал примкнуть к футуристам.
В январе 1923 года Йогансен стал одним из основателей Союза пролетарских писателей «Гарт»[509], просуществовавшего до 1925 года[510]. О своем участии в организации Йогансен писал:
Все время находясь в «Гарте», чувствовал ошибочность того взгляда, будто литература «организовывает» людей ‹…›. После развала «Гарта» был одним из основателей ВАПЛИТЕ и находился там вплоть до распада организации, хотя не раз ссорился с ее руководителями, главным образом на тему о роли футуризма; конкретно чуть не вышел из ВАПЛИТЕ вместе со Слисаренко, отстаивая Бажана и Шкурупия[511].
Начиная со второй половины 1920‐х годов, Йогансен уделяет больше внимания прозе. В 1925 году выходят его первые прозаические вещи – сборник рассказов «17 минут» и авантюрный роман «Приключения Мак-Лейстона, Гарри Руперта и других», который стал первым украинским бестселлером. Роман был напечатан под именем вымышленного немецкого прозаика Вилли Вецелиуса и издавался по частям, каждая глава – отдельной книгой[512]. Всего вышло 10 выпусков общим тиражом 100 тысяч экземпляров. В автобиографии Йогансен писал: «И в своих стихах, и в прозе, и в теоретических статьях неуклонно старался поднять украинское слово до европейского уровня»[513].
Майк Йогансен является ярким примером self-made artist, принявшего активное участие в конструировании украинской национальной культуры и идентичности в 1920‐е годы. Будучи русско- и немецкоязычным с рождения, в определенный исторический момент Йогансен, во-первых, сознательно выбирает украинский язык, культуру и литературу и решает стать украинским писателем (в отличие, например, от его современника киевлянина Сигизмунда Кржижановского). Второе – это «марксистская позиция» Йогансена, точнее то, как Йогансен понимал марксизм, и связанное с этим его видение места и роли литературы в обществе (вспомним его цитату об участии в «Гарте»; подробнее этот вопрос рассматривается ниже). В-третьих, обратим здесь внимание на биографические обстоятельства жизни Йогансена: его дружбу с русскими футуристами, знание их творчества[514] и русской литературы в целом. И наконец, Йогансен принимает активное участие в процессе строительства новой революционной украинской культуры, ориентированной на Европу. Этой задаче, собственно, и подчинены все творческие и теоретические поиски писателя. Схожими были и приоритеты мастерства, умения строить жанровые повествования, фабульной техники у российских прозаиков из группы «Серапионовы братья» начала 1920‐х (именно «На Запад!» ориентировал их поиски Лев Лунц), но «серапионы» как раз подчеркивали собственную аполитичность и не раз за это были атакованы напостовской, а потом рапповской критикой.
В работе «Как строится рассказ», которую сам автор называет «практическим руководством для молодых прозаиков», Йогансен пишет: «Наша почти дикарская отсталость в вопросе тектоники фабулы нуждается в хирургических операциях над западной литературой, чтобы облегчить нам продвижение литературной техники»[515]. Эту задачу Йогансен решает и как «просветитель» (вместе с теоретическим анализом книга содержит произведения, переведенные автором с английского), и как теоретик – опыт формальной школы, ее теоретический инструментарий активно используется Йогансеном для анализа западной литературы, чтобы таким образом «повысить уровень» своей национальной словесности. Другими словами, он пытается научить молодых украинских авторов, как быть хорошими писателями. О том, что Йогансен следил за работами русских формалистов, вспоминал Лейтес.
Йогансен внимательно читал почти все выходившие в послеоктябрьском Петрограде работы «опоязовцев». Кое-что в этих работах ему импонировало. Его – образованнейшего филолога и лингвиста – не могло не интересовать любое новое конкретное исследование, посвященное проблемам поэтики и стилистики – будь то украинское или русское, немецкое или английское (на этих языках он читал абсолютно свободно). Беседуя с ним, я неизменно поражался тому, насколько широко и глубоко он осведомлен во всем том, о чем рассуждали и спорили теоретики формальной школы в России, представители экспрессионизма в Германии или деятели «имажизма» в Англии[516].

