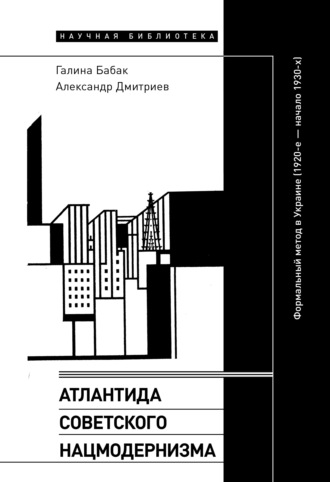
Полная версия
Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
Другим сторонником лингвистического подхода являлся Борис Навроцкий[385], который в своей работе «Язык и поэзия. Очерк по теории поэзии» (1925) предложил оригинальную теорию искусства. В предисловии Навроцкий отмечает, что его книга – попытка краткого очерка основных проблем теории литературы; задача монографии – «дать читателю возможность представить, как можно строить поэтику на основе лингвистического подхода»[386]. Методологической основой теоретических поисков Навроцкого, помимо идей А. Потебни, послужили также интуитивизм Б. Кроче, релятивизм К. Фосслера, неокантианство, символизм Андрея Белого, лингвистические теории Ф. Фортунатова, И. Бодуэна де Куртене, формализм опоязовский и более умеренный (в версии В. Жирмунского), а также экспериментальная психология и философия (Вундт, Геффдинг, Христиансен и др.).
Книга состоит из девяти глав, в каждой из которых автор последовательно отстаивает важнейший потебнианский принцип: в художественном произведении каждый элемент получает значение только благодаря обусловленности внутренней формой. При этом исследователь расширяет понятие «внутренней формы» и вводит термин «грамматическая форма»: значение слова зависит «от разных способов его расстановки»[387], т. е. на значение слова влияют соседние слова и их грамматические формы и значение. Таким образом, Навроцкий сводит понятие образности к семантике слова и игре ассоциаций (схожесть на основании смежности). Понятие «грамматической формы» пересекается с понятием «поэтической семантики» Б. Томашевского, чью работу «Теория литературы» (1925) автор называет «итогом всего, что у нас было в предыдущих исследованиях Жирмунского, Шкловского, Тынянова»[388].
Томашевский пишет: «Слово получает точное значение во фразе. ‹…› Тот факт, что значение определяется часто именно контекстом, а не самим словом, доказывается наличием в разговорном языке слов без значения»[389]. Томашевский также обращается к поэтической функции «слова-образа» и отмечает, что «„образ“ мог бы возникнуть только при изоляции слова из контекста ‹…› Но при таком обдумывании слова могут возникнуть любые психологические ассоциации ‹…›, не оправдываемые и не подсказываемые контекстом»[390]. К подобному заключению приходит и Навроцкий, подытоживая, что «поэтический язык представляет собой способ высказывания определенного внутреннего содержания или через абстрактность образов, которые даны в значении слов и выражений, или через слуховые образы, которые даны в „музыке языка“»[391].
В главе «Форма и содержание» Навроцкий присоединяется к дискуссиям вокруг формального метода в советской Украине в 1922–1923 годах[392] и в России в 1923–1925 годах[393]. Исследователь приходит к выводу, что все разногласия связаны с разностью трактовки понятия «форма», при этом он отмечает «консерватизм»[394] русских формалистов: «Шкловский, Жирмунский и другие „формалисты“, давно уже прославились как хитромудрые „контрреволюционеры“, которые мастерски маскируют показной ученостью свой внутренний консерватизм»[395]. Под «консерватизмом» Навроцкий понимает узость их теоретических поисков. В частности, Шкловский, по его мнению, рассматривает форму как «поэтическую эквилибристику художественными приемами» и испытывает отвращение к «содержанию» и «идеологии»[396]. В качестве выхода из проблемы Навроцкий предлагает «распрощаться с этим бесполезным термином» – формой – и обратиться к изучению семантики и фонетики языка, ибо, по его мнению, «на звуках строится художественность поэтического произведения»[397].
Навроцкий оспаривает и другое положение формальной теории – прием остранения как главную цель искусства (Шкловский), называя подобную позицию «формалистским гедонизмом»[398]; исследователь усматривает в акцентировке остранения продолжение эстетики Канта. При этом Навроцкий соглашается с формалистами, что «борьба и изменение технических школ в искусстве» возникает из‐за необходимости создания «нового образа», который бы вызывал новые переживания, что отвечает формалистскому понятию «изнашивания приема» в опоязовской теории литературной эволюции. Тем не менее из этого исследователь делает вывод, что эффект новизны создается с помощью «суммы технических приемов высказывания»[399], которые сами по себе не являются «формой», а только «способами высказывания»: «И в искусстве, и в науке важно именно то внутреннее содержание, которое вскрывается с помощью способов высказывания»[400]. Таким образом, по мнению Навроцкого и вразрез с тогдашними «психологистическими» ориентирами А. Белецкого, объективная теория искусства «должна интересоваться не восприятием произведения искусства, а им самим»[401], т. е. «словом-образом» в широком смысле этого слова.
Даже краткий обзор этой работы Навроцкого позволяет сделать вывод, что, с одной стороны, она является попыткой преодолеть формалистское сведение задач искусства к горизонту преимущественно художественного восприятия, с другой стороны, сам Навроцкий оказывается заложником эстетического подхода. Новаторский характер его работы заключается в приближении к пониманию произведения как структурной целостности, где значение каждого элемента исходит из телеологичности общей системы. Впоследствии этот подход будет развит в работах Романа Якобсона и Пражского лингвистического кружка.
В целом отличительной чертой всех вышеназванных сочинений по теории поэзии был ориентир на модели лингвистического и психологического знания; это говорит о сильной традиции данных подходов внутри национального контекста развития украинской филологической науки тех лет. С другой стороны, здесь можно отметить эклектичность и тенденцию к смешению исследовательских ориентиров, в частности, формального, лингвистического и психологического методов.
Вторая половина 1920‐х в украинском литературоведении и критике отмечает переход от изучения вопросов поэтического языка к вопросам техники прозы. В это время появляется огромное количество статей, посвященных разным аспектам исследования композиции, сюжетосложения и стиля, а также отдельные теоретические работы: «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров»[402] (1928) Майка Йогансена, «Природа новеллы» (1928, 1929) Григория Майфета, «Литературные приемы (попытка социального анализа)» (1929) Олексы Полторацкого.
Перечислим также отдельные статьи, посвященные изучению прозаических элементов произведения: «В поисках новой повествовательной формы» А. Белецкого, «Как строится литературное (прозаическое) произведение?» Б. Навроцкого, «К композиции романов Нечуя-Левицкого» С. Якимовича, «Сюжет и фабула» Я. Хоменко, «Фабула и психологизм» А. Лейтеса, «К современной теории сюжета» В. Клименко, «Социология тропов И. Франко» О. Полторацкого, «Фантастика в „Страшной мести“ Гоголя» В. Державина, «Как производить романы» и «Практика левого рассказа» О. Полторацкого, «Анализ детективной новеллы» Г. Майфета и др.[403].
Для развития указанных выше концепций в украинском советском литературоведении 1920‐х годов характерна тенденция к синтезу или даже «примирению» двух «школ» – формальной и социологической. В русской литературе формально-социологический метод, с одной стороны, активно разрабатывал Борис Арватов, который тоже рассматривал искусство как систему приемов, но «вопреки формальной школе – систему, целиком детерминированную общественной практикой»[404]. С другой стороны, помимо лефовских единомышленников Арватова вроде А. Цейтлина, синтезировать идеи социологического (точнее, марксистского) направления с общеформалистскими пытался в середине 1920‐х годов из российских авторов старшего поколения также Павел Сакулин[405]. В украинской литературе ярким последователем «формально-социологического метода» является Борис Якубский, который издал учебник «Наука стихосложения» (1922)[406]. Вместе с этим Якубский – один из пионеров социологического метода в украинском литературоведении: в 1923 году выходит его работа «Социологический метод в литературе». Научный «синтетизм» ученого проявился, например, в объяснении эволюции литературных явлений их тесной связью с жизнью: «Не только стихи, не только искусство, но и жизнь имеет свой ритм, особый для каждой эпохи, особый для каждого класса. Собственно ритмы жизни отражаются в ритмах искусства. И поэтому эволюция ритмики стихосложения отражает на себе эволюцию общественной жизни новых времен»[407].
В этом контексте следует рассматривать и работу аспиранта Якубского, писателя и критика Олексы Полторацкого[408] «Литературные приемы (попытка социального анализа)» (1929). Его исследование в определенном смысле можно считать кульминацией интереса украинских критиков к формальному методу как в науке, так и в области художественных практик: автор работает на пересечении двух регистров – аналитического и синтетического, где в качестве синтеза теоретических поисков выступает панфутуристическая (конструктивистская по своему устремлению) теория искусства, которую на протяжении 1920‐х годов разрабатывал Семенко[409].
Теоретическая основа исследования Полторацкого – это, в первую очередь, работы русских формалистов: В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Томашевского, Б. Ярхо, а также лингвиста Г. Винокура, близкого к кругу опоязовцев. С другой стороны, автор обращается к работам Арватова «Искусство и классы» (1923), «Контрреволюция формы (о Валерии Брюсове)» (1923), «Синтаксис Маяковского» (1923), к отдельным статьям Семенко, которого Полторацкий рассматривает как теоретика и практика левого искусства. Социальную функцию искусства автор выводит из работ Г. Плеханова и П. Сакулина. Наконец, Полторацкий предлагает «социальную» интерпретацию приема «остранения», основываясь на фрейдизме. Рассмотрим далее подробнее, как в исследованиях Полторацкого взаимодействуют основополагающие универсалистские концепции ХХ века – формализм, марксизм и психоанализ.
В предисловии Полторацкий отмечает, что его работа состоит из статей, написанных им на протяжении 1926–1928 годов; также он пишет, что такие критики, как С. Щупак, В. Державин, С. Руман относят его теоретические поиски к «формально-социологическому методу». Сам Полторацкий оспаривает свою принадлежность к «форсоцевскому подходу» в понимании Арватова, называя себя «морфологом»: «Разница очевидна, так как морфология – это наука про организацию литературного произведения, в то время как формализм – это философская школа про единственную реальную категорию в искусстве»[410]. Подобное уточнение может быть связано с нежеланием быть причисленным к «формализму», который уже к тому времени был маркирован официальной марксистской критикой как «враждебное буржуазное направление» в науке и искусстве.
Полторацкий определяет искусство как «функциональную комплексную машину, состоящую из нескольких компонентов»[411]; функциональную направленность исследования подчеркивают и эпиграфы, взятые из журналов «ЛЕФ» и «Новая генерация»: «Стилистическая конструкция – строение телеологическое, целостное»; «Мы должны быть организаторами новой психики. Нового растущего человека»[412].
Книга состоит из двух частей – «общей» и «специальной», каждая из которых содержит четыре и пять глав соответственно. В первой части Полторацкий последовательно рассматривает вопрос генезиса литературного произведения, выделяя такие понятия как «жизненный материал» («совокупность впечатлений от внешнего мира»), «приемы обрамления жизненного материала», «словесный материал», «литературный факт» (= произведение искусства), «остранение». Вслед за формалистами Полторацкий разграничивает «жизненный материал» и «словесный»: «Литературное произведение, которое лежит перед нами, как определенный факт есть результат обрамления жизненного материала комплексом приемов»[413]. Автор отмечает, что «словесный материал» дважды организовывает «малый стиль и фактуру». При этом под «малым стилем» Полторацкий понимает лексическую и синтаксическую организацию произведения в зависимости от экономической базы (здесь он апеллирует к работе Арватова «Синтаксис Маяковского»[414]). Понятие «фактуры» (центральное в концепции панфутуризма Семенко)[415] Полторацкий определяет как «комплекс приемов, которые делают произведение „выразительным“ (тропы и т. д.)»[416].
Приемы фактуры Полторацкий разбивает на четыре группы: 1. Те, которые формируют материал (фабула, тема, сюжет, композиция); 2. Те, которые делают материал «ощутимым» (образ, прием остранения, затрудненность); 3. Приемы семантические (тематика); 4. Приемы типологические, т. е. жанровые[417]. Из этого он делает вывод, что таких категорий, как «форма и содержание», не существует. При этом категорию «содержания» Полторацкий рассматривает как «компонент стиля», а «стиль» уравнивает с понятием «фактуры»: «Реально в литературном произведении существуют только приемы, их совокупность создает стиль (фактуру)»[418].
Процесс создания «литературного факта» Полторацкий видит так: автор обрамляет и организовывает с помощью приемов малого стиля и фактуры словесный материал с целью воздействия на читателя. Далее Полторацкий переходит к рассмотрению понятия «образа» и присоединяется к критике формалистами (главным образом, Шкловского) теории «внутренней формы» Потебни, однако при этом отмечает: «Но позитивное влияние теории Потебни ни в коем случае нельзя отбрасывать. Потебня много говорит о том, что первоначальный источник поэтического языка есть простое слово»[419].
В целом Полторацкий отмечает большие достижения формальной школы в области изучения «литературных приемов», в особенности в исследованиях Томашевского. На работе последнего «Теория литературы» он основывает свой последующий анализ тропов (метафоры и синекдохи-метонимии) и обозначает два типа письма – метафорический и метонимический. В качестве примера развернутой метафоры автор приводит стихотворение Йогансена «На майдане снует ветер» («На майдані куриться вітер», 1927), сюжет которого следующий: в годовщину смерти Ленина в толпе появляется неизвестный оратор; это Ленин, он говорит: «Я всегда буду с вами, с бедным моим крестьянством, с рабочими моими любимыми», – и исчезает. В этом Полторацкий усматривает «сюжетную формулу» библейской легенды о воскрешении Христа. Другим примером развернутой метафоры, по мнению Полторацкого, является повесть Франко «Boa constrictor»; формально-социологический анализ этого произведения он предлагает в главе «Социология тропов».
Отдельное внимание Полторацкий уделяет формалистскому приему остранения и посвящает ему отдельную главу. По его мнению, наиболее емкую характеристику приема предлагает Томашевский, который пишет: «О старом и привычном надо говорить как о новом непривычном. Об обыкновенном говорят как о странном»[420]. Полторацкий также отмечает, что Шкловский в своей работе «Искусство как прием»[421] определяет остранение как прием нейтральный и универсальный, и вслед за Шкловским приводит примеры из Толстого. Основывая свои дальнейшие рассуждения на работе Фрейда «Тотем и табу» Полторацкий указывает, что «остранение у Толстого социально обусловлено».
Толстой «остраняет» картину порки крестьян, потому что он протестует против этого; в «Холстомере» Толстой глазами проблематичной лошади[422] критикует современный ему общественный строй. ‹…› Совсем не трудно провести параллель между остранением Наташи (в данном случае Наташа замещает лошадь) и взглядами Толстого на театр (см. его «Что такое искусство»). Наконец все эротические примеры у Шкловского тоже не столько «остраняют» впечатление от человеческих гениталий, сколько просто «обходят» неудобные для употребления слова[423].
Из этого Полторацкий делает вывод, что писатель остраняет вещи и поступки, когда относится к ним враждебно или ему неудобно о них говорить: «Тут, очевидно, действуют психологические законы табу»[424].
Таким образом, в своем исследовании Полторацкий предлагает интересный синтез трех основных методологических подходов, которые развивались в литературоведении и искусстве в 1920‐е годы – формального, социологического и психоаналитического. Отметим два принципиально важных момента: с одной стороны, здесь можно говорить о поиске универсального (синтетичного по своей природе) метода, который бы не просто уравновешивал обозначенные выше подходы, а делал возможным изучение сложных феноменов в литературе и искусстве. С другой стороны, очевидно желание Полторацкого выйти за узкие рамки определенной методологической системы. Важно и то, что исследователя интересует также практическое применение разработанной им системы – на примере анализа творчества украинских писателей и поэтов он демонстрирует, что именно актуализирует их творчество в современном тому или иному автору контексте (например, у Франко).
«Социальную» интерпретацию «остранения» Полторацкого подверг острой критике В. Державин в своей статье «О литературных приемах в целом и про так называемое „остранение“». Первую часть статьи Державин посвятил внимательному рассмотрению понятия «остранения», основываясь на работах Шкловского и Томашевского. Он отмечал, что само по себе «остранение» является не приемом, а результатом использования тропов, которые вещь «остраняют». Полторацкий же, по его мнению, слепо заимствует термин у Шкловского и Томашевского и встраивает его в свою готовую систему, «не замечая ни кричащих противоречий, которые возникают, ни бессмыслицы своего „метода“»: «После всех этих уточнений становится понятной степень абсурда, содержащаяся в попытке Ол. Полторацкого определить единственную социальную функцию (курсив Державина. – Г. Б., А. Д.) „остранения“ как литературного приема в целом, рассматриваемого в свете опоязовской метафизической эстетики»[425].
И наконец, приведенный выше анализ отдельных работ хорошо иллюстрирует процесс «культурного трансфера»: заимствование и творческое переосмысление отдельных элементов (и шире – целых концепций) другой культуры направлено на создание собственной национальной уникальной системы искусства и призвано «модернизировать» и усилить уже существующую культуру. При этом заимствованные элементы в большинстве случаев получают другое осмысление и приобретают новую функцию (например, «остранение» у Полторацкого).
Важно обратить внимание и на разные функции учебников и пособий по «литературности» в российском и украинском контекстах. И в том и другом случае речь шла о ликвидации элементарной словесной безграмотности, учитывая и растущий идеологически мотивированный призыв тружеников от сохи и станка в литературу (об этом специально и подробно писал еще в 1990‐е годы Евгений Добренко[426]). Но все-таки одними «протосоцреалистическими» ориентирами эта ставка на литературную учебу не ограничивалась. В конце концов, и русский формализм был тесно связан в самом начале 1920‐х с литературными студиями издательств и в меньшей степени с Всероссийским литературно-художественным институтом[427]. В нэповской России самоучители словесности порой были и формой литературно-идейной борьбы разных течений и школ (как в случае соответствующих руководств Шенгели и Маяковского[428]).
У сторонников ОПОЯЗа были и теоретически выдержанные (как у Томашевского), и более «халтурные» заказные пособия, как «Техника писательского ремесла» Шкловского. Перед самой волной горьковского призыва к литучебе начала 1930‐х в России успели выйти и коллективные работы признанных литераторов вроде «Как мы пишем»; анкеты их украинских коллег (в духе венгеровских коллекций автобиографий) остались в архивах и увидели свет почти столетие спустя[429]. В 1933 году соратник Бахтина Павел Медведев, покритиковавший авторов «Как мы пишем», выпустит в Ленинграде книгу, заглавие которой почти дословно повторит название труда Александра Белецкого десятилетней давности: «В лаборатории писателя» (ее потом переиздадут дважды в 1960‐е годы и самом начале 1970‐х).
Особенностью украинских «поэтик» был их как раз синтетический характер – ни марксизм, ни психоанализ, ни литературная игра с читателем не смотрелись в их потоке неорганично, они представали не элементами разных художественных слоев или сред (как в России, где элементарные сочинения А. Крайского никто не путал с пособиями Шенгели или более ранней книжкой В. Вересаева[430]), но частью сплава или, скорее, взвеси, образованной ускоренным развитием не только самой литературы, но и украинской литературной культуры конца 1920‐х годов.
Глава 4. «Наука стихосложения» Бориса Якубского
Борис Якубский[431] – представитель академического литературоведения, известен в первую очередь как теоретик украинской литературы, автор двух фундаментальных работ 1920‐х годов – «Наука стихосложения» и «Социологический метод в литературе». В числе других теоретических проблем его интересовали вопросы литературной эволюции, социологии литературных влияний, проблема изучения формы литературного произведения, формалистская концепция «литературного быта»[432]. Его отдельные статьи 1920‐х находятся в диалоге с теоретическими поисками русских формалистов[433]. По свидетельству видного и советского и эмигрантского украинского историка Александра Оглоблина, в то время Якубский «увлекался теорией и методологией литературы (кстати, он был и во многом оставался формалистом в методологии литературы), сделал немало в этой области…»[434] Формальный анализ Якубский активно применял в исследованиях, посвященных творчеству Т. Шевченко, Леси Украинки, Панаса Мирного, О. Кобылянской, С. Васильченко. В 1920‐е годы он также активно участвует в литературном процессе и выступает как литературный критик (ему, в частности, принадлежит и большой очерк о Михайле Семенко)[435].
Перед Первой мировой, в 1908–1914 годах, Якубский обучался на словесном отделении историко-филологического факультета Киевского университета Святого Владимира и вместе с будущими «неоклассиками» – М. Зеровым, П. Филиповичем, М. Драй-Хмарой и В. Петровым – был одним из слушателей семинария русской словесности В. Н. Перетца. В кругу «неоклассиков» Якубского прозвали Аристархом в честь грамматика эпохи эллинизма, хранителя знаменитой Александрийской библиотеки (конец III – начало II века до н. э.)[436].
В автобиографии Якубский пишет, что с самого начала сосредоточил свое внимание на вопросах методологии и теории литературы[437]. В университете, будучи студентом, работал под руководством фольклориста и этнографа, будущего академика Андрея Лободы.
Первой студенческой работой был доклад на тему «Новейшие приемы изучения поэтических произведений по книге А. Белого „Символизм“» (1911). Дипломную работу защитил на тему «Стих Никитина» (1913). Медальная работа была на тему «Эволюция стиха в новой русской литературе», которая не была закончена из‐за военного призыва. В 1919 году стал действительным членом киевского Украинского научного общества, потом Историко-литературного общества при Академии наук, где читал доклады: «Эволюция ритма в поэзии» и «Социологический метод в истории литературы»[438].
Сформировавшись в среде литературных школ В. Н. Перетца и А. М. Лободы, Якубский остается верен принципам «филологической критики» и в своих последующих работах: он одним из первых обращается к формальному анализу поэзии[439]. Украинский литературовед и критик Григорий Костюк, вспоминая своего учителя, писал:
Борис Владимирович Якубский обладал широкими энциклопедическими знаниями по теории и методологии литературы. От древних греков до «опоязовцев» он чувствовал себя как дома. ‹…› Его лекции по теории и методологии литературы напоминали скорее скрупулезные ‹…› аналитические упражнения над тем или иным художественным произведением. Ничто не должно было пройти мимо нашего внимания: ни ритмика, ни размер, ни строфическое строение, ни стилистические приемы. ‹…› Он очень ценил умение разложить поэзию или новеллу на мельчайшие составные части и описать их[440].
Но помимо этого Якубский, как указано в предыдущей главе, одним из первых обращается к социальной природе литературного произведения. Теоретические взгляды Якубского можно охарактеризовать как научный «синтетизм»[441]: рассматривая литературное произведения как «продукт определенной общественной идеологии», ученый делает социальные обобщения на основе формального анализа, таким образом пытаясь примирить формализм с социологией[442].
В оценке формальной школы Якубский достаточно критичен и считает, что она допустила две ошибки: во-первых, «пробовала выдать за единственную научно-литературную работу статистические подсчеты всяких формально-литературных ходов»; во-вторых, «сразу взяла слишком крайнюю позицию, отбрасывая в литературоведении все, кроме изучения формы»: «То, что ‹…› старые литературоведы пренебрежительно относились к форме, совсем не означает, что нужно провозгласить – „форма, форма и только форма; в литературе существует только форма, а все что не есть форма, это социология, психология ‹…› и нас совсем не волнует“»[443]. Однако и для Якубского так называемое «содержание» не главенствует над формой: он выделяет в произведении форму и содержание, но в тоже время указывает на «абстрактность» и «условность» этих понятий: «Разделение произведения искусства на „содержание“ и „форму“ и разговоры про то, что имеет большее значения – содержание или форма, – пустое и ненужное дело»[444]. Научный «синтетизм» Якубского, его стремление выйти за границы условных понятий, проясняет и некоторые положения «Науки стихосложения»: исследователь неустанно подчеркивает единство формы и содержания и их прямую взаимообусловленность.

