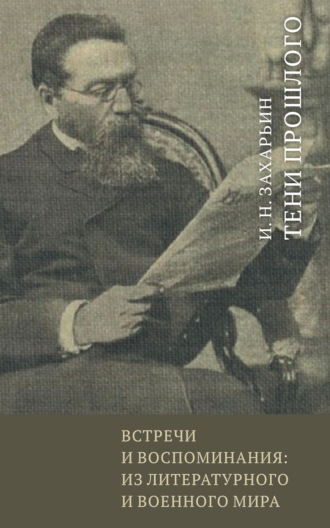
Полная версия
Встречи и воспоминания: из литературного и военного мира. Тени прошлого
В те времена, как известно, не было не только телеграфа, но и железных дорог; первый телеграф через Пензенскую губернию прошел лишь в следующем 1859 году; все важные и экстренные распоряжение и донесение пересылались эстафетами, то есть при помощи лошадей. Так же точно, вероятно, двигалось и «дело» пензенского откупщика, купца 2-й гильдии Ненюкова. Однако, как ни тихо шло это дело, но дошло оно каким-то путем до Лондона и попало, конечно, в редакцию «Колокола», в руки А. И. Герцена. А затем, в мае 1858 года, появилась и самая статья «Дневной грабеж»…
«Колокол» в то время был очень распространен: его беспрепятственно получали в нескольких экземплярах в каждом губернском городе и во многих даже уездных городах. Мы, офицеры 16-го стрелкового батальона, получали этот экземпляр от М. Н. Владыкина, выписывавшего два экземпляра. Теперь прошу читателя представить себе, какое впечатление произвела тогда в Пензенской губернии статья Герцена, написанная вдобавок en toutes lettres[20].
И этому самому губернатору Панчулидзеву, отлично, конечно, ознакомившемуся с статьей «Колокола», уже висевшему на волоске и ожидавшему грозы, вдруг докладывают, во время приезда в Чембар, что в числе имеющих представиться чиновников находится брат знаменитого литератора Белинского… И вот, не будучи в силах отомстить далекому Герцену, Панчулидзев сорвал гнев на несчастном титулярном советнике Белинском[21].
– И уж добро бы я действительно пил, – говорил мне добродушный Константин Григорьевич, – тогда, по крайней мере, не было бы уже так больно и обидно! А то ведь нет: пил, как и все перед обедом, перед ужином, в гостях, где придется, – и пьяным меня никто не видел…
После первого нашего свидания Константин Григорьевич зашел ко мне, и мы потом стали видеться часто. Разговоры наши большею частью, конечно, вращались около его покойного брата, Виссариона Григорьевича. Вот что я узнал в то время и записал в свою памятную книжку.
Отец Белинских был, как известно, полковой врач, стоявший с полком в Свеаборге, где и родился тогда его старший сын Виссарион. Родиной его было село Белынь Чембарского же уезда, где отец Григория Никифоровича Белинского был диаконом. От этого и самая фамилия врача была вначале не Белинский, а Белынский, по имени села, а потом уже как-то в полковой канцелярии, в формулярном списке, его стали писать Белинским. Отца их все-таки тянуло на родину в Чембар, – и как только открылась в этом городе вакансия уездного и городового врача, то Белинский-отец тотчас же и перепросился на службу в свой родной город, куда вскоре и переехал со всею семьею, состоявшею тогда из жены и сына. Мальчик поступил вскорости в местное уездное трехклассное училище, в котором и окончил курс; он оказался замечательно способным учеником и получил при окончании курса награду – книгу Евангелие в изящном переплете. (Книга была подписана, между прочим, И. И. Лажечниковым, известным романистом, бывшим в то время директором училищ Пензенской губернии). Затем отец отвез старшего сына в Пензу и определил его в губернскую гимназию, прямо во 2-й класс, в августе 1825 года. Там он, однако, не окончил курса[22]; но затем, попав в Москву, Белинский благодаря своим блестящим способностям поступил в Московский университет казеннокоштным студентом, так как в те времена при этом университете (в старом здании, в одном из флигелей, выходящих на Большую Никитскую улицу) было устроено общежитие или конвикт – для бедных, собственно, студентов. Через два года по поступлении в университет студента Виссариона Белинского постигла, как известно, неудача: он был исключен из университета «по неспособности», как было официально ему объявлено и как значилось потом и в журнале совета и в аттестации, выданной ему из университета: «способностей слабых и нерадив…» Самую главную и решающую роль в этом прискорбном событии играл, по словам брата, профессор истории, известный М. П. Погодин, почему-то особенно невзлюбивший В. Белинского. «Неспособность» исключаемого студента была припутана тут ни к селу, ни к городу, как говорится; главным же – юридическим – поводом к исключению послужило его болезненное состояние.
Дальнейшая затем судьба этого даровитейшего писателя всем известна: это был тяжкий, непокладный, чисто каторжный труд журналиста-критика – сначала в Москве, в «Телескопе» Надеждина, а затем в Петербурге, в «Отечественных записках» Краевского и позднее в «Современнике». Один раз только – и то недолго – отдохнул покойный писатель от своей каторжной жизни – это во время поездки за границу, откуда он имел неосторожность написать свое известное порицающее «Письмо к Гоголю», благодаря которому, собственно, и были нарушены самые последние часы его жизни – как это изображено на известной картине художника Наумова[23].
III
Различная судьба братьев Белинских. – Их переписка. – Время студенчества старшего брата. – Его приезды в Чембар. – Белинский в роли святочного странника. – Захват писем Белинского князем Енгалычевым. – Клич М. И. Семевского. – Марья Васильевна Белинская. – Маска покойного Белинского. – Отсылка его сочинений брату. – Хлопоты о пособии
Какая различная судьба выпала на долю этих двух братьев Белинских! Один так и не пошел далее уездного училища и остался несчастным титулярным советником, отставным чиновником, уволенным от службы по распоряжению губернатора-взяточника с грошовою пенсией и умершим в том же самом Чембаре в бедности и неизвестности. Другой брат попал в старейший и лучший университет России, стал знаменитым журналистом и критиком, которого читала вся грамотная Россия, сочинения которого, изданные в свет, имели потом громадный и вполне заслуженный успех, и которому, наконец, по истечении 50 лет со дня смерти предполагается к постановке памятник для увековечения его славного имени в потомстве!..
Но уже и тогда, 50 с лишком лет назад, когда еще были живы оба брата, нежно в детстве любившие друг друга, эта значительная разница в их жизненных путях сильно смущала одного из них, именно младшего брата, Константина, который, по его словам, не раз принимался горько сетовать на замечаемое им охлаждение к себе и своей семье со стороны старшего брата, писателя, приписывая это охлаждение влиянию жены брата, Марьи Васильевны; и, вероятно, эти сетование и вызвали, наконец, то письмо Виссариона Григорьевича к брату, в котором встречаются, например, следующие строки:
«Напрасно ты думаешь, что я сердит на тебя: ей-богу, и не думал сердиться. Причина моего молчание – беспрерывные хлопоты, заботы, труды, беспокойства и пр. Судьба занесла меня в Питер – что делать! Мой удел носиться туда и сюда по волнам жизни и не знать никогда пристани, у которой ты так счастливо приукрылся и пригрелся. Всякому свой путь в жизни – и надо идти, а не жаловаться. Что со мною было и как – этого не перескажешь и во ста письмах; да, по разности наших дорог в жизни, это и не совсем было бы для тебя понятно. Бог даст, увидимся – потолкуем; а пока позволь мне тебя уверить, что я искренно к тебе расположен, от всего сердца желаю тебе всякого счастья – и всегда с радостью с тобою увижусь, если Бог приведет. Что за дело, что я редко пишу! Будто любовь в переписке, а не в душе? Итак обнимаю и целую тебя по-братски… Если будет у тебя еще сын или дочь – бери меня в кумовья; я уж пришлю славный гостинец»… И так далее. Письмо это писано Белинским брату во время самого блестящего периода его литературной деятельности и помечено 9 апреля 1840 года. Тут же, в конце письма, выставлен и адрес – в следующей приписке: «Если будешь писать ко мне, то пиши так: в Петербург, Виссариону Григорьевичу Белинскому, в контору редакции «Отечественных записок»[24].
При всяком удобном случае, как видят читатели, старший брат выказывал свою нежность и внимание к младшему. По рассказам Константина Григорьевича, писатель, живя в Москве, всегда разыскивал «земляков», чембарских торговцев, приезжавших в столицу по своим делам, и, пользуясь «оказией», постоянно высылал брату какие-нибудь гостинцы. Между прочим, однажды в 1832 году он прислал ему с неким Сукалкиным довольно толстую тетрадку стихов различных авторов, которые ему, по-видимому, более нравились и произведения которых он вписывал в эту тетрадку. Там встречаются стихотворения Пушкина, Веневитинова, Полежаева, Языкова, Одоевского, Тепловой и многих других. Между прочим, там имелись стихотворения и чисто патриотические, вроде, например, известных «Стансов» Пушкина «В надежде славы и добра…» Тетрадь эту Константин Григорьевич подарил мне вместе с несколькими письмами своего покойного брата, – и я впоследствии отрывал от этой тетрадки маленькие куски и дарил их тем моим знакомым, которые желали иметь у себя автограф знаменитого критика. В 1883 году тетрадь эта поступила в собрание автографов П. Я. Дашкова.
Виссарион Григорьевич Белинский за время свой жизни в Москве – сначала студентом, а затем журналистом, – два раза приезжал в Чембар к брату и замужней сестре и проводил у них по нескольку недель. Так, однажды по рассказу его брата и семейства Шумских он, будучи студентом, провел в Чембаре Святки и не особенно, кажется, скучал за это время. Так как он и ранее, будучи еще в пензенской гимназии, очень любил «наряжаться» на Святки и при этом импровизировать согласно принятой им на себя роли, – то и на этот раз, соединившись в компанию с учителями местного училища и с некоторыми друзьями своего детства, он «нарядился» странником и в таком виде посетил многих своих давних знакомых, из коих его никто не признал; между прочим, он посетил в тот вечер и дом Шумских. При этом все удивлялись интересному рассказу странника-старца о жизни в Москве и о том, как он ехал сюда в Чембар с обозом товара, купленного в Москве для своей лавки одним местным купцом. Только на другой день узнали, что странником был одет доктора сын – студент Белинский…
* * *В сентябре 1860 года 16-й стрелковый батальон ушел из Чембара на стоянку в Саратовскую губернию, и я распростился с Константином Григорьевичем. За время нашего знакомства я видел у него несколько пачек писем его знаменитого брата и почти все их перечитал. Затем я не был в Чембаре два года, – и когда попал туда проездом осенью 1862 года и посетил Константина Григорьевича, то узнал от него, что все письма его брата, которые только у него оставались, у него выпросил для снятия с них копий князь Енгалычев, чембарский уездный предводитель дворянства, сменивший М. Н. Владыкина, что письма эти князь Енгалычев выпросил «на одну неделю», а между тем прошло уже более года, а он этих писем не возвращает и даже не отвечает на письма Константина Григорьевича.
Я, конечно, ничем не мог помочь бедному Константину Григорьевичу в этом деле и, пробыв в Чембаре несколько дней, уехал в Москву, искренно лишь пожалев о том, что два года тому назад сам не переписал этих писем. Но, к счастью, им не суждено было погибнуть так, например, как погибли, несомненно, письма Лермонтова к Шангирею.
После 1862 года прошло много лет… Я жил в 70-х годах в Москве и занимался литературным трудом. Вдруг читаю однажды в «Русской старине» воззвание М. И. Семевского к лицам, могущим что-либо доставить ему, Михаилу Ивановичу, о критике Белинском или даже указать – где и у кого могут находиться письма этого литератора, к кому-либо им писанные. В том же приглашении покойный редактор «Русской старины» объяснял и причины своей любознательности: что в названном журнале будет напечатан обширный труд о жизни и сочинениях Белинского. Тотчас же по прочтении этого приглашения я написал М. И. Семевскому о судьбе писем покойного Белинского к его брату и указал ему, где и у кого они должны были находиться. По счастью, князь Енгалычев был в то время жив (очень может быть, что он здравствует и поныне) и, получив нарочитое письмо из «Русской старины», тотчас же выслал Михаилу Ивановичу все письма Белинского во всей их неприкосновенности, – и, таким образом, большая часть писем покойного писателя к его брату в Чембар не погибла для истории русской литературы и появилась на свет Божий – в «Русской старине». Куда затем девались подлинники этих писем и где и у кого они в настоящее время находятся – этого я не знаю[25].
Перед отъездом моим в 1862 году из Чембара покойный Константин Григорьевич убедительно просил меня побывать в Москве у вдовы писателя, Марьи Васильевны Белинской, и попросить ее о высылке в Чембар ему, Константину Григорьевичу, полного собрания сочинений его брата, которое тогда уже вышло, изданное в Москве же г-ном Солдатенковым в 12-ти томах.
По приезде в Москву я, как только устроился и получил от попечителя H. В. Исакова разрешение посещать университетские лекции, тотчас же, в первое воскресенье, в конце октября того же 1862 года отправился по данному мне Константином Григорьевичем адресу в Александринский институт[26], находившийся на одной из окраин Москвы; в этом институте супруга покойного писателя, Марья Васильевна Белинская, служила кастеляншей.
Долго меня водили по разным коридорам и комнатам, пока, наконец, привели в маленькую, всего в три комнаты квартирку, занимаемую кастеляншей. Меня встретила дама среднего роста, лет за 40, с худым и очень энергичным лицом, сохранившим следы прежней красивости. Я назвал себя, объяснил цель моего визита и передал ей поклон от ее beau frère’a[27]. Она, по-видимому, была очень довольна этим вниманием к ней со стороны мужниной родни – и стала подробно расспрашивать о семье Константина Григорьевича и о нем самом, изъявляя полную готовность выслать ему сочинение его брата. Во время нашего разговора в комнату (служившую и гостиною и кабинетом) вошла молодая девушка, выше среднего роста, с довольно полным, но бледным лицом, очень красивым и умным, которое отличалось правильностью очертаний и своим строгим профилем, напоминавшим, судя по портретам ее покойного отца.
– Это моя дочь, Ольга Виссарионовна, – проговорила хозяйка, указывая на вошедшую[28].
Затем она подвела меня к висевшей на стене в футляре из стекла гипсовой маске покойного писателя, снятой с него тотчас же после смерти: лицо Белинского поражало своею худобою и тем страдальческим выражением, которое наложили на него, очевидно, предсмертные мучения…
Вскоре я получил от покойной Марьи Васильевны письмо, в котором она извещала меня, что сочинение ее мужа высланы уже в Чембар по назначению, о чем она и просила сообщить Константину Григорьевичу. Затем в следующем году, то есть в 1863, мне довелось посетить Марью Васильевну еще раз по следующему поводу.
Константин Григорьевич написал мне из Чембара письмо, в котором убедительно просил похлопотать в литературном фонде (тогда, кажется, только что основанном) о пособии для него и его семьи. Я, не зная тогда, где этот фонд находится и к кому надо обращаться, послал его письмо к Марье Васильевне, которая и пригласила меня быть у нее по этому делу. При свидании она сообщила, что никогда лично не была знакома с родными мужа и даже никого из них не видела, и что поэтому находит для себя не вполне удобным обращаться в фонд с названным ходатайством…
Спустя несколько дней после свидания с Марьей Васильевной я прочел в одной из петербургских газет чью-то небольшую статейку о Белинском, где, между прочим, было сказано, что покойный критик – уроженец западных губерний и польского происхождения[29]. Я решил опровергнуть эту небылицу: написал маленькую заметку и понес в редакцию «Московских ведомостей», бывших тогда в руках Каткова и Леонтьева. Я застал в редакции какого-то господина в золотых очках, высокого роста, довольно пожилого и гладко выбритого, который, прочтя мою заметку, сказал, что она будет напечатана.
– Я не заметил этого вранья, – сказал мне этот господин, – иначе, я и сам бы опроверг эти выдумки о Белинском, которого я знавал лично, когда он жил и писал в Москве.
Я полюбопытствовал спросить его фамилию, и оказалось, что предо мною был очень известный в то время в Москве литератор-фельетонист Пановский, представлявший из себя довольно крупную величину в тогдашних «Московских ведомостях». Я воспользовался случаем и объяснил мое недоумение по поводу письма ко мне Константина Григорьевича… Пановский был так любезен, что согласился принять все хлопоты на себя. Я сообщил ему адрес несчастного Константина Григорьевича – и мы расстались.
На другой день в «Московских ведомостях» была действительно напечатана моя заметка, а спустя некоторое время я получил от Константина Григорьевича из Чембара письмо, в котором он извещал меня, что ему из Петербурга выслано пособие. Но от кого было, собственно, это пособие и в каком размере – он не пояснял, да меня это не могло особенно и интересовать. В том же своем письме Константин Григорьевич извещал меня, что его старший сын (мелкий чиновник, служивший в Пензе) принял вызов Тобольского губернатора и собирается ехать на службу в Сибирь… Это было последнее письмо, полученное мною от Константина Григорьевича Белинского, – и с тех пор я ничего не знаю ни о самом Чембаре, ни о дальнейшей судьбе родственников покойного писателя В. Г. Белинского.
С.-Петербург.
28 января 1898 года
Поездка к Шамилю в Калугу в 1860 году[30]
(Из записок и воспоминаний)
I
Жизнь в глухом селе Пензенской губернии. – Солдатская школа грамоты. – Вызов в батальонный штаб. – Беседа с адъютантом и представление полковнику Фитингофу. – Назначение в командировку в Калугу. – Село Поимы и его «дурная слава». – Разбои на больших дорогах. – Мои попутчицы
В конце декабря 1859 года я проживал в селе Свищовке, Чембарского уезда Пензенской губернии, где заведовал школою грамоты нижних чинов 2-й роты 16-го стрелкового батальона, в котором состоял тогда офицером. Учеников у меня было около 40 человек, и самому младшему из них было не менее 25 лет. В то время, как известно, не существовало еще всеобщей воинской повинности, и в военную службу могли быть принимаемы «рекруты» даже и 30-летнего возраста. И вот, с такими-то «учениками» я возился уже более трех месяцев, начав их обучение с половины сентября, то есть тотчас же, как только была закончена наша лагерная стоянка под Чембаром.
Ученики у меня были молодцы по части понимания грамоты и, начав с азов, они через три месяца порядочно уже разбирали гражданскую печать, а некоторые приступили даже к писанию палочек и букв. Только несколько человек из малороссов да два татарина приводили меня в совершенное отчаяние своею непонятливостью и выговором… Никаких в то время «систем» у нас, к сожалению, не было; мы лишь знали, что в гвардейских войсках при обучении грамоте нижних чинов была принята система Золотова, но к нам в стрелковые батальоны, в самую глушь Пензенской губернии, эти новшества еще не дошли в то время.
Говоря правду, я порядочно-таки скучал в ту зиму; единственным развлечением служили поездки к окрестным помещикам, у которых и приходилось коротать вечера и праздничные дни. Поэтому легко будет понятна моя радость, когда однажды вестовой из села Полян, где находился наш «ротный двор», доставил мне казенный пакет, в котором заключалось «предписание» командира батальона, полковника Эмилия Карловича Фитингофа следующего содержания: «С получением сего предписываю вам явиться немедленно по делам службы в город Чембар…»
Офицерские сборы были, конечно, недолгие, и на другой же день я был уже в Чембаре, отстоящем от Свищовки всего в 25 верстах. Первым делом, конечно, я отправился к батальонному адъютанту, чтобы узнать, в чем дело и ради чего меня вызвали. Адъютант, поручик H. А. Добрынин, сказал мне:
– Полковник предложит вам поездку в Пензу – отвезти в дивизионный штаб годовой отчет[31]. С этим отчетом должен бы ехать я, но Эмилий Карлович не хочет меня отпустить от себя, а потому и вызвал вас. Предупреждаю вас, что, не зная нашей канцелярской тарабарщины, вы не справитесь с этим делом, – и советую ответить прямо, что командировка в Пензу не по вашим силам… Тогда Эмилий Карлович предложит вам, вероятно, другую – в Калугу, за приемкой огнестрельных снарядов для батальона на будущий год.
Я чрезвычайно был обрадован последним сообщением Добрынина, так как, во-первых, это была еще первая моя командировка на службе, а во-вторых, поездка в Калугу лежала через Тамбов, где жили все мои родные и где у нас был свой дом, а по дороге, в Кирсановском уезде – имение.
На другое утро, облачившись в полную форму, я отправился к полковнику, одному из самых милых, добрых и честных командиров, каких я знал потом в жизни. Когда я вошел в зал, где в уголку стояло наше батальонное знамя, то увидел к крайнему своему удивлению и конфузу следующую картину: у стены, около рояля, прячась за него, стоял командир – совсем «без галстука», как говорится: волосы его были растрепаны, сам он был в ночных туфлях и в коротеньком сером пальто, а против него, на другом конце зала стояли два сына – мальчики 10 и 12 лет – и их бонна; все это было вооружено подушками различной величины, которые в виде навесных бомб и летали по комнате… Сражение было в самом разгаре, так как на меня, стоявшего в дверях, обратили внимание лишь тогда, как одна из подушек, брошенных бонной, была ловко отпарирована полковником и полетела в мою сторону: бонна, заметив меня, вскрикнула «ах!» и убежала из комнаты…
Полковник – худенький, маленького роста, лет 45, всегда веселый, добродушный и жизнерадостный немец, совершенно обрусевший за время своей 25-летней службы на Кавказе, – повернул ко мне смеющееся лицо и положил на рояль подушку, приготовленную было к метанию.
– А, явились уже! Заходите в кабинет, я сейчас приду, – проговорил он и исчез из зала, сопровождаемый веселыми криками и смехом детей.
Через несколько минут он вошел в кабинет (успев исправить свой костюм и шевелюру). Я ему представился…
– Предстоят две командировки, – сказал полковник. – Не хотите ли проехаться в Пензу с годовым отчетом?
Я отвечал так, как был научен Добрыниным и как в действительности и было: что я совершенно несведущ по части канцелярской и хозяйственных отчетов. Полковник подумал несколько секунд и отвечал:
– В таком случае поезжайте в Калугу – за приемом пороха и свинца. Кстати, Шамиля увидите.
Я поблагодарил и сказал, что по дороге увижу, прежде всего, своих родных, живущих в Тамбове.
– И прекрасно! – заключил Эмилий Карлович. – Сегодня получите предписание, подорожную и деньги; а унтер-офицера себе в помощь возьмите такого, которого вы хорошо знаете.
Я поблагодарил еще раз и откланялся. На другой день я обедал у полковника, и этот старый кавказец читал мне совершенно уже серьезно и наставительным тоном целую инструкцию, как я должен был ехать из Калуги в Чембар с военным транспортом пороха и какие должен был принимать предосторожности, чтобы не взлететь, грешным делом, на воздух…
В сумерки того же дня я уже усаживался в почтовые сани-«обшевни», запряженные тройкою лошадей, а рядом со мною, закутанный в казенный тулуп, сел унтер-офицер 1-й роты Савельев, которого я выбрал себе в помощь.
* * *Первая почтовая станция от Чембара была в 17-ти верстах и называлась Поимы. Это было большое село в несколько тысяч душ, с двумя церквами и расположено было на большом сибирском тракте, идущем с Чембара на Кирсанов. Все село состояло из старообрядцев, крепостных крестьян графа Шереметева, и о жителях этого села была очень худая слава. Даже и в то время, то есть в конце уже 50-х годов, крестьяне села Поимы «пошаливали», как о них говорили: то есть, говоря яснее, занимались при случае грабежами и убийствами, – по крайней мере, те дворы, которые были расположены с обеих сторон большой дороги, проходящей через все село.
Дело в том, что почти все дворы этой главной улицы села были постоялые, проезд же по большому сибирскому тракту был в те времена очень большой: все проезжие купцы и помещики, направлявшиеся из внутренних губерний на Пензу, Казань, Пермь и за Урал должны были проезжать через Поимы; а так как большинство путешественников ездило тогда «на долгих» или «на передаточных», то им, волей-неволей, и приходилось останавливаться в Поимах – или затем, чтобы «кормить» лошадей или же для ночлега. И вот, если неосторожный путник, какой-нибудь «недогадливый купец», проезжающий издалека и никем не предупрежденный о дурной славе Поим, решался, уговариваемый своим ямщиком, заночевать в этом селе, то уже далее ему не суждено было ехать: его ночью же и убивали – преимущественно посредством удушения, чтоб не было крови, а затем убитого таким образом проезжающего относили в овин и в ту же ночь этот овин горел, как бы от неосторожного обращения с огнем во время сушки снопов… И такой уже был в селе порядок: у кого ночью горел овин, к тому на другой день собирались все влиятельные мужики-домохозяева, так называемые мироеды, и погорелец задавал им пир горой. Кости же сгоревшей жертвы прибирались обыкновенно куда-нибудь подальше от села, закапывались в оврагах, в лесах, и все исчезало бесследно, и несчастный становился для своей семьи и в официальных списках своей родины «без вести пропавшим»…



