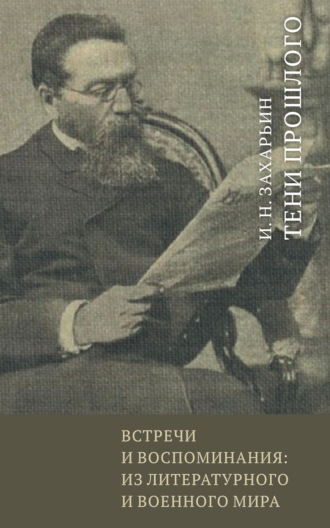
Полная версия
Встречи и воспоминания: из литературного и военного мира. Тени прошлого
Вот какая различная судьба выпала на долю маленьких офицерских кружков 16-го стрелкового батальона, на которые разбилось тогда наше общество… Но житейская волна была все еще сильнее нас, и тогда, в 1859 году, мы еще только подумывали о «новой жизни»; в общем же плыли пока по течению, и наша пустая жизнь была полна праздности и таких иногда удовольствий, о которых теперь вспоминается с некоторым конфузом… Единственное дело, которому мы, молодые офицеры, отдавались тогда с истинною охотою и даже увлечением, это было обучение солдат грамоте. У меня, например, в селе Свищевке, где квартировала 2-я рота, в которой я состоял, была школа с 40 учениками, из коих самому младшему было 25 лет.
* * *В Чембаре, на базарной площади, в небольшом деревянном флигеле жило семейство Шумских, состоявшее из старичка-чиновника, занимавшего должность соляного пристава (тогда продажею соли заведовала казна)[8], его жены и свояченицы, старой девы. Это были в высшей степени добрые, милые и радушные люди. Сам Шумский, по происхождению поляк, был сослан в Чембар в 1831 году[9];
в Польше он был учителем гимназии, окончив курс в Виленском университете. Живя в Чембаре в качестве ссыльного, он влюбился в дочь небогатого помещика, женился на ней и мало-помалу так обрусел, что остался в Чембаре навсегда, получил место соляного пристава, купил домик и дожил таким образом до старости, так как во время моего знакомства с ним ему было уже 60 лет.
Это был в то время самый гостеприимный и милый дом во всем Чембаре. У Шумского не было детей, и весь излишек своих доходов он употреблял на выписку книг, и таким образом составил себе довольно большую и очень разностороннюю библиотеку, преимущественно русских и французских книг; польских книг было немного, так как г-жа Шумская по-польски совсем не знала. Дом Шумских был единственным местом, где можно было достать книги для чтения.
Но не одно только радушие хозяев и их ценная библиотека привлекали нас, молодых офицеров, в их дом. Главною приманкою служило то, что в этом самом доме, – как сейчас помню, деревянный, низенький, одноэтажный, в пять окон на улицу, – восемнадцать лет назад много раз коротал время М. Ю. Лермонтов, часто приезжавший в Чембар из села Тархан, где он живал и гащивал у владелицы этого села, своей родной бабки Арсеньевой. В этом же доме бывал не раз и В. Г. Белинский. Так как семья Шумских резко выделялась по своей интеллигентности из всего остального чиновничества Чембара, то очень естественно, что Лермонтов и Белинский бывали в их доме охотнее и чаще, чем в других домах бедного уездного городка. В их маленькой и уютной гостиной были еще целы те стулья и кресла, на которых сидели эти знаменитые гости, а за скромными «ужинами» были в употреблении еще те самые ножи и вилки, которые они держали не раз в своих руках.
В доме Шумских было написано Лермонтовым в альбом г-же Подладчиковой и известное двустишие, начинавшееся словами «Три грации»…[10]
Самое знакомство Шумских с поэтом началось в церкви.
– Стоим мы с сестрой у всенощной, – рассказывала милая и почтенная старушка г-жа Шумская, – и видим, что у правого клироса стоит молодой офицер в блестящей гусарской форме и то и дело поглядывает на нас, и именно на меня. Я была тогда дама молодая, и мне, конечно, было приятно такое внимание. Когда мы выходили из церкви, и народ прижал нас на паперти, этот офицер неожиданно появился вблизи нас и, слегка расталкивая напиравших богомольцев, вывел нас из церкви, проводил до ограды и очень любезно с нами раскланялся. Мы не знали, кто он такой, но к нам подошел в это время кто-то из знакомых и объяснил, что фамилия гусара Лермонтов, что это внук и наследник г-жи Арсеньевой, богатой помещицы из села Тархан, что он гостит у бабушки и очень часто приезжает развлекаться в Чембар. В то время его литературная слава была совсем еще невелика; его «Герой нашего времени» появился и дошел до Чембара позже, а в это время мы зачитывались романами Марлинского[11].
Когда я пришла и сказала мужу, что нам оказал любезность в церкви внучек помещицы Е. А. Арсеньевой, то мой супруг попенял мне, почему я не пригласила этого Лермонтова посетить нас. На другой день мы отправились к обедне в ту же церковь и увидели опять у правого клироса этого офицера. Он все время обедни, как и накануне, поглядывал в нашу сторону, но только уже не на меня, а на сестру… Мы поняли, что он школьничает, и не стали обращать на него внимания. Однако после обедни он опять подошел к нам, раскланялся и назвал в первый раз свою фамилию. Затем, уже выйдя из церкви, он начал с нами разговаривать, и я пригласила его зайти в дом и познакомиться с мужем. Он принял приглашение, зашел к нам и просидел у нас более часу, беседуя с мужем и рассматривая его библиотеку. С того времени он, когда приезжал в Чембар, всегда заходил к нам, не раз запросто обедал и брал книги для чтения. Первое его стихотворение, которое дошло к нам в Чембар, было запрещенное, и мы его списали у одного петербургского студента, приезжавшего на вакацию; это были известные стихи «На смерть Пушкина», за которые Михаила Юрьевича в первый раз и сослали на Кавказ. Затем дошел до нас его роман «Герой нашего времени», и мы увидели, что это не то, что Марлинский, и зачитывались этим романом.
Когда Лермонтова простили за его стихи и вернули с Кавказа, то он прогостил у бабушки в Тарханах месяца два и в это время бывал у нас уже как старый знакомый и прославившийся поэт. В нашем обществе он был веселым и остроумным собеседником, и я никогда не замечала, чтобы он был раздражительным или придирчивым к кому-нибудь. Он был иногда только очень грустным и, видимо, скучал и тосковал по Петербургу. В нем была еще одна особенность: он всегда за кем-нибудь ухаживал… В последний раз он был в Чембаре за год до своей смерти, и когда потом мы узнали, что он убит, горько поплакали о нем.
Несколько месяцев спустя после его смерти, именно в марте 1842 года, прах Лермонтова привезли в Чембар в свинцовом гробу, и много народу выходило встречать и провожать гроб. Везли его на лошадях, шагом; гроб был покрыт черным бархатом с серебряными позументами и установлен был на особые, нарочно устроенные в Пятигорске длинные дроги, которые сопровождал с Кавказа крепостной человек Арсеньевой, бывший дядька поэта, и затем его слуга, находившийся при нем в Пятигорске в то время, когда его убили. Из Чембара прах Лермонтова провезли прямо в Тарханы, где и похоронили.
* * *Вскоре же я попал и в Тарханы. Это было летом, в начале августа. Я как-то познакомился в Чембаре с молодым помещиком Кашинским, имение которого было вблизи Тархан, и мы решили ехать на могилу Лермонтова вместе.
Село Тарханы, если ехать большим сибирским трактом по дороге от Чембара до Пензы, будет на двенадцатой, кажется, версте от Чембара и видно с дороги в правой стороне. Когда мы приехали в Тарханы и вошли в господский дом, то он оказался пустым, то есть в нем никто в то время не жил; но порядок и чистота в доме были образцовые, и он был полон мебели, той же, какая была восемнадцать лет назад, когда в этом доме жил Лермонтов. Нас встретил тот самый дворовый человек, Ермолай Козлов, бывший с Лермонтовым на Кавказе, и, узнав о цели нашего посещения, стал водить нас по дому и рассказывать о прошлом. Затем он повел нас наверх, в мезонин, в те именно комнаты, в которых всегда жил, находясь в Тарханах, Лермонтов. Там, как и в доме же все сохранилось в том виде и порядке, какие были во времена гениального жильца этих комнат. В запертом красного дерева со стеклами шкафе стояли на полках даже книги, принадлежавшие поэту. Особенное наше внимание обратил на себя небольшой портрет Лермонтова в красном лейб-гусарском мундире, писанный масляными красками. Портрет этот, висевший над небольшим письменным столом, был писан самим Лермонтовым[12], с зеркала. Это объяснил нам старый слуга поэта; да, наконец, под самым портретом стоял год (1837-й) и инициалы Лермонтова[13]. Очень интересно бы в настоящее время узнать и справиться, цел ли этот портрет, и где и у кого он находится.
Много-много уже лет спустя, именно в июле 1891 года, когда минуло целое пятидесятилетие со дня смерти поэта, я жил в Пятигорске[14] и посетил, между прочим, Э. А. Шангирей, из-за которой, по показанию почти всех современников катастрофы, и произошла роковая дуэль Лермонтова с Мартыновым; я спросил ее о вышеупомянутом портрете Лермонтова, и Эмилия Александровна подтвердила мне, что портрет этот действительно был писан самим Лермонтовым, и что она знала и слышала о существовании этого портрета, но где он и у кого находится, – не знает.
Осмотрев дом, мы отправились на могилу поэта. Она оказалась вблизи дома и в то же время неподалеку от сельской церкви, в большой каменной часовне, построенной в саду. Часовня была заперта висячим замком, ключ от которого находился у священника, жившего тут же, на селе. Старик, дядька Лермонтова, пошел за ключом, вскоре же принес его, и мы вошли в часовню. Там были похоронены, как оказалось, четверо: бабушка поэта, генеральша Е. А. Арсеньева (урожденная Столыпина), пережившая на несколько лет своего нежно любимого внука, ее дочь – мать поэта, и сам он. Четвертая могила принадлежала, если не ошибаюсь, кому-то из родственников Арсеньевой, умершему в детском возрасте. Я, по крайней мере, не обратил тогда внимание на эту могилу, не записал о ней ничего, а теперь забыл, кто именно четвертый похоронен в этой фамильной усыпальнице.
Могильный памятник Лермонтова был высечен из черного мрамора в виде небольшой четырехсторонней колонны, на одной стороне которой был приделан бронзовый вызолоченный лавровый венок, а на двух других было выгравировано время рождения поэта и смерти с обозначением, что он жил 26 лет и 10 месяцев. Серебряная лампада висела в часовне, а в стене на восток были вделаны несколько образов. Вот все, что было на могиле этого величайшего поэтического гения, умершего почти в юношеском возрасте и не достигшего даже полного расцвета своих творческих сил…
Когда мы вышли из часовни, оглянулись вокруг и увидели барский дом, сад, а внизу пруд, то нам невольно вспомнились следующие строки известного стихотворения Лермонтова, относящиеся, несомненно, к этой самой местности, где поэт, рано осиротевший, проводил свои детские годы:
…И вижу я себя ребенком; и кругомРодные все места: высокий барский домИ сад с разрушенной теплицей; Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,Вдали туманы над полями…Святая, преданная любовь, которую питала к своему «дорогому Мише» его бабушка, сделала то, что прах его был похоронен на родной земле, рядом с близкими ему людьми, и даже осуществилось отчасти и заветное желание поэта, выраженное им в своем вдохновенном стихотворении-молитве «Выхожу один я на дорогу»: вблизи часовни, уже поднявшись над ее крышей, «темный дуб склонялся и шумел»…
– Старая барыня, – объяснял нам верный слуга поэта, – как только похоронили Михаила Юрьевича, тотчас же приказали вырыть из лесу и посадить вблизи часовни несколько молодых дубков, из которых принялся только один, а остальные пропали…
Умирая несколько лет спустя после своего гениального внука, бабушка завещала похоронить себя с ним рядом и оставить комнаты поэта в мезонине в том самом виде, в каком они были при его жизни и которые она охраняла от перемен, пока жила сама. В 1859 году, когда судьба дала мне возможность посетить Тарханы, завет старушки Арсеньевой свято исполнялся еще. Что же произошло там теперь, по прошествии 44-х лет, этого я не знаю.
II
П. П. Шангирей. – Распространение известности критика Белинского. – Его брат Константин Григорьевич. – Журнал «Колокол» и Пензенский губернатор Панчулидзев. – Ограбление откупщика Ненюкова. – Сенаторская ревизия Сафонова. – Биографические сведения о семье Белинских. – Смерть Виссариона Григорьевича Белинского
В октябре того же 1859 года мне довелось познакомиться с родственником Лермонтова, отставным полковником Павлом Петровичем Шангиреем, и даже провести в его доме «по делам службы» почти сутки. Это случилось следующим образом.
Однажды в конце октября, во время самой ужаснейшей погоды, я получаю «приказ» от командира батальона отправиться немедленно в качестве депутата с военной стороны в уезд, «на мертвое тело»… Оказалось, что стрелок 1-й роты, возвращаясь из батальонного лазарета, из Чембара, в свою роту поздно вечером провалился в какой-то маленькой речонке сквозь лед, весь обмок и обледенел, а затем сбился ночью с дороги, не имел сил добраться до жилья и замерз в поле, на земле Шангирея. Мне предлагалось в приказе войти в соглашение с местным становым приставом Гиацинтовым и отправиться на место для присутствования при поднятии «тела». Вскоре я нашел Гиацинтова и на другой же день по получении приказа сидел со становым в его тарантасе, и мы тащились по ужаснейшей проселочной дороге, изрытой колеями и рытвинами, превратившимися от мороза в твердый камень; морозы стояли уже порядочные, а снегу все еще не было на полях. Разбитые по всем суставам, продрогшие и измученные, вечером дотащились мы до деревни, принадлежащей Шангирею, и становой приказал ямщику ехать на господский двор.
Еще дорогою становой рассказал мне, что Шангирей приходится Лермонтову родственником, и что у него есть вещи и письма поэта. Так как я в то время, будучи юным прапорщиком, благоговел перед гением этого поэта еще более, чем благоговею теперь, то понятно, что был очень обрадован рассказами моего спутника и, забывая все мучение дороги, с нетерпением желал увидать Шангирея.
Помещик встретил нас очень радушно. Это был отставной кавказец, лет за 60, но еще очень бодрый и крепкий человек; он был выше среднего роста и плотно сложенный, с коротко остриженной, словно выбритой головою, одетый по старой привычке в бешмет и черкеску.
Когда окончились все церемонии первого знакомства и разговоры на ту несчастную тему, из-за которой мы, собственно, и приехали, полковник стал внимательно расспрашивать меня о современном вооружении солдат и затем спросил, правда ли, что в наш стрелковый батальон присланы какие-то новые «винтовки», стреляющие будто бы на версту расстояния.
Я удовлетворил его любопытство и объяснил ему, что нашими стрелками только что получены из Тулы шестилинейные винтовки, стреляющие пулями Минье на 1200 шагов прицельных[15], что эти винтовки заменили бывшие в стрелковых батальонах тяжеловесные люттихские штуцера[16], заряжавшиеся при помощи особого молотка, загонявшего в ствол пулю, и имевшие вместо штыка тяжелый и неуклюжий нож-тесак. Старый воин так и засиял от радости, когда я рассказал ему о свойствах и качествах нового (тогдашнего) вооружения, считавшегося в то время последним словом военной техники.
– А в мое-то время, на Кавказе, – говорил он, вздыхая и покачивая головою, – было такое жалкое вооружение, что просто стыдно и вспомнить! Наши гладкоствольные ружья стреляли своими круглыми пулями едва только на 200–300 шагов, а у черкесов и тогда уже были винтовки, стрелявшие вдвое дальше[17]. И знаете ли, что эти канальи, татары[18], проделывали? – выедет, бывало, перед нашим отрядом на какой-нибудь ровной поляне их джигит, прицелится в роту, стоящую сомкнутым строем, шагов этак на 500, и выстрелит… глядь, солдатик и повалился со стоном наземь… А он, бестия, поворачивает к нам круп лошади, расстегивается, где следует, наклоняет голову к луке седла, обнажает нам цель и стоит несколько секунд, не шевелясь, пока не выстрелят по нем, – и, конечно, напрасно, потому что пули не долетают до него. Увидят это казаки, рассердятся и поскачут за ним; ну, тогда уже шутки плохие…
Когда эти военные разговоры были окончены, я исподволь перевел речь на Лермонтова и сказал Шангирею, что знаю наизусть почти все стихотворения поэта, по крайней мере, все мелкие, то есть лучшие его пьесы…
– А знаете его «Валерик»? – спросил полковник.
– Как же не знать, – отвечал я, – ведь это одно из немногих его батальных стихотворений.
– А вот я вам его сейчас покажу, – проговорил Шангирей и вышел из столовой, где мы сидели за самоваром, в кабинет. Через несколько минут он вернулся и показал мне небольшую тетрадь очень толстой бумаги, где было написано все названное стихотворение, но с большими помарками, вставками и выносками. В то же время он сообщил мне, что у него имеются несколько картин, писанных масляными красками самим поэтом, и хранятся письма Лермонтова с Кавказа к нему же, Шангирею, который, оказалось, был родственником поэта по Аркадию Столыпину, своему двоюродному брату.
Как глубоко я скорблю теперь, спустя 40 лет, что тогда, в тот осенний бурный вечер, когда сидел за чайным столом в уютном деревянном одноэтажном доме Павла Петровича Шангирея, не попросил у него позволение снять копии с писем Лермонтова или хотя бы переписать того же самого «Валерика»… Кто знает, где эти письма теперь и у кого, и были ли они когда-нибудь в руках людей, специально знакомящихся с каждою строкою, вышедшею из-под пера Лермонтова? Или, может быть, совсем погибли эти письма, и от них не осталось не только копий, но и следов… И – кто знает – может и самое стихотворение «Валерик» имело в рукописи, принадлежащей Шангирею, какие-нибудь новые варианты или даже новые строфы…
С беззаботностью молодости я отнесся тогда к тому драгоценнейшему сокровищу, которое держал в своих руках!.. Я был бесконечно счастлив, что вижу подлинную рукопись Лермонтова, и совсем уже не думал о письмах его, картинах и вещах, которые были тоже у Шангирея.
И не думал я обо всем этом, главным образом, потому, что никак в то время не воображал и не предвидел, что мне придется впоследствии жить и существовать литературным трудом и что много-много лет спустя мне доведется вспоминать мою вечернюю беседу с покойным П. П. Шангиреем, внесенную лишь вкратце по возвращении в Чембар в мой дневник…
А в тот памятный вечер, едва только стенные часы пробили десять, как хозяин поднялся из-за стола и, извиняясь, пожелал нам покойной ночи, заявив при этом, что он всегда привык ложиться в это время спать.
На другой день мы поднялись рано, и, когда вышли в столовую к утреннему чаю, хозяин уже поджидал нас. Через полчаса мы поблагодарили хозяина за гостеприимство и распростились с ним. Затем мне никогда более не довелось видеться с ним, так как, исполнив возложенное на меня поручение, я уже не вернулся в имение Шангирея и проехал прямо в Чембар. В следующем же 1860 году наш батальон был переведен на кантонир-квартиры[19] в соседнюю Саратовскую губернию, в раскольничий город Кузнецк.
* * *В доме тех же Шумских, летом же 1859 года я узнал, что в Чембаре проживает родной брат знаменитого критика Белинского, Константин Григорьевич Белинский. В это время литературная слава и известность Белинского стала уже проникать всюду, главным образом, благодаря журналам, преимущественно «Современнику», издаваемому Панаевым и Некрасовым. Эти журналы очень часто стали рекламировать недостаточно оцененного при жизни писателя, цитировали его мнение и статьи и, наконец, сообщили, что известный в Москве меценат-купец Солдатенков предполагает издать полное собрание сочинений покойного критика, скончавшегося, как известно, при несколько исключительных обстоятельствах… В то время, то есть в 1859 году, прошло уже четыре года со времени вступления на престол императора Александра II, и всякая опала с покойного Белинского была, по-видимому, снята. Революционное же движение на западе Европы 1848 года, к которому был ни за что ни про что припутан этот писатель (в силу своего известного «Письма к Гоголю»), не только улеглось, но было вытеснено и заслонено у нас, в России, другим событием, несравненно более крупным и важным, – только что окончившейся Крымскою войной. И поэтому с имени Белинского спал как бы сам собою тот запрет, который тяготел на нем с рокового 1848 года, бывшего в то же время по странному стечению обстоятельств и годом смерти знаменитого критика. Тем не менее в то время, о котором идет речь, имя покойного Белинского произносилось в провинции все еще с некоторою опаской, как и имя А. И. Герцена, издававшего уже в Лондоне свой «Колокол».
Отправившись на розыски, я нашел Константина Григорьевича проживающим в одной из глухих улиц Чембара, в деревянном флигеле, состоящем всего из трех маленьких комнат. При нем жила его многочисленная семья – жена и дети; кругом была бедность и нищета… Как известно, он, овдовев уже после смерти брата, женился во второй раз и имел теперь 8 человек детей.
Меня встретил человек невысокого роста, широкоплечий, лет 50-ти с лишком, с густыми темными волосами на голове, очень бедно одетый, давно не брившийся… Это и был отставной титулярный советник К. Г. Белинский, родной брат умершего писателя. Я назвал себя, объяснил цель своего посещение и узнал следующее.
Константин Григорьевич служил самым скромным и мирным чиновником в местной думе (по-тогдашнему ратуше) секретарем. Год назад приехал в Чембар на обычную ревизию Пензенский губернатор Панчулидзев. На другой день его приезда ему представлялись по обыкновению все уездные власти, и в том числе несчастный Константин Григорьевич. И вот, едва только губернатор подошел по очереди к Белинскому, и этот последний проговорил: «Титулярный советник Белинский», – как губернатор громко ответил: «А, знаю! Пьяный советник Белинский», – и, быстро отвернувшись от него, подошел к другому, стоявшему рядом чиновнику…
Несчастный Белинский, имевший восемь детей, из коих один только старший сын содержал сам себя, был поражен, как громом. Наконец, и такое публичное, ничем не вызванное и незаслуженное оскорбление!..
Во время последовавшей затем ревизии губернаторский чиновник в думе рвал и метал, что называется, и, в конце концов, секретарь должен был подать в отставку, в которую вскоре и был уволен с пенсией в 16 рублей с копейками в месяц.
По отъезде Панчулидзева из Чембара в Пензу несчастный Белинский долго и тщетно старался узнать причину такой необычайной немилости к своей маленькой особе со стороны такой крупной, как губернатор, и, наконец, после долгих хлопот и выпытываний узнал от уездного предводителя дворянства, М. Н. Владыкина, следующее. Губернатор Панчулидзев висел уже, как говорится, на волоске: против него собиралась в Петербурге серьезная гроза, которая и разразилась над ним во следующем 1859 году, когда в Пензенскую губернию был послан на ревизию с чрезвычайными полномочиями сенатор Сафонов, удаливший от должностей в губернии массу чиновников с преданием суду. Конечным же результатом ревизии было увольнение от должности и самого губернатора.
Весь этот сыр-бор загорелся из-за статьи «Дневной грабеж в Пензе», напечатанной Герценом в «Колоколе» в 1858 году. В этой статье (которую я читал впоследствии) рассказывалась следующая достоверная история, происшедшая в кабинете Пензенского губернатора Панчулидзева в конце декабря 1857 года.
Пришел к нему в кабинет откупщик Ненюков, державший на откупе кабаки Пензенской губернии, и принес обычную мзду за истекший год в размере трех тысяч рублей вместо пяти, которые тот же губернатор получал обыкновенно ранее; откупщик ссылался на «плохой год», на бывший в конце августа страшный пожар в Пензе, опустошивший более половины города и прочее, но Панчулидзев ничего знать не хотел и требовал прежние пять тысяч. Наконец, Ненюков заявил: «Воля ваша, ваше превосходительство, что хотите, со мной делайте! А я более дать не в силах», – и с этими словами откупщик достал из бокового кармана сюртука бумажник, вынул оттуда пачку ассигнаций и стал отсчитывать. Когда он отсчитал три тысячи, положив их губернатору на стол, а остальные деньги стал укладывать обратно в бумажник, то Панчулидзев мгновенно выхватил у Ненюкова из рук бумажник, опорожнил его и в пустом уже виде вложил обратно в боковой карман сюртука откупщику, совершенно ошалевшему от неожиданности и ужаса такого грабежа. Затем губернатор повернул Ненюкова к выходной двери кабинета и вытолкнул в приемную, пригрозив ему, что если только он осмелится кому-нибудь «открыть рот» об этом происшествии в кабинете, то он, губернатор, ушлет его туда, куда Макар и телят не гонял…
Откупщик Ненюков, действительно, «рта не открыл», когда вышел ограбленный из губернаторского кабинета. Но от Панчулидзева он прямо направился к правителю его канцелярии статскому советнику Мешкову и объявил ему, что его «часть» отнята сию минуту губернатором, с которого он, откупщик, обыкновенно начинал раздачу питейной дани; от Мешкова Ненюков направился к управляющему казенной палатой с тем же приятным известием, затем поехал к полицмейстеру полковнику Петрово, к трем советникам губернского правления, и так далее, – словом, ко всем тем чинам и лицам, считая в том числе частных приставов города и квартальных, которые получали всегда от откупщиков в конце года свои обычные «наградные»…
Скандал в чиновничьем мире Пензы вышел небывалый. Все чиновники, не получившие дани, ругали на чем свет стоит губернатора, вполне уверенные, что Ненюков не осмелился бы измыслить такую историю, если бы она не произошла в действительности. Когда Панчулидзев узнал, наконец, что Ненюков все еще со списком в руках продолжает разъезжать по городу и оповещать чиновников, – имя же им легион, – что он не может уплатить им на этот раз их «наградных», то приказал арестовать «клеветника» при полицейской кутузке. Тогда жена Ненюкова выехала потихоньку в ту же ночь из Пензы и поскакала в Петербург спасать и выручать мужа из беды неминучей…



