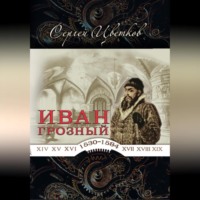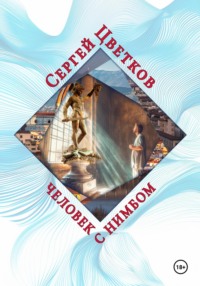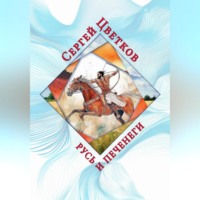Полная версия
Исторический калейдоскоп
Потому-то столичный историк и счёл гибель этих людей справедливым возмездием за их деяния.
Христианство и культ императоров
Историческое грехопадение христианства имеет свою точку отсчёта.
Конфликт ранних христианских общин с языческим миром в Римской империи приобрёл особую остроту не столько потому, что христиане отказывались почитать языческих богов, сколько потому, что они отрицали культ императоров.
Римляне вообще проявляли большую терпимость к религиям других племён и народов. Объявляя неприкосновенным богопочитание каждого из покорённых народов, римские власти надеялись расположить к себе побеждённых и снискать покровительство их богов. Различные чужеземные культы свободно отправлялись повсюду в империи – не только в провинциях, но и в самом Риме, где от чужеземцев требовалось лишь соблюдать уважение по отношению к римскому государственному культу и отправлять свои обряды частным образом, не навязывая их другим.
Поэтому можно сказать, что гонения на христиан в Римской империи не были собственно религиозными. Но почти одновременно с появлением христианской проповеди римская религия пополнилась новым культом, ставшим источником многих бед для христиан. Это был культ цезарей.
Римская религия сочетала в себе натуралистическое и государственное начала. В отличие от эллинского Зевса, олицетворявшего светлое небо, Юпитер в Риме был также олицетворением высшего государственного порядка, он представлялся невидимым главой именно государства. С появлением в Риме императорской власти появилось и представление о новом божестве: гении императора. Но очень скоро почитание гения императоров переросло в личное обожествление венценосцев. Поначалу обожествляли только умерших цезарей. Этот культ как бы увенчал римскую религию, так как был для всех принудительным. Так, после смерти Марка Аврелия сенат постановил считать безбожником всякого, кто не имел у себя в доме хоть какого-нибудь его изображения.
Постепенно, под влиянием восточных представлений, в Риме привыкли считать богом и живого цезаря, ему предоставляли титул «бог и властитель наш» и падали перед ним на колени. С теми, кто по небрежности или неуважению не хотел выражать чествования императору, поступали как с величайшим преступником.
Поэтому даже иудеи, во всём остальном твёрдо державшиеся своей религии, старались ладить с императорами в этом вопросе. Когда Калигуле донесли на иудеев, что они недостаточно выражают почитание к священной особе императора, то они отправили депутацию к нему сказать: «Мы приносим жертвы за тебя, и не простые жертвы, а гекатомбы (сотенные). Мы делали это уже три раза – по случаю твоего вступления на престол, по случаю твоей болезни за твоё выздоровление и за твою победу».
Не таким языком говорили с императорами христиане. Вместо царства кесаря они благовествовали Царство Божие. Император же воспринимался через призму образа Антихриста: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? (Откр. 13,4); И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его (14,9,11); Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. (16,2); И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами( 19,20)».
По словам апостола Иоанна, Фома называл Иисуса своим Господом и Богом, отсюда нельзя было одновременно поклоняться и Господу, и цезарю. Во времена Нерона христианам запрещалось пользоваться монетами с изображением на них цезаря; тем более не могло быть никаких компромиссов с императором Домицианом, потребовавшим, чтобы его титуловали «Господом и Богом». Отказ христиан приносить жертвы языческим богам и обожествлять римских императоров воспринимался как угроза установленным связям между народом и богами.
Цельс обращался к христианам с увещевательным словом: «Разве есть что худое в том, чтобы приобретать благоволение владыки людей; ведь не без божественного благоизволения получается власть над миром? Если от тебя требуют клятвы именем императора, тут нет ничего дурного; ибо все, что ты имеешь в жизни, получаешь от императора».
Но христиане думали иначе. Тертуллиан поучал своих братьев по вере: «Отдай деньги твои кесарю, а себя самого Богу. Но если всё будешь отдавать кесарю, что же останется для Бога? Я хочу называть императора владыкой, но только в обыкновенном смысле, если я не принуждаюсь поставлять его владыкой на место Бога» (Апология, гл. 45).
Обычная сцена того времени. Проконсул провинции замечает христианину, что тот должен любить императора как прилично человеку, живущему под покровительством римских законов, и, чтобы свидетельствовать свою покорность императору, предлагает принести ему жертву.
Христианин охотно соглашается любить цезаря как гражданин, но решительно отказывается от жертвоприношения: «Я молюсь Богу за императора, но жертвы в честь его нельзя ни требовать, ни приносить, ибо можно ли воздавать божеские почести человеку?» Естественно, вслед за этим следует тягчайшее обвинение в оскорблении царского величества и казнь.
Наконец, христианство выходит из подполья и становится государственной религией. И что же? Противостояние с властью сразу же прекращается. Может быть, цезари образумились? Отнюдь нет. Христианский император Константин так же имеет храмы и алтари, как и императоры-язычники. Впрочем, он принял крещение лишь незадолго до смерти…
Но вот наступает 404 год – та самая точка отсчёта. Императоры Аркадий и Гонорий после какого-то события призывают придворных чиновников к порядку. Заключительная часть грозного указа выглядит так: «А все те, кто в святотатственном дерзновении посмеют воспротивиться нашей божественности, лишатся своего места и имущества».
Это пишут искренние правители-христиане, которые запретили язычникам совершать жертвоприношения. В 408 г. Гонорий обращает храмовые поступления в доход военной казны, приказывает убрать изображения, запрещает язычникам «устраивать торжественные трапезы согласно обрядам их религии». В 415 г. он всех африканских жрецов высылает на родину и конфискует все земельные участки, посвящённые культу идолов. Аркадий, со своей стороны, в 416 г. выгоняет всех язычников со службы в армии и окончательно лишает их права занимать гражданские должности.
Кощунственные слова императоров звучат в полной тишине. Никакого возмущения, никакого всплеска эсхатологических настроений. К тому времени наиболее непримиримая часть христиан уже отделена от церкви (монтанисты, новациане, донатисты), а храмы заполняются новообращёнными, которые имеют весьма смутное понятие о христианской доктрине и склонны к компромиссам, немыслимым для их предшественников. В результате христианская интеллектуальная элита начинает приспосабливать императорский культ к реалиям «христианской империи». Титул «божественный» постепенно сближают со «святой» или «вечный». Византийских василевсов уже именуют: «Твоя Всевечность».
Отныне и на долгие столетия церковь забывает, что её подлинным историческим врагом является не язычество, а Антихрист.
Мумия, или Пародия бессмертия
Несмотря на многоразличие цивилизаций, народов, религий и культур, человечество не столь уж изобретательно в погребальных обрядах – все они так или иначе сводятся к утилизации, уничтожению трупа. Скажем, индоевропейские народы в большинстве своём практиковали кремацию. Когда арабский путешественник начала Х в. Ибн Фадлан спросил русов о смысле этого обряда, то услышал в ответ: «Вы, арабы, глупцы! Вы берете самого любимого человека и бросаете его в землю, где его съедают черви. А мы сжигаем его в мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас».
Персидские зороастрийцы (гебры), боясь осквернить лоно земли, клали труп на вершину скалы, где он служит пищей хищных птиц. «Когда человек умирает, – говорит Зенд-Авеста, – птицы с высоты гор устремляются в долины, где расположены селения, спускаются в ущелья, и кидаясь на тело умершего человека, разрывают его с жадностью. Затем птицы из долин подымаются на вершины гор. Их клюв, твёрдый как миндаль, уносит на горы мёртвое мясо и жир. Таким образом, труп человека из глубины долины переносится на вершину гор». Смысл, собственно, тот же – кратчайший путь на небо.
Иудаизм, христианство, ислам возвращают человеческую плоть земле: прах к праху. Многострадальный Иов обращается к могиле: «Ты моя мать», и к могильным червям: «Вы мои братья и сестры!». Но, в конце концов, гниение – тот же огонь, только медленный, оно также превращает человеческие останки в тлен, в пепел на крыльях бабочки Психеи.
Среди всех народов и цивилизаций Египет представляет единственное в мире явление. Он один предпринял тотальную борьбу против разрушения, сосредоточившись на том, чтобы сотворить из умершего мумию, – другими словами, статую, вылепленную из глыбы смол (в других культурах имеются лишь отдельные случаи мумификаций, а как массовое явление мумифицирование распространяется лишь на слой знати, как, например, у инков).
Между тем достаточно одного взгляда на собрание египетских мумий для того, чтобы заметить, что среди них существует иерархия: своя аристократия, своё мещанство, своя чернь. Над телом фараона, священника и богача трудилась целая группа высокооплачиваемых врачей, парикмахеров, художников и ювелиров. Они аккуратно потрошили тело, причёсывали накладные волосы, привязывали к подбородку заплетённую бороду, вставляли эмалевые глаза во впадины маски.
Геродот описывает труд бальзамировщиков высшего класса следующим образом:
«Сначала они извлекают через ноздри железным крючком мозг. Этим способом удаляют только часть мозга, остальную же часть – путём впрыскивания растворяющих снадобий. Затем делают острым эфиопским камнем разрез чуть ниже живота и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв её пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают её растёртыми благовониями. Наконец, наполняют чрево чистой растёртой миррой, касией и прочими благовониями (кроме ладана) и снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щёлок. Больше 70 дней, однако, оставлять тело в щёлоке нельзя. По истечении же этого 70-дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты виссонного полотна и намазывают камедью (её употребляют вместо клея)».
Этот зловещий туалет удваивал свою роскошь и изящество, когда дело касалось женщин: им золотили груди, ногти, красили губы. Бальзамировщик давал им грациозные и скромные позы: почти все женские мумии благоговейно скрещивают руки на груди; другие обеими руками прикрывают лобок, словно могильные Венеры.
Ещё более трогательна одна находка в Фивах: мать, которая прижимает к сердцу маленькую мумию новорождённого ребёнка. Здесь искусство бальзамирования едва ли не превзошло скульптуру – этот символ материнства изваян из самой плоти, из того, что страдало и трепетало.
Мумии победнее заключены в менее богатых саркофагах и под более грубыми саванами. Для покойников «среднего класса» существовал и менее затратный способ бальзамирования:
«С помощью трубки для промывания впрыскивают в брюшную полость покойника кедровое масло, не разрезая, однако, паха и не извлекая внутренностей. Впрыскивают же масло через задний проход и затем, заткнув его, чтобы масло не вытекало, кладут тело в натровый щёлок на определённое число дней. В последний день выпускают из кишечника ранее влитое туда масло. Масло действует настолько сильно, что разлагает желудок и внутренности, которые выходят вместе с маслом. Натровый же щёлок разлагает мясо, так что от покойника остаются лишь кожа да кости» (Геродот).
Наконец, бедняков, нищих и рабов наскоро паковали в корзины из пальмовых ветвей. Способ мумифицирования в этом случае был совсем прост: «В брюшную полость вливают сок редьки и потом кладут тело в натровый щёлок на 70 дней. После этого тело возвращают родным» (Геродот).
Итак, единственное равенство, которое признавал древний Египет, было правом на сохранение себя в смерти. Бальзамирование распространялось на бедного и на богатого, на раба и на фараона. Вечность была гарантирована самой мимолётной капле жизни. Даже зародыш мумифицировался, и таким образом то, что не жило, как бы переживало себя.
Но священное безумие переступало границу мира людей, распространяясь на зверей, птиц, рыб, насекомых. Бальзамировали кошек, собак, крокодилов, крыс, скарабеев, полевых мышей, змеиные яйца.
Египет принимал смерть, но восставал против всеобщего разложения, необходимого природе для обновления, – и этим грешил против жизни. Силе гниения он противопоставил фармацевтику, которую можно определить как священную гигиену трупа.
Смысл этого загробного фетишизма надо искать в мифологии Египта. По учению египетских жрецов, душа зависела от сохранности тела даже после их разделения. Отсюда бесконечные заботы о трупе и неприкосновенность последнего. Тело умершего после ритуала мумификации рассматривалось как воплощение личности, прошедшей через ряд освещающих её обрядов. У самих египтян оно называлось Саху (со значением «священные останки»).
По сути, мумия, спелёнутая испещрёнными иероглифами оболочками, – это своеобразная закладная судьбы. А для историков – ещё и книга, заключающая в себе повествование о царской славе, таинствах священства, секретах повседневной жизни или же о нищете, длящихся и по ту сторону могилы.
Из всех форм погребения мумифицирование – эта неуклюжая пародия бессмертия, – конечно, самая оскорбительная для современного сознания. В наших глазах поддельная вечность тела скорее отрицает бессмертие, крылья души словно вязнут в этой клейкой массе смол.
На средневековых кладбищах в Европе есть могилы с простыми плитами или крестами, на которых написано одно единственное слово: Resurgam (Воскресну!).
И этот короткий победительный крик более гордо утверждает бессмертие, чем все пирамиды и нетленные мумии древнего Египта.
Эпизоды истории
О сокровищах и подарках
Археологи – страшные люди. Раскапывая древние могилы, они лишают покоя мёртвых. И даже хуже: вынимая из земли сокрытые клады, они покушаются на «комфортность» загробной жизни их древних обладателей.
Учёные уже давно пришли к мысли о неэкономическом использовании древними захваченных богатств. Внешняя опасность не была основной причиной сокрытия кладов. Для варварских народов Европы клад имел, прежде всего, сакральную ценность – стоит вспомнить хотя бы наследственные сокровища Нибелунгов, утопленные в Рейне. Часто встречающееся расположение клада в центре погребальных курганов или поселений, то есть на явно сакральной территории, применение бересты (в славянских могильниках) в качестве обёрточного материала не только для гробов и тел покойников, но и для сокровищ, делают очевидными религиозные мотивы сокрытия кладов.
Отношение к богатству в древних обществах существенно отличалось от нынешнего. Обладание богатством было важно, прежде всего, в социально-политическом, религиозном и даже этическом смысле. Богатство выступало в качестве, так сказать, нематериальной ценности. Не случайно, слова «бог» и «богатство», оба старославянские, обнаруживают корневую связь, восходящую к индоевропейской общности. В золоте и серебре воплощались сила, счастье, благополучие – именно это в первую очередь и придавало ценность благородному металлу. Удача (военная, торговая) приносила богатство, которое, в свою очередь, олицетворяло и сулило успех и преуспеяние его обладателю в будущем. Главным стремлением было иметь богатство, накапливать, а не тратить его, так как оно аккумулировало в себе социальный успех его владельца и выражало благосклонное отношение к нему богов. Поэтому его необходимо было скрыть, спрятать, то есть сделать своим навечно, чтобы обеспечить процветание себе и своему роду. Здесь – «сакральные» истоки скупости.
Сокровища накапливали в капищах и святилищах или прятали всеми возможными способами – зарывали в землю, метали в море, болото и т. д. Множество примеров тому предоставляют скандинавские саги. Так, согласно легенде, верховный бог скандинавов Один повелел, чтобы каждый павший в битве воин являлся к нему с богатством, которое было при нем на погребальном костре или спрятано им в земле. Отец скальда Эгиля Скаллагрим утопил в болоте сундук с серебром. Сам Эгиль в конце своей жизни точно так же распорядился двумя сундуками серебра: при помощи двух рабов зарыл сокровища в землю, после чего умертвил помощников. Предводитель йомсбургских викингов Буи Толстый, смертельно раненый в морской битве, прыгнул за борт вместе с двумя ящиками, полными золота. Сокровища, которые оставались на руках, тратились тоже далеко не в производительных целях: князья вознаграждали ими дружинников, купцы – верных слуг, за деньги приобреталось вооружение и предметы роскоши. Да и сами монеты зачастую служили украшениями. Арабский путешественник начала Х века Ибн-Фадлан поведал, что жены купцов-русов ходили увешанные монистами из арабских дирхемов (подобные мониста действительно найдены в женских могилах киевского некрополя).
Словом, экономика и деньги существовали в варварских обществах едва ли не сами по себе. Над торговыми путями раннего Средневековья витал отнюдь не бледный дух наживы. Люди того времени были по-своему алчны, но алчность эта имела мистико-эстетический оттенок. Сверкание россыпей серебра возжигало в их душах пламень восхищения; завладевая сокровищем, они приобщались к заключённому в нем сверхъестественному могуществу. Потому и торговля той эпохи оставила после себя не ветхие кипы приходно-расходных книг, а неувядающие предания о битвах со стерегущими сокровища драконами.
В основе подобного взгляда на материальные ценности лежало особое отношение людей той эпохи к собственности вообще, которое можно назвать магическим или мифологическим. Драгоценности, деньги, имущество – словом, богатство как таковое не имело собственно экономического значения. Человек был связан с предметом владения не юридически, то есть не через право неограниченного обладания и свободного распоряжения. Вещь была как бы продолжением личности владельца, поэтому ценность имел не сам по себе предмет, передававшийся из рук в руки, её имели те лица, в обладании которых он оказывался, и самый акт передачи ими имущества.
Переданная в чужие руки собственность в большинстве случаев оказывалась не платой за те или иные услуги, а даром, скрепляющим личные взаимоотношения дарителя и принимающего дар. В древнерусском языке операции с собственностью и описываются преимущественно через два наиболее обширных блока глаголов: в один входят глаголы со значением «дать, дарить», в другой – со значением «брать, получать». Отчуждение и использование имущества в рамках системы дарений не могло быть рациональным в экономическом смысле. Но люди того времени и не стремились к этому. Одаряя и принимая дары, они вступали в служебно-иерархические отношения друг с другом, которые были, прежде всего, отношениями личной, а не экономической зависимости. Власть над людьми была важнее власти над их имуществом. Даритель делился с получателем дара долей своего социального престижа.
Безвозмездное принятие дара обязывало к ответной реакции – благодарности, которая выражалась в признании социального старшинства дарителя и, следовательно, в необходимости чтить его и оказывать ему служебные услуги; сохранить независимость можно было, либо обменявшись равноценными подарками, либо возвратив подаренное. В варварских обществах подобный взгляд на подарки был повсеместным. Североамериканские индейцы стремились во что бы то ни стало задарить (так сказать, «передарить») своих соперников, даже если эти дарения полностью истощали запасы племени. Зато честь и свобода соперников в этом случае подвергались такому уничижению, которое делало их неопасными. Принятие дара от могущественного конунга и последующая служба ему – постоянный мотив многих скандинавских саг. Монтень на заре Нового времени все ещё считал, что «если давать – удел властвующего и гордого, то принимать – удел подчинённого. Свидетельство тому – выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязида от присланных ему Тимуром подарков. А те подарки, которые были предложены от имени султана Сулеймана [Сулеймана II] султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а, напротив,, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью».
Таким образом, между дарителем и одарённым возникали нерасторжимые узы взаимных привязанностей и обязательств. Господин обязан был тратить своё имение – только так он мог прослыть могущественным, удачливым, богатым («причастным богу», «наделителем благами», согласно древней этимологии этого слова). Щедрость, нерациональное расточение имущества были предметом всеобщего восхищения и прославления: «Яко же невод не удержит воды, но набирает множество рыб, тако и ты, князь наш, не держишь богатства, но раздаёшь мужем сильным и совокупляешь храбрыя» (Даниил Заточник, XII в.). Служение такому человеку, холопство у него было не только не зазорным, но и желанным. Холопства домогались, ибо оно сулило приобщение к удаче и счастью господина. Через полученные от него дары на голову холопа изливалось благоволение богов.
Христианство боролось с языческим обожествлением золота и серебра. Князь Владимир Мономах ещё в начале XII века заклинал своих подданных: сокровища в землю не хороните: то есть великий грех.
И всё же, это древнее отношение к богатству и собственности дожило до наших дней. Вашу машину поцарапали, вашу собаку обозвали уродом, – и вам это неприятно. Почему? Ведь собственно ваша личность при этом не потерпела никакого ущерба. Но мы по-прежнему расцениваем принадлежащие нам вещи и живые существа как «продолжение» себя, своей личности, и потому остро реагируем на их порчу или умаление их престижа.
Ну и, конечно, каждый из нас (особенно девушки) с младых лет знает, что принимать подарки от малознакомых людей – дело опасное. Подарок по-прежнему обязывает современных людей, он по-прежнему подчиняет.
На каком языке говорили крымские готы?
В 30—40-х годах XV века венецианский купец Иосафат Барбаро проделал лингвистический эксперимент, результатом которого был следующий вывод: «Готы говорят языком немецким, в чём я сам удостоверился, имев при себе служителя немца, который свободно объяснялся с ними на природном языке своём, и они так же хорошо понимали друг друга, как у нас житель Форли понимает флорентинца».
Однако полное взаимопонимание между немцем XV века и современным ему крымским готом как раз и заставляет подозревать в свидетельстве венецианца капитальное недоразумение. Ведь это всё равно, как если бы нам вдруг представилась возможность поболтать с князем Владимиром I Святославичем, и мы бы обнаружили, что перекинуться с ним словцом ничуть не труднее, чем разговаривать с коренным жителем современного Воронежа или Архангельска.
Достоверность сообщения Барбаро возможна при одном, совершенно немыслимом, допущении, а именно что древнегерманский язык крымских готов, полностью изолированных с V в. от всяких контактов с германскими племенами Центральной и Западной Европы, развивался абсолютно в том же направлении, что и немецкий язык, обрётший самостоятельность в государстве Каролингов. Фактически Барбаро утверждает, будто тысячелетнее проживание крымских готов в греческом, аланском, хазарском, еврейском, а с XIII века и в татарском окружении превратило их язык в живой разговорный диалект немецкого языка XV века.
Исторические примеры, напротив, свидетельствуют, что древнегерманский язык не проявлял устойчивости при длительном соприкосновении с другими этносами. Так, германцам, расселившимся в эпоху Великого переселения народов в Галлии и Италии, хватило четырёх столетий, чтобы романизироваться и заговорить по-французски и по-итальянски, – при том, что они были в этих странах господствующим этносом.