
Полная версия
Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории
Какие символы новых идентичностей сегодня заполняют городское пространство и как разные акторы пытаются обнаружить новые смыслы мемориальных объектов в городской среде? В 2016–2017 годах в Киеве, на Бессарабской площади, после сноса памятника Ленину прошел ряд арт-интервенций, инициированных фондом «Изоляция» в рамках проекта «Общественный договор», предполагающего организацию диалога между обществом, горожанами, властью и художниками для обсуждения статуса функционирования памятных объектов в городской среде. В частности, в 2016 году мексиканская художница Синтия Гутьеррес создала недельную инсталляцию «Населяя тени» – была построена лестница, ведущая на постамент, с которого убрали статую Ленина. Воспользоваться лестницей мог любой человек, пожелавший постоять на месте Ленина, «в тенях прошлого», чтобы «побыть новой статуей» и увидеть «новые горизонты». Целью проекта были размышления над «идентичностью, навязанной памятью и крахом политических систем»[112]. В 2017 году прошел еще один конкурс проектов, связанных с инициативой фонда «Изоляция». На выбор горожан и жюри были предложены четыре проекта: 1) «Пьедестал» (группа Afterall, Италия) – деревянная конструкция, напоминающая клетку и повторяющая форму пьедестала памятника, положенная горизонтально и подчеркивающая беспомощность пьедестала; 2) «Мне нужен герой» (Милена Вучкович, Сербия) – на пустом постаменте устанавливается мощный прожектор, становящийся особенно заметным ночью. Прожектор вращается, происходит постоянный поиск нового героя, что подчеркивает отсутствие простых решений; 3) «Ритуалы природы» (Иса Каррильо, Мексика) – пьедестал покрывается горшками с розмарином, и эта розмариновая колонна играет терапевтическую функцию, создавая вокруг пространство для сидящих горожан, с которыми проводится особая практика медитации, сфокусированная на дыхании; 4) «Героев не существует» (Микита Шалений, Украина) – вокруг постамента предлагается установить книжные полки и доски, на которых граждане пишут мелом то, что хотят забыть, а углем то, что хотят помнить. Доски собираются на полках как своего рода городской архив мнений и желаний жителей[113].
В том же 2017 году в Москве появился проект, в рамках которого студенты Высшей школы экономики пытались переосмыслить судьбу советских памятников (и роль мемориальных объектов в целом) на примере памятника Дзержинскому, установленного в 1937 году на территории, где сейчас находится учебное заведение. Темы «отбеливания истории», «диалога о прошлом», реконструкции общественных пространств и их «десакрализации» (например, путем снятия памятника с постамента) стали центральными для проектов переосмысления прошлого в рамках воркшопа[114].
Арт-интервенции обозначают круг вопросов, который сегодня возникает вокруг мемориальных объектов в городском пространстве: должны ли эти объекты быть только репрезентацией власти и политики – или их смыслы стоит сместить в сторону создания пространств и возможностей для рефлексии обычного человека по поводу важных для сообщества тем, без навязывания каких-либо доминантных идей? Также ставится вопрос о том, можем ли мы сегодня жить в «постгероическом обществе», не создавая канон мемориальных фигур в духе ХIХ и первой половины ХХ века.
Процесс избавления от символических следов советского прошлого создал ситуацию внезапного появления «пустот» на месте снесенных советских «означающих». Фактически сегодня, спустя 30 лет после распада СССР, возникает новая дискуссия о советском символическом (и не только) наследии в городском пространстве. Эта дискуссия (которая началась с разной интенсивностью в разных частях бывшего СССР) идет на фоне появления специфического культурного и символического ландшафта в городах: там, где советские знаки стараются уничтожить, создаются контрастирующие с ними знаки процессов нациостроительства или же эти новые знаки соседствуют со старыми, создавая эклектику, которая еще нуждается в синхронизации и анализе. Новые символы нациостроительства присутствуют в городской топонимике и репрезентируются через создание монументальных памятников и сооружений. В Беларуси это проявляется в создании памятников правителям периода существования Великого княжества Литовского, в Украине – в появлении памятников тем, кто участвовал в боевых действиях после 2013 года, в России – в попытках «ресталинизации» в городском пространстве (в Новосибирске и других городах), а также в установлении новых монументальных памятников, символизирующих силу старых исторических нарративов (монументальный 25-метровый памятник советскому солдату «Ржевский мемориал»).
Одновременно – как следствие своеобразного процесса децентрализации памяти – возникает множество проектов, связанных с идентичностью отдельных городов и регионов. И здесь спектр новых мемориальных объектов представляет собой памятники и знаки, отсылающие к частной жизни (многочисленные новые городские скульптуры), или же знаки, целью которых становится политическое маркирование пространства, репрезентация событий постсоветской истории и попытки утвердить легитимность нового политического устройства с опорой на прежние нарративы (трансформация памятника Ахмату Кадырову в Грозном в мемориальный комплекс, связанный с победой в Великой Отечественной войне). Еще одно направление активности – смена городской топонимики или попытки обозначения всех перемен, которые с ней случились (в 2015–2016 годах в Минске, в районе Старого города, вывешивались таблички с историческими названиями улиц, чья топонимика менялась на протяжении долгого времени).
ТОПОГРАФИЯ ТРАВМЫ: ОТ БАВАРСКОГО КВАРТАЛА К «ПРОСТРАНСТВУ СИНАГОГ» И «BREST STORIES GUIDE»Травматические события часто не поддаются репрезентации и поэтому требуют новых способов представления в городском пространстве[115]. Травму также стоит рассматривать не как единичное событие, а как процесс, в ходе которого случившееся признается всеми в качестве травмы и становится частью идентичности и памяти сообществ[116]. Следовательно, память о травме, рассказы о ней и попытки ее репрезентации зависят от социального, политического, культурного и иного контекстов прошлого и настоящего. Репрезентация травматических событий в городском пространстве вызывает множество дискуссий об этике памяти, «подрыве» позитивного образа идентичности сообщества и ретравматизации. Одним из примеров таких масштабных дискуссий являются дебаты, связанные с мемориализацией событий Холокоста.
Погружение в немецкую культуру памяти в городском пространстве для многих связано с посещением Берлина и комплекса мемориалов, связанных с памятью о Холокосте и Второй мировой войне: Мемориала памяти убитых евреев Европы (открыт в 2005 году), Мемориала жертвам национал-социализма народов синти и рома (открыт в 2012-м), Мемориала гомосексуалам – жертвам национал-социализма (открыт в 2008-м) и других. Интересен пример Баварского квартала, отличающегося от перечисленных мемориалов тем, как место памяти о преследовании евреев при национал-социализме интегрировано в городскую повседневность. Баварский квартал в берлинском районе Шёнеберг до прихода к власти нацистов был центром еврейской интеллектуальной жизни (связан с именами Ханны Арендт, Вальтера Беньямина, Альберта Эйнштейна и других). До войны в Шёнеберге проживало около 16 000 евреев (в основном представителей среднего класса), часть из которых жила именно в Баварском квартале. Большинство из них стали жертвами нацистской политики, а сам квартал в начале 1940-х был объявлен «свободным от евреев».
Проект мемориализации этих событий появился в конце 1980-х в результате инициатив местных жителей по изучению локальной истории. В ходе проводившегося в 1993 году конкурса победил проект работающих с общественными пространствами художников Ренаты Стих и Фридера Шнока, который предполагал установку на трехметровых осветительных столбах 80 табличек с надписями, регистрирующими все антисемитские законы и ограничения, принятые с 1933 года и приведшие к массовому уничтожению евреев. На обратной стороне табличек изображены рисунки, показывающие повседневную жизнь еврейского населения, которая стала невозможной при национал-социализме. Постепенно проект дополнился информационными табло и стендами с общей историей квартала (до, во время и после войны) и личными историями его известных жителей, установленными на ближайшей станции метро Bayerischer Platz, а также мультимедиа-экспозицией, размещенной в пространстве обычного кафе, которое часто посещают туристы и жители квартала. В 2017–2018 годах прошла реставрация всех табличек, установленных в 1993 году[117].
Проект Баварского квартала, будучи примером интеграции травматической памяти в городскую повседневность, является также примером проблематизации самого понятия повседневности и ее связи с политическим, социальным и иным контекстом существовавшего с 1933 по 1945 год нацистского режима, примером соединения памяти о прошлом с аутентичным местом и его трансформациями.
Мемориализация Холокоста в странах бывшего СССР имеет свою специфику. Во-первых, события Холокоста на территории нынешних Беларуси, Украины и части России описываются при помощи метафор тотального уничтожения, «Холокоста от пуль» (когда массовые убийства осуществлялись прямо на территории, где проживало еврейское население и куда вывозилось депортированное еврейское население западной части Европы)[118]. Во-вторых, на память о Холокосте влияют и другие обстоятельства: глубоко укоренившаяся традиция политического забвения этой памяти в СССР и процесс размытия еврейской идентичности, уничтожение материальных следов культуры еврейских общин в ходе советизации и Холокоста, а также в послевоенное время. Кроме того, в конце 1980-х – начале 1990-х произошла значительная эмиграция евреев из стран бывшего СССР, что поставило под вопрос возрождение еврейской жизни и сохранение памяти. К этому можно добавить и проблему встраиваемости памяти о Холокосте в национальные проекты стран бывшего СССР.
Одним из интересных проектов мемориализации жертв Холокоста и наследия еврейской культуры в городском пространстве стал проект «Пространство синагог» во Львове[119]. Городская среда Львова имеет долгую историю, частью которой в ХХ веке, до начала Второй мировой войны, была еврейская община (примерно треть населения). Сам город «украинизировался» уже после Второй мировой войны: до этого он был довольно типичным «местом» (городом) в поликультурном пространстве Центральной и Восточной Европы, с проживающими здесь польской, армянской, еврейской, украинской и другими общинами. Еврейская община сталкивалась с антисемитизмом еще во времена межвоенной Польши (1918–1939) и не смогла пережить Холокост в период нацистской оккупации.
Миграции населения после войны и политика памяти в советскую эпоху стали основой для нарратива городской истории Львова, в котором доминировали советские украинцы. Остальные нарративы и истории были вытеснены или забыты[120]. Еврейское материальное и культурное наследие Львова исчезало и разрушалось. В 2008–2010 годах, усилиями внешних и внутренних акторов (представителей религиозных общин и исследователей из Израиля, Украины и других стран), в рамках дебатов о еврейском наследии в городах Центральной и Восточной Европы, появилась идея восстановить облик еврейского Львова. Она кристаллизовалась в проекте «Пространство синагог», целью которого стала реновация пространства в историческом еврейском квартале города, где ранее находились синагога «Золотая роза», Большая городская синагога и Дом учебы Бейт Гамидраш. Все эти здания (как и еврейские жители Львова) были уничтожены нацистами в 1941 году. Открытие «Пространства синагог», созданного по проекту берлинского архитектора Франца Решке, состоялось в 2016 году. Были расчищены и обозначены – там, где это было возможно, – фундаменты синагоги «Золотая роза» (ее остатки законсервировали) и Дома Бейт Гамидраш; появилась инсталляция «Увековечивание» – 39 каменных стел с фотографиями города и прежних жителей Львова, в том числе жителей-евреев, и цитатами их авторства.
Проект предусматривал поиск не только новых способов реставрации и консервации еврейского материального наследия, но и способов репрезентации «того, чего нет» (восстановления городского воображения, в котором присутствуют разные культурные традиции, и визуализации уничтоженного материального наследия). Также этот проект остается «работой в процессе», предполагающей фиксацию того, как новое мемориальное место встраивается в городскую среду и как меняется отношение горожан к этому пространству. «Пространство синагог» – прекрасный пример реализации идеи культуры партиципации: в его планировании и обсуждении принимали участие разные акторы, в том числе представители разных общин и городских инициатив Львова; проект сопровождался изучением мнения горожан и их отношений с новым пространством.
Новые формы памяти возникают в городском пространстве на стыке цифровых технологий и искусства (в частности, практик документального театра). Один из таких проектов начал реализовываться в 2015–2016 годах в белорусском городе Брест. Проект «Brest Stories Guide» представляет собой аудиоспектакль, рассказывающий о Холокосте в Бресте и жизни местной еврейской общины (составлявшей более половины населения города) до начала Второй мировой войны, включая историю довоенного антисемитизма[121]. Проект призван показать историю Бреста, которая оставалась нерассказанной на фоне нарратива о героической обороне Брестской крепости, ставшего центральным для советской истории Бреста, начиная с 1960-х годов. Кроме того, «Brest Stories Guide» предлагает погружение в несоветскую историю Бреста (бывшего частью Второй Речи Посполитой до 1939 года). Инициатором проекта стал брестский театр «Крылы халопа».
Проект включает несколько маршрутов по Бресту, разработанных и представленных в специально созданном мобильном приложении. Маршруты сопровождаются рассказами от имени разных групп (жертв, участников убийств и погромов, свидетелей). Стилистика документального театра, использовавшаяся при записи рассказов, ориентирована не на «эмоциональный аффект», а на медленное, детализированное погружение в прошлое. Маршруты проложены по местности, где уничтожены или перестроены практически все здания, которые могли бы стать материальным фоном для памяти о событиях Холокоста. В результате перед нами возникает своего рода дополненная реальность города, в котором произошла трагедия.
Данный обзор проектов публичной истории в городском пространстве призван показать, что происходит с объектами и практиками, ранее символизировавшими «историю» в городском пространстве: сегодня ставится под вопрос сама суть прежних практик коммеморации и мемориальных объектов. Однако история в городском пространстве предполагает и другие практики и способы репрезентации. Массовые шествия в исторические даты или более камерные ритуалы, граффити, муралы, монументальные памятники и памятные таблички на домах, городские скульптуры, названия кварталов, улиц и остановок транспорта, музеи, информационные стенды, экскурсионные маршруты, памятники архитектуры, мобильные туристические приложения с элементами дополненной реальности, сообщения в медиа с отсылками к локальной истории – все это создает ощущение прошлого в городской среде и повседневности. Но чтобы это все работало, было частью коммуникации и рефлексии горожан, необходимо выполнять несколько условий, в сторону которых разворачиваются сегодня академические исследования, экспертные проекты и активистские инициативы.
С одной стороны, речь идет о появлении низовых инициатив в области публичной истории, в рамках которых осознаются интересы локальных сообществ и частных лиц (например, волонтерские и активистские движения по защите материального и культурного наследия города, петиции об установке памятников или смене названий улиц). С другой стороны, рост числа таких инициатив, их выход за пределы локальных сообществ и влияние на социальную и политическую ситуацию возможны, только если культура партиципации – обращения к разным группам акторов в городском пространстве, признания их права на город в целом и артикуляцию своих историй в частности – также активно развивается. А это, в свою очередь, требует обсуждения и переформатирования ради инклюзии (символической и реальной для разных групп) статуса общественных пространств и пересмотра прежних практик и смыслов коммеморации на уровне всего сообщества.
Литература– P.S. Ландшафты: оптики городских исследований: Сборник научных трудов / Под ред. Н. Милерюса, Б. Коупа. Вильнюс: ЕГУ, 2008.
– Царицыно: Аттракцион с историей / Под ред. Н. Самутиной, Б. Степанова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
– Crinson M. Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City. London: Routledge, 2005.
– Hayden D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
– Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003.
– The Routledge Handbook of Memory and Place / Ed. by S. De Nardi, H. Orange, S. High, E. Koskinen-Koivisto. London: Routledge, 2019.
Борис Степанов, Алиса Максимова, Дарья Хлевнюк
Краеведение
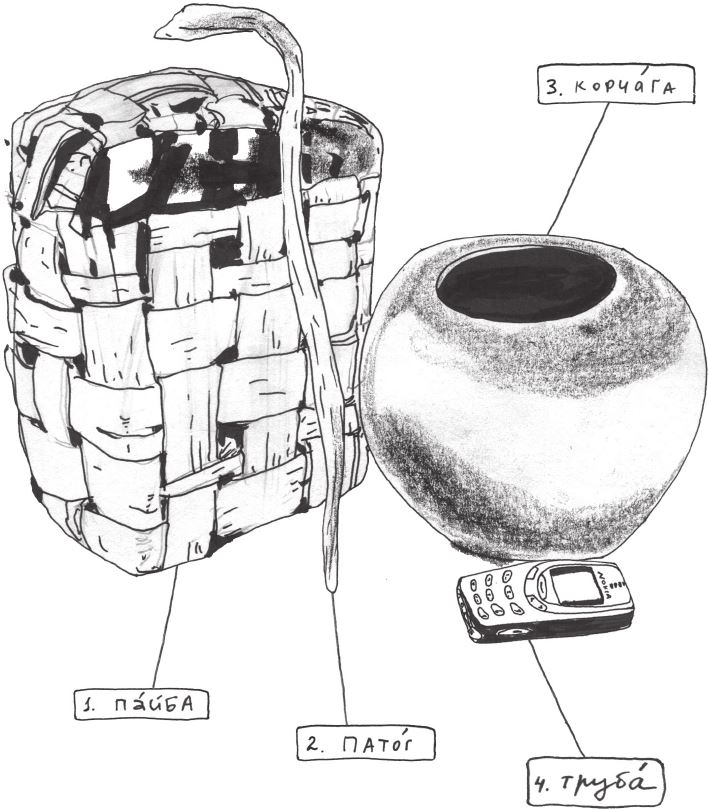
Еще недавно краеведение многим представлялось старомодным досугом пенсионеров или пережитком старых практик культурной политики. Однако растущее число краеведческих проектов по всей России, «омолаживание» краеведов и появление краеведческих звезд (таких, как Рустам Рахматуллин в Москве или Михаил Тимофеев в Иванове) опровергают эти стереотипы. Краеведение оказывается формой работы с прошлым, которая помогает решать проблемы в настоящем: искать альтернативы «большой» национальной истории в исследовании истории локальной, вырабатывать язык для рассказа о трудном и ранее замалчиваемом прошлом, решать экономические проблемы региона через туризм или сохранять историческое и природное наследие. Краеведческие проекты все больше отходят от привычных академических и музейных форматов, осваивают новые пространства (например, коммерческие или художественные), становятся фактором социальных изменений.
Понятие «краеведение» обозначает совокупность различных форм активности представителей местного сообщества по изучению своего края и насыщению его культурными значениями. Современное состояние краеведения – лишь очередной виток в его сложной судьбе. Возникновение в XVIII–XIX веках локальных научных обществ как исторического, так и натуралистического профиля создало почву для подъема региональных интеллектуальных инициатив, который случился в 1910–1920-е годы и с которым было связано утверждение представлений о ценности локального знания и «крае» как едином объекте изучения. В конце 1920-х – начале 1930-х годов краеведение как массовое движение было разгромлено в ходе идеологической унификации советской культуры, а концепция краеведения была в редуцированном виде апроприирована советской системой культурного воспроизводства и оказалась встроена в образовательную и музейную практики. Процесс возрождения краеведения, ставший возможным в послесталинский период, вновь усилился в эпоху перестройки. Тогда идеи краеведения стали одним из важнейших импульсов протестной мобилизации и критики советской идеологии[122].
Сегодня краеведение включает как институционализированные структуры (сеть краеведческих музеев и библиотечных проектов, учебных программ в школах и университетах, ассоциаций разного уровня – от районных краеведческих обществ до Союза краеведов России, корпуса краеведческих изданий и т. д.), так и неформальные сообщества любителей истории и низовые проекты. Краеведение отчасти несет отпечаток советских организаций, способов и институтов производства знания и ориентировано на задачи патриотического воспитания. В то же время появляются проекты с иной повесткой, стоящие на критической позиции по отношению к «государственным» идеям патриотизма. Говоря о географическом распространении краеведения, следует понимать, что оно характерно не только для провинции, но и для столиц, где в большей степени связано с развитием градозащитного движения.
Как интеллектуальный проект краеведение определяет себя преимущественно по отношению к конкретному пространственному объекту – краю, который изучается разнообразными методами, причем не только естественно-научными и историческими, но иногда и откровенно псевдонаучными. Определение, которое дает краеведению Большая советская энциклопедия («Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, др. поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем»[123]), характерно в том смысле, что оно подчеркивает не только комплексный характер краеведческого знания, но и фактор локальной укорененности субъекта познания (как писал Сигурд Шмидт, «краеведение – это всегда краелюбие»[124]). Этим обусловлен проблематичный статус краеведческого знания, которое оказывается противопоставлено научному знанию сразу по нескольким осям: как любительское – профессиональному, как почвенное – отвлеченному, как периферийное – центральному, как частное – общему и т. д.[125] Одна часть интеллектуального сообщества воспринимает краеведение как область интеллектуальной периферии, где торжествует непрофессионализм и аккумулируются разного рода мифологические представления. Для другой оно носит позитивный ореол, сочетая ценности «почвенности», «эмпиричности» и вместе с тем комплексности знания. Существуют и попытки придать краеведению более современный академический облик путем переименования его в «регионалистику»[126].
Продуктивность взаимодействия краеведения и публичной истории обусловлена прежде всего тем, что институциональная база краеведения (объекты наследия, местные музеи, архивы, школы и т. д.) в значительной степени совпадает с той системой институтов, деятельность которой обеспечивает публичная история на Западе. Как уже отмечалось выше, эта сфера претерпевает значительные трансформации. Краеведение оказывается вовлечено в развитие туризма, культурного маркетинга и использование наследия как ресурс развития территорий. Локальное прошлое отчасти коммерциализируется: культурные предприниматели находят «бренды» и истории, которые могут быть интересны широким аудиториям. Другой важной тенденцией является развитие различных форм гражданской активности, в том числе инициативы по сохранению наследия и обсуждению трансформации городских пространств, увековечиванию памяти жертв и т. п. Наконец, еще одним фактором выступает новая культура частной памяти, подпитываемая интересом к семейной истории.
Переопределение взаимоотношений между академической наукой и публикой по поводу общего прошлого и исторического наследия делает особенно актуальным изучение традиций создания локального знания в разных обществах, осмысления существующих нарративов и практик. Насущной задачей представляется преодоление геттоизации краеведения, связанной как с замкнутостью официальной науки, так и с культивированием в рамках краеведения архаических моделей производства и представления знания (в частности, представлений о целостности региона или приоритете архаического прошлого). Опыт публичной истории, опирающийся на достижения различных дисциплин (от культурной географии и урбанистики до исследований памяти), мог бы сыграть важную роль в формировании новых перспектив краеведческой (само)рефлексии.
Можно указать на несколько направлений развития такого рода (само) рефлексии. Во-первых, выработка адекватной интерпретации краеведения как формы локального знания, осмысление традиции краеведения в контексте взаимодействия гуманитарных и естественных наук. Во-вторых, фокус на проблематике публичности пространства, множественности действующих в нем акторов, разнообразии смысловых акцентов и контекстов их деятельности, а также интерпретация краеведческих инициатив как культурной активности и важнейшей формы гражданского диалога. В-третьих, осмысление различных контекстов бытования и средств трансляции краеведческого знания – от научных публикаций до постов в интернет-сообществах, от краеведческих музеев до современных арт-проектов. В-четвертых, выявление внутренних противоречий феномена наследия и многообразия его форм, а также способов его освоения. Наконец, в-пятых, расширение диапазона возможностей тематизации местной истории и форм рефлексии актуальных для местного сообщества проблем.
ТЕОРИЯРазнообразие форм краеведения отражено и в корпусе литературы, связанной с краеведческой тематикой. Он включает локально-ориентированные исследования любителей и профессионалов, которые в большинстве случаев не выходят за пределы местного сообщества; работы педагогов, сотрудников музеев и библиотек, посвященные краеведческим аспектам деятельности соответствующих институций; исследования по истории соответствующих краеведческих сообществ; наконец, труды разного порядка, претендующие на характеристику краеведения как культурного феномена.









