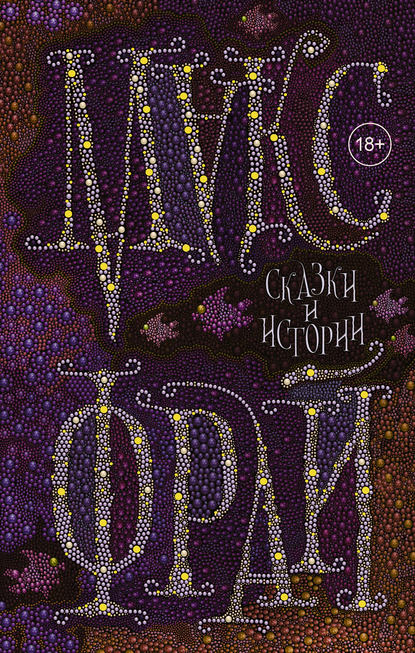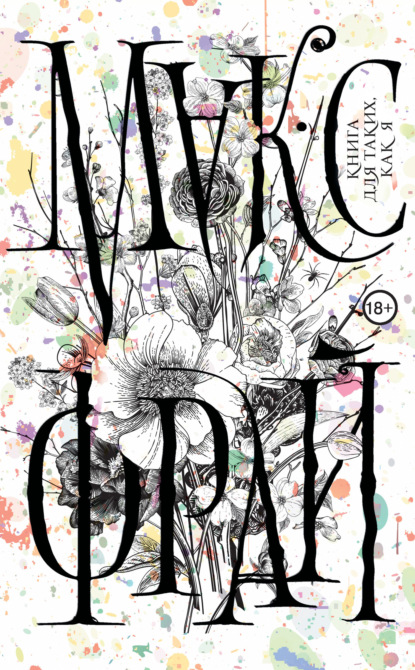![Так [не] бывает](/covers_330/22791924.jpg)
Полная версия
Так [не] бывает
И вдруг увидела снег.
Она тоже не была управдомом, ни вагоновожатой – она вообще не была человеком.
У него не было тела, не было формы, оно не ело, не ощущало, не могло умереть. Оно жило в пещере на заснеженных горах, поросших лесом. В лунные ночи свет проникал через щели вверху, и оно тогда подлетало повыше и смотрело на луну – тогда его почти форма была почти видна и слегка серебрилась, как сгусток пара на морозе. Очень старое, человеки, редко приходившие к пещере с дарами из нижней деревни, несколько раз меняли свой вид, одежды. Но не присматривалось – все равно. Равнодушие. Основным его занятием был снег. Надо устроить снегопад. Оно перемещалось в лесу. Когда находило труп лисы, с кровью из застывшей пасти, птицы или замерзшего охотника с остекленевшими глазами – оно долго смотрело, а потом равномерно покрывало их тела, морды, мех, перья, лица, глаза инеем. Это было красиво – инеем. С ним гораздо лучше.
Потом однажды этот. Черный жесткий волос, узкие глаза. Он рисовал. Черным по белому. Оно с ним ходило. Не убивать. Или просто тоже смотрел. Рисовал, сосна, иглы. Хребет горы. Красиво. У белой лисы есть черная лиса.
Сначала он не очень. Показать. Непонятно как, но получилось. И тогда оно всегда с ним ходило, не надо инеем – никто раньше не видел. Хорошо понимал. Стал лучше. Очень хорошо.
Оно когда с ним ходило – как будто начало потом чувствовать немного.
Рисовали вид с горы на нижние горы в соснах. Старый стал, волос белый. Оно висело над пропастью, показывало. Это был рисунок самый лучший, он сохранится. И вдруг открылась прореха – и туда засасывало, совсем втянуло быстро, оно успело посмотреть напоследок – а он тоже смотрел, и было ясно, что он глазами увидел. Оно подумало – мы что, разве тоже умираем? Но это было не больно. Грустно немного. Зачем?
Но оно все равно не умерло. Оно перешло, миры – тусклые, сияющие, большие, маленькие. Золотые в синей темноте. Они так не делали, обычно нельзя, но оно взяло свое грустно – все, что у него было – и смогло с ним опуститься к человекам. Больше не показывать, а самому. Так хочется.
– Эй, ты где?
– Что там в ваших буддизмах говорят, – спросила Оксана, одеваясь, – бывает, что типа духи перерождаются в человеческом мире? Я не разбираюсь.
Он тоже не разбирался.
– Я видел, что я был викингом, – кричал он, – меня убили в живот, и вот, теперь, конечно, проблемы с кишечником. А ты кем была?
– Никем, – поправилась, – ничего не видела.
Вышли на улицу, было еще морозней, двенадцатый час.
– Пожалуй, я не поеду. Что-то… Вспомнила, есть срочные дела. И начну рисовать, – сказала она. – Давно хотела, знаешь. Сначала – снег и ветки. И думаю, мне надо подобрать нескольких котиков. Да, думаю, нужны животные, для Москвы котики сойдут – пусть им будет тепло.
– С ума сошла. Только не тащи в дом, – как вегетарианец, он не очень любил животных, – на кого оставишь, а как же Индия?
– …может быть, удастся раздобыть ворону, хотя это сложнее, бездомная ворона… Черная, белая. Что касается людей…
– Уверена, еще четыре месяца в этом дубаке?
Как жалко, он думал, уговорил – одному все же скучновато, и ему нравились ее глаза – голубые, светлые, почти белые. Кажется. Не смог сразу проверить – она зажмурилась и принюхалась.
– Ничего, сейчас станет теплее. А там будет видно.
Пока дошли до метро – градусник и правда пополз вверх и сразу пошел снег, мягкий, белый, довольно, он подумал, даже приятный.

Татьяна Замировская
Тот кто грустит на Бликер-стрит
Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в Старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в Старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе, и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывание мое в старухе неполное, невозможное и ложное – лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную рябь марокканской вязью – еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясытью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты сверхталантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, наощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а не преграде или перегородке. Собака плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства, и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязыкость, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.
Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего – тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.
Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части /взвинченная/ хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, – точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное, страшное и возможное – я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары – последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.
Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более, что человек как правило сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам, необходимо носить с собой зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.
Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.
Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь, покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух лет получаются отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые – это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально – это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, спрыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбегаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.
Любовь моя, хочу написать тебе через бабку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит, и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровяной отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно – если подумать, я пишу это тебе фактически не только из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.
* * *Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем такие письма рассылаю, знаешь сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.
Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Говорит так, как будто не до конца ожила. Все там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.
К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, свисают с шеи, как больные родственники.
Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготовлю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.
Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудышный, все там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты – тяжело внятно выражаться поэтому.
* * *Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не накрошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбакс преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грассирования – но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку, кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подлодка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорчеванная из собственного сознания, я осознаю, насколько счастлива быть здесь с тобой, пусть и не здесь, пусть и не быть. Печально, но совсем не страшно. Вчера ночью, чтобы сэкономить тебе сотню, я пыталась написать тебе из тебя, но ты – как всегда! – тут же нежно выдавил меня из себя, как капсулу. Твое упрямство меня восхищает, пускай я вижу это лишь из собаки, из крысы, из дерева, из кричащего страшным воем китайского младенца. Ты так и будешь выдавливать меня из себя по капсуле, как отвагу, как осторожность, и мне в тебя не войти, но вдруг когда-нибудь выйдет наоборот, и я буду сидеть рядом? К тому другому, имени чьего я не помню – видимо, оно не передается с фатальным ударом двери и чугуна по голове – прошу, не отпускай ее – будет биться, но ты держи, ведь я всей своей широковокзальной, многонациональной бабкой люблю тебя, всем голубем, всей собакой, и даже та коричневая крыса, что шла к тебе вчера по проводам, искрясь в электрических переливах закатного света, тоже была я. Оставайся, мы будем любить тебя всем городом, все равно у меня пока что больше не получается никуда проникнуть. Хотя все это временно, поверь – и ее, наш беспамятный полупрозрачный пакетик, мы непременно вскроем, как квартиру, вскроем и обчистим. Она будет наша, мы ее завоюем в конце концов – как ты мне сам однажды сказал, это всего лишь туловище. Мы с тобой ключ, и мы же оковы. Не давай больше денег этой старухе, я хочу перейти на парки побольше, этот треугольник из куста и чугуна мне жмет, и я уже подыскала себе неплохого голубиного деда, похожего на благополучно состарившегося, не умершего Фрэнка Заппу. Он сидит на Вашингтон-сквер и его легко узнать по резкому отсутствию толпы вокруг. Помни, ты здесь не для того, чтобы меня спасти, меня все равно не спасти. Считай, что мы с тобой проводим мысленный эксперимент, но формулировать его мне нечем.
* * *Ну что, снял пока квартиру, вывожу ее в парки гулять. Улыбается, крошит булку. К ней, знаешь, белочки всякие сползаются, собаки подходят, птицы слетаются всякие. Как Белоснежка, блять. Я тому другому позвонил потом сам, но он говорит, что не нужно, не хочет видеть, но может подвезти документы, потому что страховку можно получить или что-то такое, в суд подать, это важно, говорит, огромные деньги в перспективе, ну или он даже сам подаст, так удобнее. Иногда что-то вспоминает, да, но нечасто. Однажды сказала: шолтые шары, шол-ты-е, и я вспомнил, что это из письма, поцеловал ее, но она сразу строго так: кто ты? – забыла сразу. Когда вспоминает, лучше не прикасаться. Еще как-то стащила у меня зажигалку и подпалила себе подушечки пальцев, до пузырей, а я не успел переписать контакты с ее телефона, теперь все. Код не помнит, конечно, ты что. Да, получше. Говорит, пусто внутри, но хорошо, что я рядом. Если назовешь свое имя, назовет тебя по имени. Я хочу собаку купить или что-нибудь такое вроде собаки, пусть у нее будет, она к животным тянется и они к ней идут отовсюду, как на почту, в очередь становятся и ждут. Иногда у меня в голове что-то щелкает, и тогда она тянется ко мне, будто я сам животное на бесконечном поводке – но это на секунд десять, не больше. На Абингдон-сквер я больше не ходил, я так понял, что не нужно. Письма я выброшу в реку, когда буду уезжать из этого города, но пока что у меня хватает денег и я немного здесь поживу, пока она не наладится, не раскроется, пока не сработает этот засов; я всегда мечтал уехать хотя бы временно, просто сбежать куда-нибудь и потратить там все свои сбережения, чтобы не искушаться, не задумываться, не жить ожиданием жизни, от успешного стартапа с инвесторами господь сбереги, от бизнес-плана сбереги, от креативной индустрии подальше к пропасти безвластия над собой отведи. К бабке не ходи, к бабке не ходи, к бабке не ходи.

Анна Лихтикман
Медленно-медленно
Бывает, что кто-нибудь из них никак не хочет уходить и требует, чтобы позвали Симу. И тогда к нему подходит Роман и объясняет, что представление окончено, Сима уехала домой, а он может прийти завтра, если захочет. Сима никуда не уехала, разумеется, а сидит у себя, и выследить ее проще простого. Но такие парни, к счастью, редко догадываются пройти несколько метров по пляжу, туда, где стоят наши вагончики. Иногда мне их жалко, этих парней. Сидел человек – никого не трогал, но Сима решила, что он будет с ней танцевать, и вот он уже идет за ней, как загипнотизированный. Нет здесь, конечно, никакого гипноза. Она просто спрыгивает со сцены и подходит к кому-нибудь из таких. Парень, один из тех, кого мне обычно жалко, не вполне понимает, что происходит, но встает как миленький. Сима тем временем отступает, протянув к нему руки и словно растирая в щепотях корм, который сыпется на песок. И вот уже этот чудак, похожий на изумленного голубя, идет по дорожке из невидимых хлебных крошек.
Если я сижу в этот момент рядом с Хаимом, то он обязательно говорит: «На коду пошло». Хаим – единственный среди наших, кто работал в настоящем театре. «На коду пошло» – это оттуда, это означает, что приближается конец. Забавно все-таки звучит, словно не о представлении речь, а о погоде. Так говорят: «Похолодало» или «Штормит». Словно не от нас зависит, что там происходит, на сцене. Я сказала «на сцене», но это не совсем сцена, лучше уж я сразу предупрежу, чтобы вы не навоображали всякого. Да и театр наш – не похож на настоящий театр. Это квадратный участок пляжа, огороженный фанерными щитами. По периметру тянется балкон, который поддерживают деревянные стропила. Там установлены усилители и прожектора и там же сидят музыканты. В середине огороженного квадрата установлен дощатый помост, на котором выступают артисты, а вокруг – стулья в три ряда – это наш зрительный зал. Поскольку настоящей сцены у нас нет, то того, что называют «за кулисами», у нас тоже нет. Закончив выступление, актеры попросту убегают за фанерные щиты, в темноту.
В середине представления Хаим обходит зрителей со шляпой, но стоит ему закончить, как заходят новые люди. «Как назло! – говорит Хаим. – Только пустил шляпу, и – волна». Опять словно о погоде. Среди новой волны находятся все-таки люди с принципами, которые во что бы то ни стало хотят заплатить, и тогда кто-нибудь из наших предлагает им купить диски с песнями.
Когда меня спрашивают, где работает моя мама, я говорю: «На Кошачьем Пляже». Пусть думают, что она официантка в кафе или продавщица там, на ярмарке. Про театр я молчу. Раньше говорила, как есть, но потом надоело. Вначале человек охает да ахает, как, мол, удивительно: мама в театре работает, а потом выспрашивает и обязательно начинает мне объяснять, что наш театр – не театр, актеры – не актеры, а сцена – не сцена. Как будто я ему врала, что у нас здесь Гранд Опера. Разумеется, все наши, кроме Хаима, пришли бог весть откуда. Вот хотя бы Роман. Он неплохо жонглирует, но больше все-таки чинит и строит, если нужно. И выпроваживает Симиных голубей, когда они слишком назойливы. И тащит, что потяжелее: декорации, прожектора. Раньше у него была другая профессия, но он ушел к нам. Я рассказала про это нашей новой классной и напугала ее тогда до полусмерти. Я сказала, что дядя Роман бросил свое прежнее ремесло, потому что ему надоело выжигать глаза. Училка эта новая аж затряслась: «Выжигать глаза? Господи, девочка, что ты говоришь такое?!» Мне, конечно, понравилось, что я ее так впечатлила, – люблю, когда само собой получается; но я представила, что это может плохо закончиться, и объяснила. Роман работал когда-то программистом, и ему надоело выжигать себе глаза кодом. Это он так говорит, когда его спрашивают, как ему живется. «Паршиво, конечно, живу, но поверь, это лучше, чем выжигать глаза кодом». Так что тогда, с новой классной, обошлось – она успокоилась.
Надо, конечно, думать, что говоришь, потому что Кошачий Пляж – то еще место, и совсем не для детей, если честно. Так что не удивительно, что время от времени сюда приползают социальные работники. Одно хорошо: теток этих за версту видно, и когда такая подходит к вагончику, то к ней выходит моя мама. Мама знает, как с ними говорить, она в юности тоже на что-то психологическое училась. А вот музыке мама не училась никогда, получается – она не настоящая певица. Зато она ведет весь вечер. Она сидит на балконе, рядом со скрипачом, аккордеонистом и барабанщиком. Да, у нас весь вечер живая музыка. И живые танцы. Сима, конечно, лучше всех. Иногда я ее за это ненавижу. В начале сезона они с мамой разучили «Босую» – вот тогда-то я ее и возненавидела. Стоило маме затянуть «Выходит босая» – как Сима запрыгивала на помост, на нашу сцену, которая не сцена, и начинала танцевать. И что-то в этом такое было, из-за того, что она как в песне, прямо вот так и выходила – босая. Мне в этот момент казалось, что я опускаюсь в горячую ванну. Не знаю, как объяснить… По-моему, так нельзя. Мы когда-то подобрали здесь, на пляже, котенка-подростка. Взяли его, чтобы подкормить, пока не наберется сил, очень уж тощим был. Так вот, котенок этот был жуть какой блохастый. Я набрала в тазик воды, развела там шампунь и окунула его в пену. Он вначале дико испугался и стал вырываться, но я придерживала его, так что только башка была снаружи, и постепенно почувствовала, что он обмяк: ему понравилась горячая вода, и он больше не царапался. Он вообще, кажется, балдел – так ему было хорошо. Блохи, кстати, начали спасаться и вылезли ему на голову, где было сухо, а я их ловила – получалось, что кот еще получал и массаж головы: двойной кайф. И тут я увидела его взгляд. Понимаю, что смешно звучит, но это был настоящий взгляд, и в нем было счастье и стыд. Тогда-то мне и показалось, что так нельзя. Человек, ну или там кот, сам должен добывать себе удовольствия. Нельзя никого силком окунать в горячую ванну, да еще и придерживать. Ну это я фигурально, конечно, – того кота надо было отмыть, ничего не поделаешь.
Так вот, я о Симе. Как-то раз, когда она закончила танец и спрыгнула вниз, на песок, то натолкнулась на меня. Обычно, когда Сима заканчивает выступать, и убегает за фанерные щиты, лицо у нее, как у тех деревянных скульптур, которые когда-то устанавливали на кораблях: улыбается, смотрит куда-то вперед, а не видит ничего. Потом уже, когда пробежит по песку несколько шагов, – начинает видеть. Так вот, Сима спрыгнула с помоста, но на этот раз почему-то меня сразу заметила. Говорит: «Ты что, Мышка, что случилось, ты почему так смотришь?» Ну и как я ей объясню про горячую ванну, котенка и все такое? Но вот что удивительно: Сима сама додумалась. Поняла, что это все слишком, и под «выходит босая» начала выходить в мягких черных туфлях, расшитых бисером, а дальше – все как и раньше: куча браслетов на ногах и руках, бусы с колокольчиками. И вот тогда все сразу стало как надо – идеально. Мама сердится, когда я говорю «идеально». Ну ладно, пусть будет «прекрасно».
Мама еще злится, когда я рассказываю чужим про наших. Я ведь могу увлечься и приврать для красоты, а ей потом приходится отбиваться от соцработников. Но про Симу я ни слова сейчас не придумываю, так вот: она много лет была замужем за змееловом. Никакой особой экзотики, кстати, не было в их жизни. Сима говорила, что там, где они тогда жили, змеелов – это что-то вроде сантехника. Заползла в дом змея – вызывают его, он приезжает. Мне все кажется, что Сима оправдывается, когда так об этом говорит. Словно разговаривает не с нами, а с родственниками мужа, которые до сих пор ее обвиняют. Они считают, что это из-за нее он погиб. Он ведь, как и Роман, когда-то работал в офисе, а потом, наверное, ему тоже расхотелось выжигать себе глаза кодом. При чем здесь Сима, чем она виновата – не понимаю.