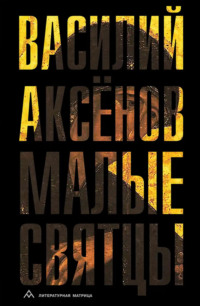Полная версия
Пламя, или Посещение одиннадцатое
Тик нервный у него, у дедушки Серафима, – левой щекой непрестанно дёргает, будто комара сгоняет со щеки, и глаз его левый постоянно мигает, будто кому-то знаки подаёт, сигналит, единственный, другой, рассказывают, суком в лесу, верхом на коне с заимки ехал, ему выхлестнуло – вытек.
На японской, «ишшо при Миколае Олександровиче, ампираторе-отце», под взрыв «бонбы» будто попал, «яво маленько тряхануло и контузило». Так на него старухи наговаривают. После этого он вроде – перед собой «плохонько», а вдаль – видеть стал «неограниченно», «через ельник, через горы, и рассуждать смешно маленько начал, ну а как тронутый-то, и чего с него возьмёшь?».
Смотрят на него старики и старухи, как сквозь прозрачного, и не слушают его, между собой о чём-то, пустом и привычном, речь ведут. А деду Серафиму до их внимания нет никакого вроде дела – продолжает:
– Наш бог – бог нашей вселенной. В каждой вселенной свой бог. Когда они между собой по-родственному вздорят, искры во все края летят – метеориты. Вздорят-то – ладно, такое и с людьми бывает, мир не рушится от этого, как бы у них до драки дело не дошло, то – катастрофа… Так и обешшано – случится. Не предупредишь, с нашей-то немощью, не остановишь.
Из ограды Чеславлевых вышел Вовка, Рыжий, пошли вместе дальше.
– Городят чё попало, – говорит про стариков Рыжий. – Повыживали из ума.
– Но, – соглашается с ним Ваня.
Из своей ограды, проскрипев воротами, на другой стороне улицы появился Олег Истомин. Истома. Чёрный. Потому что смуглый. Особенно летом, зимой «светлет маленечко». И Цыган – тоже он. Хоть и русский.
Втроём уже идут к клубу. Разговор ведут. Злободневный. Вовка у «тятеньки» махорки «слямзил» из кисета – потом покурят где-нибудь в укромном месте, «удоволятся с утеху». В прошлый раз курили «Север» – целую пачку Олег у отца утащил, – так всех троих вырвало. Махорка лучше.
По пути на отпечатки сапог своих, оставленных на сыром, оглядываются, сравнивают – у кого они «красивше» и чётче. Красивые-то у всех, но чётче у Рыжего. Новее у него сапоги, почти не ношены. «Сгорят скоро, хошь не покупай, – говорит бабушка Рыжего Марфа Измайловна. – Как на курсанте. Не напокупашься. В походах всё, шельмец, в круглосутошных рейдах, и отдыху не знат, будто служивый. Скорей бы уж теплынь наступила – босым будет, как паршивая овечка, скакать по просторам, пятки яво не знают сносу, как копыты чёртовы, будь он неладен, язычишко осрамила, с мнучонком этим, и греха не оберёшься».
Вовка и Олег в концерте не участвуют, «не выступают». Им повезло. А Ване придётся. Пирамиду будут старшие школьники на сцене строить, а Ваня, как самый лёгкий, должен овершить собой эту пирамиду, опереться руками на плечи двух крепких мальчишек из старших классов и встать вверх ногами. Мальчишки будут его придерживать, конечно, за это Ваня и не беспокоится – не из трусливых. И голова вверху у него не кружится – ему «хоть в лётчики иди». А что, и можно. Даже в космонавты.
Ну, пирамида – пирамида. На каждом школьном празднике строят – красиво, без происшествия всегда обходится, нормально. Громко хлопают номеру – нравится, дух, говорят, захватывает от зрелища.
В клубном буфете, забитом в основном молодыми, «не воевавшими» мужиками, пьющими бочковой портвейн, «хорошо уже отметивший» дядя Ваня Патюков, сын дедушки Серафима, «настояшшый» фронтовик, вся вылинявшая и застиранная гимнастёрка у которого в орденах и медалях, угостил их пряниками и газировкой. Поплакал, умилившись «будушшыми солдатиками-зашшытничками». День сегодня такой – многие плачут. А дядя Ваня тот и вовсе – очень «мягкосердый и слезливый». Всех, говорят про него, жалеет, тлю на берёзовом листе и ту.
Вскоре и концерт начался.
Полный зал. И в зале Павла. Она не из яланских. С Александровского Шлюза. Кержачка. Родители привезли её в Ялань учиться, у них там школы «своёй» нет. Живёт Павла у Суханихи, а учится вместе с Истомой и Ваней в первом классе. Рыжий – в третьем. На второй год он, Рыжий, наверное, останется, такие ходят слухи. Самая красивая она, Павла, из всех девчонок. Щёки всегда багряные, две косы толстые, длинные, волосы сжелта немного и скрасна, нос вздёрнутый, глаза зелёные, большие, губы малиновые, пухлые. И как золотой крошкой лицо её осыпано – веснушками. Ваня о ней всегда думает, не переставая. И даже спать когда ложится. Когда встаёт. Но никому об этом не говорит – засмеют, дразниться станут. Внутри горит всегда – как в печке. И имя Павла – пламя в ней.
Потеть почему-то Ваня начинает, когда смотрит на Павлу исподтишка. Вот и сейчас, когда в гримёрную по залу проходил, заметил Павлу в первом ряду, прямо перед суфлёрной будкой, под воротом его рубашки мокро сразу стало. Хорошо ещё, что Павла с Ленкой Вторых разговаривала, в его сторону не посмотрела.
В гримёрной Ваня снял телогрейку, сапоги, рубашку и штаны. Остался в белой майке, в чёрных носках, полуботинки пока без надобности, и в трусах, которые ему ночью прошлой сшила мамка. Из новых папкиных «сатиновых» перекроила.
Скоро и пирамиду надо будет строить. Ждут, когда номер их объявят.
В гримёрной многолюдно.
Объявили.
Вышли ребята, и Ваня вместе с ними, на сцену.
В зал Ваня не глядит – там глаза зелёные, яркие – ослепить могут. Ослепить-то ладно – обездвижить.
Начала строиться пирамида. Под музыку. Учитель ботаники, Валюх Николай Андреевич, он же и по физкультуре, он же и ответственный за эту пирамиду, на гармошке, никому не доверяя музыкального сопровождения, какую-то мелодию одним пальцем наигрывает. «Марш», – говорит. Хорошо до этого отрепетировали.
Подхватили Ваню цепкие и крепкие руки старшеклассника, на самый верх пирамиды, как знамя, вознесли.
Встал там Ваня руками на прочные плечи ребят. Вскинул вверх ноги, под самый потолок.
Лицом к залу. Сомкнул плотно веки – чтобы никого в зале не видеть, прежде всего, конечно, Павлу.
От восторга замерли все – тихо. Как сердце неудержно бьётся у него в груди, Ваня слышит.
И вдруг пронзительный крик Рыжего:
– Вы посмотрите, чё у Ваньки вывалилось!
Зал тут же загремел от оглушительного хохота.
Трусы у Вани широкие, опали вниз, и оголилось «достояние».
Дальше Ваня ничего не помнит.
Помнит себя уже на улице. Бредёт задами к дому, зажав под мышкой полуботинки. Плачет. Как многие в Ялани в этот день.
Приговаривает:
«Мамка, мамка, чё ж ты натворила, как меня ты опозорила! Теперь и жить я не смогу! Зачем трусы такие сшила?!»
Всю ночь не спал Ваня, разболелся. Температура поднялась.
Неделю провалялся в постели.
А когда выздоровел и вернулся к занятиям, Павлы в школе уже не было. Приехали за ней в Ялань её родители и увезли Павлу в своё старообрядческое поселение Александровский Шлюз, не дав ей доучиться в первом классе.
Как было Ване, трудно передать.
Вы вот к себе-то примените.
2О предыдущем уже сказано. Достаточно. Ничего вроде, кроме незначительных мелочей, не упустил. Кого следует представил. Необходимое обозначил. Ну а то, что, пока нёс, то есть рассказывал, упало где-то, то пропало. Возникнет надобность, вернуться, подобрать – пустяк, на личном-то моём пространстве, где я хозяин полноправный, никто чужой не подберёт и не присвоит посторонний. Пусть и присвоит, мне не жалко.
И что было после того, как мы пришли с раскопа, ну и до ужина и позже сколько-то, всё помню. Чётко. Ничем ярким, из ряда вон выходящим событием не заслонилось. Кто-то и то, что с ним происходило несколько минут назад, забывает. Такие есть, и далеко ходить не надо. Мама, и будто голос её слышу, произносит: «Что в раннем детстве было, помню, что было день назад, даже сегодня утром ли – ну хоть убей… Где-то приткнула лопату штыковую, грядку вскопать, и не найду. Олег, не видел?.. Ума совсем уж не осталось». Отец, если поблизости находится, отреагирует на это непременно: «А был когда-то… этот ум-то?» И посмеются оба, весело им. А мне вот нет – письмо не веселит:
«Сидим с отцом, в акно тоскуем… Скорбно».
Скорбно.
Заныло сердце – откликается. Чуть только что, оно: я тут! Билось и билось бы спокойно, трудилось тихо бы, не отзываясь ни на что. Во всё встревает, принимает к себе близко…
Потом проблемы у него. Только бы у него, ещё бы ладно.
Как там поётся…
Говорят, что будет сердце из нейлона,Говорят, что двести лет стучать ему,Может, это по науке и резонно,А по-нашему, ребята, ни к чему.В школе пели. Было дело.
Пока как есть, пока вот не нейлон, не синтетический полиамид, а плоть живая, страстная, на двести лет не тянет, тянет долу, но жить приходится с таким. «Куда ж деваться, – мама бы сказала. – Живым в могилу не ляжешь». Да, мама много что… Тут о другом.
Всегда, когда, конечно, лишнего не выпил, не перебрал, слежу внимательно за окружающим, что промелькнёт, где что пошевелится, пеленгую, хоть и занимаюсь при этом чем-нибудь – музыку слушаю, пишу или читаю. Почти как Цезарь. Просто – навык. Сидит там где-то, в позвоночнике, укоренилось. Среди могучей, дремучей, бескрайней и почти не тронутой тогда ещё тайги возрос, поэтому; будешь рассеянным – не выживешь; домой пришёл – можешь расслабиться, отвлечься. Как старики в Ялани учат малых: «Перед собой – видишь, с боков – слышишь, что за спиной – чувствуешь, и вверх поглядывай на всякий случай, рысь вдруг где с дерева, всё у тебя должно быть под учётом, а то потом и не найдут, бесследно сгинешь». Пропавшим без вести числа нет. Спроси у земляков моих, сибирских жителей, те подтвердят, те врать не станут. Я только так – передаю. Вот, к примеру, один мой односельчанин, дяденька лет пятидесяти, погожим сентябрьским днём взял синее капроновое ведёрко, подался в лес, на свой покос, за бояркой да за шиповником, а домой так и не вернулся. Десять лет уже о нём ни слуху и ни духу. Где он? Есть же где-то. Не на этом, так на том свете. Ну, на худой конец, пленён в тайге пришельцами из космоса и транспортирован в далёкое созвездие. Но вот в Ялани его нет.
Что на моих глазах происходило, то по минутам разложить могу. Только подробности тут ни к чему. Отчёт никто с меня не станет требовать. Пусть и имеет это какое-то отношение к нашей науке, но только косвенно. Даже в заметку для газеты или в статью для «Археологического сборника» или «Археологии СССР» о нечаянно и удачно найденном мной кладе удивительных ювелирных инструментов описание праздника, пусть и профессионального, почти совпавшего со временем находки, не вставить. А мемуары писать рано. Для мемуаров – было бы воображение, память – вторична. Вместо забытого, утерянного памятью – придумать можно, сочинить, писатель – барин. Это как выбитое в оконной раме стекло заменить подушкой или фанерой. Вычитал такое у какого-то француза, пригодилось. Не про подушку и фанеру, а про память и воображение; про мемуары. Только идею, смысл заимствовал. Дословно мне не повторить. Там как-то так – витиевато.
«Самое характеристичное свойство француза – это красноречие».
Не я сказал, а Достоевский.
Он же:
«А я всё думаю, что во мне (курсив не мой. – И. О.) не так? Почему на любом более-менее званом ужине мне скучно, почему раздражает тот факт, что французы тщательно избегают общечеловеческих тем для разговора, а весь вечер пыжатся, потеют, изобретая “красное словцо”, от которого и не смешно совсем.
Но ведь, вот ужас! Я ведь тоже начинаю на это (курсив не мой. – О. И.) походить…»
В Парижах не бывать, на званом ужине, как великому русскому сочинителю, среди французов не скучать, и это нам, выходит, не грозит. Мы будем скромно продолжать об «общечеловеческом».
И продолжаю. И револьвер для этого мне не понадобится.
Кто-то туда прошёл по бывшей трапезной, кто-то сюда, кто-то гитару взял и спел, бренча на ней, вполголоса, кто-то вошёл, а кто-то вышел, а кто-то с Волхова вернулся, искупавшись. Кто-то, не забираясь в спальник, валяется на раскладушке с книжкой или радиоприёмником транзисторным, прижатым к уху.
А кто-то спит, прокукарекав утро. Как можно дольше бы не просыпался…
Кому-то крикнуть хочется: «Рота, подъём!» Держим в руках себя, желанию не поддаёмся – я и Серёга. А посмотреть хотелось бы, как, подскочив испуганно, слетел бы на пол с раскладушки задремавший «кочет».
Ладно.
Ужин готов, дежурные по кухне в шахматы играют. Тувинец, из Тувы, и финн, из Ленинградской области, оба студенты нашей кафедры, с третьего курса. Сдружились. Катя, дежурная, студентка из МГИМО, зовёт с собой их – мыть посуду.
«Мы же помыли».
«Плохо… Жирная».
«Вода холодная была».
«Нагрелась».
«Пошли. Ничья».
«Нет. Доиграем. Четыре хода – мат тебе».
«Ну, разве русский, трёхэтажный».
«А мы посмотрим!»
«Вы идёте?»
Встали, отправились за Катей. Финн и тувинец. Катя – с «грузинскими корнями». И – «из Орловых, из дворян». Ну, так бывает.
Серёга – мне, себе ли – тихо говорит, вполуха слышу:
Хотел он поступать в ремесленное училище. После восьмого класса. В «областе», то есть – Вологде. Но передумал. Побили его, «дярёвню и колхозника», однажды ремесленники, напали «какие-то опехтюи впятером на одного, рисковые». И ни за что. «Я просто шёл себе и шёл. Как раз задумался о чём-то. Физиономия моя им не понравилась». Решил – в ремесленное ни ногой. «Здесь контингент другой, конечно, в экспедиции».
Здесь контингент другой, уж это точно. За физиономию – нравится, не нравится – пусть и подумают нехорошо, но не побьют.
Вполмысли вспоминаю:
Он же, Серёга, хлеб с магазина с ним несли: «Язык мой – вольноотпущенный, мелет, что вздумает; закрепостить бы».
Красноречивый. Как француз.
Пока не выветрилось, надо записать. И это может пригодиться.
В тельняшке и трусах, колени голые прикрыл полотенцем. Молчит сейчас, высунув и прикусив свой «вольноотпущенный». Штаны – шов разошёлся – починяет.
«Девушек попроси вон».
«Ну их, безрях, и сам управлюсь. Они, наверное, иголки в пальцах не держали. Лишь опозорят».
Починил Серёга штаны, шов осмотрел внимательно, ощупал пальцем указательным, нитку зубами перекусывает. На фоне светлого окна. Перекусил. Иголку, в «чуручок» – катушку с нитками – её воткнув, в сумку свою, «матерчатую», прячет.
Штаны натянул, лёг на раскладушку поверх спальника.
«Жизнь надо прожить так…» – сказал. Умолк на этом. В потолок смотрит.
Через минуту-две добавил:
«На эту тему надо было мне писать… Островский. Николай. А я – возьми – о Маяковском. В сто тысяч солнц закат пылал… Чёрт ногу сломит, в этом Маяковском… Чёрт – не знаю, а я сломал – пара по сочинению, как не сломал-то… В самой фамилии ошибку сделал, умудрился. Мояк… Какой мояк, сам не пойму».
Перед глазами у меня возник вдруг наш яланский дом. Лето. Комната заполнена сверху донизу солнечным светом. Родители в городе, не помню, зачем они туда поехали. Раз вместе, скорее всего, на похороны кого-то из родственников. Мой брат Николай и сестра Нина, старшеклассники, повздорили из-за очереди на прочтение какой-то книги. Николай вышел, громко хлопнув дверью, на улицу. Сестра, сунув книгу под комод, где Николай искать не догадается (но я ему, если он повода не даст мне на него серьёзно разозлиться, подскажу потом, конечно), погрозила мне пальцем и пошла на кухню мыть посуду. Я подкрадываюсь к комоду, достаю из-под него спрятанную туда книгу и читаю название: «Милый друг». Открыл первую страницу. «Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу». Ну, думаю, и шуму-то – из ничего! Дядька какой-то и какая-то кассирша. Ещё какие-то пять франков. Вот где придурки, думаю, так уж придурки, драться готовы за такую ерунду. За «Волоколамское шоссе» или «Джульбарса», я бы понял. За Шерлока ли Холмса. «Как закалялась сталь» – за эту так и до кровянки. Больные, точно. Ну, дают.
Все в ожидании. Конечно. Не каждый вечер можно, не скрываясь от начальства, выпить. Предстоит. И то начальство наше тайком от всех не станет «силы восстанавливать», что-то из фляжки подливая «крадче» в чай. От глаз внимательных не ускользает. Открыто выпьет нынче вместе с нами и начальство.
Всё, словом, помню. И не странно. Хоть мы с ним, с Серёгой, – вызвали нас через Катю, дежурную по кухне, – к тому времени яблочного вина уже и отведали. Проверили, что покупаем. Не кота же в мешке брать. В кустах акации, напротив Южных врат, за кухней, куда местные ребята, сдержав данное ими на днях обещание, принесли нам два ведра домашнего продукта. По вкусу – крепко забродивший сок, ещё день-два, и будет уксус. Хмеля немерено или дрожжей в этот продукт было добавлено? А то и табаку или махорки – для большей дури. Не для себя готовили, понятно, – на продажу. Таким, как мы. Себе-то доброе оставили, понятно тоже. Винить за это их не станешь. Для нас же выбор не велик. Что предложили, то и взяли. Совсем уж уксус-то, и мы бы отказались. Что-то купили бы и в магазине, тот же портвейн, ту же ли водку. Или на крайний случай «сухонького».
Они нам – напиток, мы им – деньги. По-честному.
Три рубля – ведро. По-божески.
Могли б и даром нам отдать. В знак благодарности. Мы тут, не покладая рук, в поте лица, в земле и в древнем навозе, который по сохранившимся качествам, запаху и консистенции и свежему фору даст, копошимся, благородное происхождение их выясняем и чем их боевые предки в стародавние времена на этой территории занимались, какие великие подвиги совершали, выведываем. Потом всю их славную родословную на белом блюдечке с синей каёмочкой преподнесём им. Гордитесь, знайте. Но им, как кажется, до этого нет дела. Одно только и спрашивают: «Честно скажите, золота нарыли много?!» Честно и отвечаем: «Чего-чего, а золота здесь нет». С этим не к нам, мол, а к геологам. И на Чукотку, Колыму. Туда вот им, дескать, не надо, им и тут, мол, хорошо. Хоть и нашли бы мы вдруг золото, в виде монет, изделий ли, но сообщать нельзя об этом. Категорически. Такая установка. Вечером скажешь, утром на раскоп придёшь и не узнаешь – всё будет перерыто, перепахано, загублен будет уникальный памятник. Золота и иных драгоценностей нет, и интересу у местного населения никакого. Живут не прошлым и не будущим, а настоящим.
А настоящее-то – оно есть? А если нет его, то можно ли им жить?
По первой.
Вместе с ребятами – за сделку. Вроде как принято. Кем и когда принято, не знаю. Они, ребята, так сказали. По староладожской традиции, наверное. Чтобы мы не подумали, что собираются они, как ненавистных иноземцев, нас отравить. Как собирались греки отравить Олега, князя Новгородского и великого князя Киевского, убийцу Кира и Аскольда.
Свои законы, что поделаешь. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом…
Мы и не лезем.
По второй.
За вечный нерушимый мир и нерасторжимую никакими стихиями и политическими потрясениями дружбу между сельскими и нами, «кладоискателями-гробокопателями», как между викингами и славянами.
Нет, правда, веры этим «викингам».
Бывали в Старой Ладоге, когда-то Альдейгьюборге, старожилов её видели?.. Ну шведы шведами. В отличие от нас с Серёгой, русопятых, то есть «мордвы». Обмануть и обидеть нас, простодырых, каждый варяг может.
Наведывались позавчера, в обеденный перерыв, на почту, проверить, нет ли писем «до востребования». Рядом баня и пивной ларёк напротив. Возле ларька, отстояв короткую очередь, парень лет двадцати пяти, не тянет на «мужчину», белобрысый, не в будничное одетый, в «выходное», с пол-литровой кружкой пива в руке, ещё не приложился – предвкушает. Белобрысая же, натуральная скандинавка, девушка, на «женщину» не тянет, жена, похоже, этого парня, с такой же, 0,5, кружкой. Сдув ритуально пену и глядя друг дружке понимающе в глаза, не замечая окружающего, отпивают. Момент свершился. В лёгкой коляске, что стоит между ними, стянут по поясу страховочным ремнём белоголовый ребёнок, по виду мальчик лет трёх или четырёх. Сидит смирно, даже ногами не сучит. И у него в руках маленькая кружка пива, 0,33. Крепко вцепился и не кренит – не проливается из кружки, – не первый раз помогает родителям, такой вывод напрашивается. На маму с папой смотрит преданно и неотрывно, к пиву не тянется губами. Возможно, пробовал, по вкусу не пришлось. Семья из бани вышла только что – по красным, распаренным лицам и по мокрому берёзовому венику, торчащему из сумки, вывод можно сделать.
Был бы у нас с собой, рассуждаем, фотоаппарат, запечатлели бы. И снимок бы послали в Швецию. Признали бы там, нет, в этих молодых ладожанах своих? А на лицо вот вылитые свеи… хоть и обрусели.
Есть шведская музыкальная группа ABBA. Два парня и две девушки. Так вот этот староладожский муж, если это муж, очень походит на одного из парней этой группы, клавишника, а жена, если это жена, – на одну из девушек, блондинку.
Гены – века им нипочём, веник берёзовый им не помеха.
– А для чего им маленькая кружка пива? Одна к тому же, – я, не догадываясь, озадачился. – Ведь не ребёнку?
Серёга тут же разъяснил:
– Значит, чекушка есть у них в запасе. Водку пивом разбодяжат.
Так и случилось.
После, подумав, я сказал:
– Снимок не стали бы мы шведам посылать.
– Почему? – спросил Серёга.
– Опять решат, – ответил я, – как Карл Двенадцатый, что это их законные владения, полезут.
– Пусть только сунутся, – сказал Серёга.
Я согласился:
– Огребут.
– Не сунутся, конечно, – сказал Серёга, судя по интонации, как будто огорчённо.
– Почему? – спросил я.
– Сытые. На полный-то желудок… В пивную только и на стадион.
Я:
– Ну, не знаю. А если скопом, всей Европой, как они обычно делают…
Серёга:
– Не полезут. Хоть и скопом. Получали по зубам и рёбрам – забоятся.
Аналитик. Самородок. Успокоила меня его уверенность.
«Викинги», обеспечившие нас вином:
Пустые вёдра тут, на этом месте – перелить пока их не во что, – когда опорожнятся, мол, оставите.
Мы:
Без базара.
Ну, не забудьте.
Не забудем.
– Торговать лучше, чем воевать, – сказал Серёга. – Да?
Я согласился.
Но это после.
И по третьей.
После, когда ребята ладожские нас покинули, ещё по кружке одолели мы с Серёгой. Не ради пробы – чтобы распробовать, хватило по одной, – даже не ради удовольствия, нам с этим некуда спешить, всё впереди, ещё успеем. Традиция заставила: так я его, Серёгу, без лишних процедур и церемоний посвятил, имею право, в археологи. Как он был рад! О, как был рад. Даже попрыгал. Тоже, подумал я, азартный юноша. А не рыбачит ли, спросил. Ответил, нет, мол, в речке у них только лягушки да головастики, дескать, водятся. Ну, пусть исполнится его мечта – стать настоящим археологом, и в скором будущем, затягивать не стоит.
Чуть пригубили и за это, на этот раз уж чуть на донышке – мечты трусливые, не отпугнуть бы.
«Русский подучишь?.. Письменный».
«Конечно».
«Калинин даст тебе рекомендацию».
«Отлично».
«Ну, вот, считай, что поступил».
«А на какое, на вечернее?»
«Зачем вечернее?.. Дневное».
«Вот это здорово… Ох, ёлки-палки!.. Я же про армию забыл».
«Если мечта, Серёга, не умрёт, и после армии поступишь. Я вот, к примеру… Скажу тебе, как говорил нам наш мичман: “Сдохни, но сделай”».
«И вы делали?»
«А ты как думаешь?»
«Сдохну, но сделаю».
«Ну, вот, и ты уже почти что археолог».
«Я – археолог!»
Мы – как коллеги – обнялись.
Одно ведро, полное, доставили в лагерь. Другое, початое, накрыв его валявшимся рядом куском толя и тщательно замаскировав, припрятали в кустах. И не из алчности, не для себя – на всякий случай. Знаем, как оно бывает, не вчера на свет явились. У всех закончится, а тут и мы: вот вам, нуждающиеся, вот, мол, утешьтесь! О, как ликуют люди – как тувинцы, так и финны, так и те, кто «из Орловых, из дворян», – в таком случае, известно. Даже назавтра. Назавтра – вовсе. Как восхищённо смотрят на тебя. Аборигенами на белого первопроходца.
Светло сразу после этого решения на душе, как будто лампочка зажглась в ней многоваттная, у нас с Серёгой сделалось – от нашего великодушия. И от вина, не исключаю. Ну, или бражки. Совместилось.
Надежда Викторовна и Наташа, одна из чертёжниц, вернулись из Новой Ладоги. Кстати, у этой Наташи глаза как у гурии. Никогда в жизни таких чёрных не видел. Радужку от зрачка не различишь – сузился он или расширился. Как же она на мир глядит такими – в них же одна космическая мгла? Из этой мглы-то? Где там планеты, где там звёзды? Где созвездия? Не ленинградка, не «петербурженка» – с Белой Церкви. Под Киевом вроде. Хохлушка. Но по-русски говорит без акцента, и «гэ» нормальное, не фрикативное. Надежда Викторовна – ненавязчиво, надо ей должное отдать – всё меня хочет поженить, в каждый сезон, выбрав на свой вкус приглянувшуюся ей кандидатуру. Что, дескать, хорошему-то человеку, «перспективному учёному», без пары преданной болтаться, пропадать. И в «поле» как без спутницы-то быть? Муза нужна ему, «домашняя». По сторонам за ней не бегать и всякий раз не подыскивать новую. На этот раз она, уверен я, остановилась на Наташе. Всё и старается свести нас вместе. Как бы случайно. То попросит Александра Евгеньевича на соседний квадрат в раскопе её ко мне посадить, то в магазин пошлёт за чем-нибудь нас вместе. Симпатичная барышня, не стану отрицать. Амбра, мускус и шафран. Не прозрачная, конечно, и драгоценностями не усыпана. Не глупая. А поглядит в упор, как пулями большого калибра грудь тебе прострелит, хоть падай замертво и не вставай. Но мне-то что, я хладнокровен. К тому же девушки…