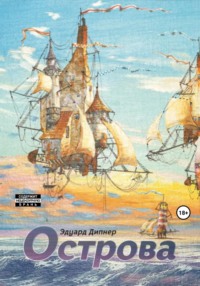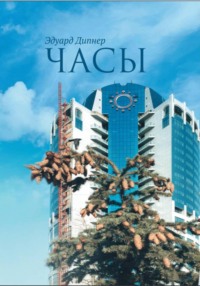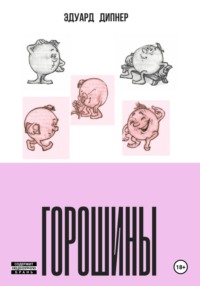Полная версия
Гроздья Рябины

Эдуард Дипнер
Гроздья Рябины
Гроздья рябины
Эту историю из своей жизни рассказал мне мой старый приятель Герман Вернер. Несмотря на свои нерусские имя и фамилию, он абсолютно русский человек. Так бывает, и это не парадокс. " У меня только имя, фамилия и внешность нерусские, – шутит он, – всё остальное – русское". Герман – инженер, всю сознательную жизнь провозился с железом, но остался романтиком, немного старомодным и любителем пофилософствовать. Мы сидели, говорили о разном, бутылка вина на нашем столе пустела, и нас потянуло на лирику. Говорили о высоких чувствах, о любви…
– Любовь возвышает человека, – глубокомысленно изрёк я.
– Ты не прав, – возразил Герман, – вы, писатели, привыкли говорить литературными штампами. "Любовь с первого взгляда и до гроба…" Вы путаете любовь и влюблённость. Влюбленность приходит внезапно и часто уходит, оставляя пустоту и разочарование, а любовь – это дом, который строят двое, чтобы защитить свои чувства от непогоды, от бурь, от людской зависти. В этом доме они будут жить долго, только нужно, чтобы там было все уютно и чисто. Нельзя там сорить и гадить. А влюбленность… Мне искренне жаль людей, которые не испытывали сильных и ярких чувств. Но ведь иной раз такие чувства разрушительны, и мне жаль тех, кто не в состоянии справиться с такими чувствами, сохранить свое достоинство…
1
Герман сегодня опять чуть было не опоздал. Его, двадцатичетырехлетнего, недавно назначили главным механиком завода, и положение обязывало приехать на завод пораньше, обежать цеха, узнать, где и что сломалось за ночь, чтобы к началу утреннего директорского обхода солидно доложить о принятых мерах, о том, что главный механик держит руку на пульсе и вообще вкурседела. А тут бежишь, как мальчишка, поглядывая на часы, и неприятное предчувствие подкатывает снизу живота, что в литейном ночью опять сломалась дробеметная машина, и начальник литейного уже пожаловался Копёнкину: задание по очистке отливок не выполнено, потому что главного механика не нашли ночью, и этот гад Копёнкин сразу же на обходе доложит директору об этом, так чтобы все поняли, что от этого пацана не приходится ждать ничего путнего, вот прежний механик Валейко такого бы не допустил, и Герман будет топтаться на месте и путанно оправдываться, Василий Александрович Усатый, бросив презрительно-беглый взгляд на него, уставится на главного инженера: ну, что будем делать, Павел Осипович? А Диканов обязательно отпустит какую-нибудь гадость, вроде того, что меньше надо по бабам шастать по ночам. Этот проклятый дробемет-дуромет-гробомет в литейном постоянно портил кровь Герману. Механик цеха Йоська был человеком крайне необразованным. Весь в серой литейной пыли, Йоська вместе со своим единственным слесарем самолично собирал роторы этого гробомета, как бог на душу положит, чугунные лопатки ротора дробь съедала за какие-нибудь три часа, и с этим ничего нельзя было поделать.
Директор завода Усатый приезжал на завод три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Остальные дни у него были рай, гор и обкомовские. Ровно в девять к центральной проходной подкатывала директорская “Волга”, и из ее недр величественно появлялся Сам. Начинался день с обхода цехов. Впереди шествовали Усатый, главный инженер Лурье и замдиректора Диканов, мелким бесом суетился начальник производства Копёнкин, а в свите плелись начальники цехов и главные специалисты. Директор был человеком старой закваски, терпеть не мог возражений, и его побаивалась вся заводская шушера.
Сегодня была среда, День Директора, а Герман опаздывал. Жил он в родительском доме, на окраине Караганды, без телефона. Чтобы добраться до завода, нужно было вставать чуть свет. Первой вставала мама, кормила Геру завтраком, пока спала жена. Спала и Лерка – теплый, забавный одуванчик, рыжий, как папа. Лерке исполнилось два года, тонкие волосенки ореолом обрамляли ее головку, она неумолчно лепетала что-то на своем языке, который понимала только бабушка. От дома нужно было пройти-пробежать до главной улицы, там, работая локтями и коленями, втиснуться в переполненный душный автобус, а потом от центральной площади идти-бежать до проходной. Герман не любил опозданий, своих и чужих, и тревожное ощущение беспомощности от непредсказуемости городского транспорта всякий раз повергало его в тихую панику.
Как назло, в первый подошедший автобус втиснуться не удалось, и подленькое чувство вины одолевало Германа. Главный утренний поток через проходную уже схлынул, у Германа оставалось в запасе минут пять-семь. Впереди него по дороге шли три девицы. Взявшись под руки, они оживленно о чем-то болтали. Та, что посредине, была полнее своих спутниц, и с совершенно возмутительной походкой. Этой походке было нечто вальяжно-снисходительное, она не шла, а плыла, точно дарила этой земле касания своих ступней. Откуда взялись эти девицы? Раньше он их не встречал, к тому же, они заняли всю дорогу, и пришлось обгонять их по обочине возле литейного, а там уже стоял Йоська с изъеденной дробью лопаткой дробемета в руках. Йоське было за сорок, вызывающе, демонстративно безграмотный, он повидал на своем веку немало главных механиков и всем им знал цену. Его епархией и обиталищем был литейный цех с извечной пылью и грохотом, с постоянно ломающимися галтовочными барабанами и формовочными машинами. Незлобивый и безотказный, он презирал чертежи и измерительные инструменты, действовал по какому-то собственному наитию и мог сутками не вылезать из цеха. Герман безуспешно пытался заставить его принять цивилизованный вид.
– Иосиф, ну, что ты ходишь, как неряха и оборванец! Ты же механик цеха. Ну, посмотри хотя бы на Машошина, он всегда чист и при галстуке. И когда же ты научишься пользоваться штангенциркулем?
Конфузливо потупясь, Йоська снисходительно отвечал:
– Да, Герман Иосифович, я уж буду мерять палкой, как привык, а эти чертежи и инструкции – они не для меня.
Литейный цех держался на чумазом и пыльном Йоське, а главный механик Герман был тем мальчиком для битья, на котором отыгрывался начальник цеха Лихоперский.
Рабочий день начался. Следом за дробеметом оказался сломанным токарно-карусельный станок во втором механическом цехе, кран-балка в кузнечном. Монтажная бригада должна была сегодня затащить и смонтировать новый пресс в заготовительном цехе, но бригадир Кисель умудрился с утра напиться, так что лыка не вязал, пришлось выпроваживать его домой; выслушивать от отдела кадров очередную нотацию: “когда же Вы, наконец, примете меры к Вашему Киселю?!”, как будто Герман его таким воспитал, сроду этот Кисель пил; посылать Гарика Краузе, из отдела, руководить монтажными работами; поругаться вдрызг с начальником механического цеха, который вдруг отказался останавливать станок на плановый ремонт. Только на прошлой неделе подписал, паразит, график ремонта, а сегодня – ладонь к горлу – “у меня план горит, не дам останавливать!” “У меня тоже план”, – горячится Герман. В конце концов договариваются, что остановят станок в понедельник. Беспрерывно звонит телефон, в разгоне все работники отдела, кроме копировщицы Лиды, и Герман, осатанев от этой кутерьмы, сбегает в ремонтно-механический цех. У начальника цеха Валентина Горынина проблемы: сегодня закрыли наряды рабочим-сдельщикам, слесари по капитальному ремонту заработали меньше, чем рассчитывали, не приступают к работе, и нужно что-то решать, разбираться с нарядами, что-то обещать, уговаривать и угрожать. Можно и перевести дух в кабинете Валентина, пока гончие собаки – диспетчеры этого гада Копёнкина не вычислили, где находится главный механик и не вытащили его на очередное совещание.
Кроме Лиды в отделе остается еще невозмутимый Петр Алексеевич Астафьев – начальник бюро планово-предупредительных ремонтов, сокращенно ППР. Астафьеву скоро шестьдесят, он кашляет, курит дешевые вонючие сигаретки в наборном плексигласовом мундштуке и любит поговорить за жизнь. Он немало повидал на своем веку, не любит рассказывать о своем прошлом и учит Германа плевать на все. Ведь все рано или поздно образуется.
Действительно, к концу дня, после шести как-то все образовалось, все разошлись по домам, и можно спокойно посидеть за столом, разбирая накопившиеся бумаги, перемолвиться с Зямой – главным энергетиком. У них общий кабинет – два стола рядом, перед дверью в отдел. Главный энергетик, по положению, подчинен Герману, но у каждого из них множество дел, и только сойдясь вечером, можно обменяться информацией и о чем-то договориться. Главного энергетика Зиновия Исааковича Лифшица все на заводе за глаза и в глаза зовут Зямой, он одних лет с Германом, большой умница и трудяга. Совсем недавно он был начальником электролаборатории (начальник – это на бумаге, на самом деле, там всего одна единица в штатном расписании). Но ушел в комбинат Карагандауголь прежний энергетик Агейков, и Зяма стал главным (тоже в единственном числе). Он еще не привык к своему положению и очень старается, разрываясь между теперешней работой и лабораторией, где никого нет. “Зяму” он воспринимает совершенно спокойно, а то, что все заводские шишки падают на обоих, сближает их. Герман уверен, что Зяма не подведет и не заложит его.
Ну, вот и все, можно ехать домой. Пока Герман доберется, стемнеет, жена давно пришла с работы, лежит на кровати, отдыхает, а мама уже уложила Леру спать.
– Зиновий Исаакович, я поехал, а ты идешь?
– Я немного задержусь, нужно закончить графики проверок по инспекции, идите, я закрою кабинет и отдел, – слегка грассируя, говорит Зяма, – кстати, мне сегодня отдел кадров прислал начальника лаборатории, молодой специалист, теперь хоть там смогу навести порядок. Завтра представлю Вам.
Главным механиком Герман стал по случаю. Это была трагедия, потрясшая завод. Прошлой осенью в выходной день трое заядлых рыбаков – Валейко, Злобин и Годунов отправились на Темиртауское водохранилище. Поздно вечером на лодке они решили переправиться на остров, там переночевать и с утра начать ловлю, но в темноте налетел шквал, перевернувший лодку, и все трое оказались в холодной осенней воде, далеко от берега, держались за лодку и молили бога о спасении. К утру выжили двое – Злобин и Годунов, а главный механик Валейко до утра не дожил, у него было сердце. Герман тогда работал начальником конструкторского бюро механизации и автоматизации – подразделения совершенно бесполезного, но необходимого для отчета наверх, и очень страдал, что занимается этой показушной работой на полку. Поэтому согласился на предложение сразу, не размышляя, благо, что до этого поработал в отделе главного механика и работу знал. При этом он не обольщался насчет себя, попросту некого было назначить. Те, кому это предлагалось, шарахались от расстрельной должности. Наконец, Усатый махнул рукой. “А, назначим этого пацана ВРИО, а там посмотрим. Так ВРИО, Временно Исполняющим Обязанности главного механика Герман проработал почти три года.
Следующий день был не таким суматошным, и когда Герман пришел в отдел после пробежки по цехам, перед Зямой сидела она. Та самая, что тогда была посредине. Та, с возмутительной походкой. Она была красива южнорусской знойной красотой. Под черным бархатом бровей – эмалевые, с затаенным блеском, глаза, едва заметный пушок над чувственными губами. Темно-каштановые волосы убраны в искусную прическу, чуть заметный макияж, безупречное зеленое платьице. Чуть полная фигура, но эта полнота совсем не портила ее. “Невесть откуда прилетевшая жар-птица в нашем с Зямой казенном кабинете, – вдруг подумал Герман. – Диана-охотница”.
Она была совсем не в его вкусе. Герман всегда сторонился таких красавиц. В ее вызывающей, знающей себе цену красоте, в грудном, с южнорусскими обертонами, голосе, остром, мельком брошенном взгляде он почувствовал смутную опасность. Это была женщина из другого, не его мира.
– Знакомьтесь, Герман Иосифович, это Диана Алексеевна.
Дина окончила горный институт по специальности “электротехника” в Южном Городе и по распределению, вместе с двумя другими выпускницами института – Тамарой и Светланой, была направлена на завод имени Пархоменко в Караганду – отработать, отбыть положенные три года в этом неухоженном и грязном, чужом городе.
Обдуваемый со всех сторон ветрами, стоит посреди казахстанских степей город – не город – поселок – не поселок – Караганда. Много лет тому назад казахский мальчишка-пастух Алпак нашел здесь странный камень, черный, отсвечивающий на солнце острыми иглами. Перед юртой – овечьи шкуры, натянутые на деревянные жерди, – паслись верблюды, и степной ветер выдувал из костерка перед входом кизячный дым. Наигравшись камнем, мальчишка бросил его в костер, а камень вдруг стал наливаться малиновым светом, а потом брызнул ярким соломенным пламенем. Это был антрацит – редкий по качеству каменный уголь. Первую шахту вырыл здесь петропавловский купец Ушаков. Неторопливые верблюды ходили по кругу, вращая деревянный ворот, доставая из-под земли бадьи с черным золотом, эти же верблюды, нагруженные вьюками, торжественным караваном несли уголь на Спасский медеплавильный завод. В начале двадцатого века сюда пришли деловитые англичане, заменили верблюдов паровыми машинами. Но пришло время первых советских пятилеток, и англичане бежали с тем, что могли унести, затопив угольные шахты. Новые хозяева страны принесли сюда особую советскую архитектуру – частоколы лагерных оград, сторожевые вышки и дощатые бараки. Карлаг на многие годы вошел в могучий архипелаг строителей социализма. Быстро рос Карлаг, перерабатывая человеческий материал в такой нужный для индустриализации страны уголек. Потом широким половодьем прибывали сюда раскулаченные, изгнанные с Украины, Кубани, Дона. Это был крепкий, рукастый народ. Они рыли в каменистой степной почве землянки, кайлами крушили под землей пласты, на вагонетках выкатывали антрацит на-гора и … оставались навечно в своих забоях, придавленные, заваленные обрушившейся кровлей в душной темноте, безымянные и забытые. Волны сталинских чисток опустошали страну и щедро приносили в степной Вавилон все новые народы – корейцев с Дальнего востока, латышей и литовцев с Прибалтики, немцев с Поволжья и Москвы, чеченцев и ингушей с Кавказа, татар из Крыма. А после Войны здесь работали тысячи пленных немцев и японцев.
В шахтерском Старом Городе нет домов выше трех этажей. Под городом – шахтные выработки, и когда вырабатывается угольный пласт, снимаются крепи, идет посадка, проседает почва, кренятся дома, и их подпирают сбоку упорами из старых шахтных стоек. Египетскими пирамидами высятся горы шахтных терриконов. Медленно ползет по террикону вверх шахтная вагонетка, вот она достигла вершины, опрокидывается, и летят по склонам глыбы породы. Среди породы попадаются куски угля, и ползают по склонам горы люди с мешками, выбирают эти куски, привычно увертываются от камнепада. Неустанно, днем и ночью ползут вверх вагонетки, растет и пухнет черное чудовище – рукотворный вулкан, изрыгается наружу земное нутро, приближается к шахтерскому самострою, обступившему шахту, уже залетают во двор черные вулканические бомбы, и людям приходится уходить, бросив самодельное жилище. Как и положено вулкану, террикон дымится по склонам струйками сизого дыма, а ночью дрожащее марево тлеющего угля взмыто высоко в небо, и яркие степные звезды припали к его гигантскому конусу. Шахтерские поселения – Шанхай-город, Копай-город – окружают шахты. Глинобитные мазанки – глинобитный пол, три ступеньки вниз – лепятся друг к другу; вьются, изгибаются узкие улочки: Первая Загородная, Вторая Загородная… Десятая Загородная. Вода – в колонках, по одной на улицу, в очередь; помои выливаются тут же, засыпаются золой из печек, и все глубже опускаются в землю окошки мазанок, вот уже вровень с улицей, вот уже ниже уровня… Старый Город лишен красок, здесь не растут ни трава, ни кустарники. Тонкая угольная пыль висит над ним, проникает через окна, неистребимо осаждается на подоконниках, на только что выпавшем снеге, на вороте свежей рубашки, на душах живущих здесь людей. Он обречен на вымирание, этот старый город, и вокруг него огибающим кольцом уже строится новая Караганда – Майкудук, Михайловка, Федоровка и Новый Город, с широкими проспектами, Вузами и дворцами.
2
Василий Александрович Усатый никогда ничего не забывал и не оставлял без внимания. На ближайшей оперативке он поднял Диканова:
– Слушай, кто у тебя живет в общежитии на заводе?
– Как кто, Василий Александрович? Молодые специалисты, в левой половине – мальчики, в правой – девочки.
– Развели б…ство! – директор никогда не стеснялся в выражениях. – Вот что: когда у тебя вводится общежитие в Майкудуке?
– Я давно бы сдал, осталось только поштукатурить и покрасить, так ведь отделочников не хватает.
– Где начальник стройцеха? Слушай меня: ты сегодня же своих баб-отделочниц переведешь на общежитие, и чтоб через неделю всех девок с завода перевели в Майкудук! А на их место – там две квартиры – поселите главного механика и начальника паросилового цеха. Они оба молодые, вот пусть живут на заводе и обеспечивают. Ты, отдел кадров, проверишь и доложишь мне лично.
Слово директора было абсолютным законом. Это был его завод. В начале войны машзавод имени героя гражданской войны Пархоменко из Ворошиловограда (бывший и нынешний Луганск) вместе с молодым инженером Усатым был эвакуирован в Караганду и размещен в центре шахтерского поселка. Цеха строили второпях, на ходу организуя выпуск военной продукции, потом достраивали, перестраивали. После войны он получил статус Госмашзавода и оснастился новым оборудованием – американским, полученным по ленд-лизу и немецким, полученным по репарации, по отбору из грандиозной свалки в Сибири, куда свозилось все из Германии, после разберемся. Заместитель начальника цеха Усатый дослужился до директора завода. После войны на заводе работали пленные немцы, а в конце сороковых здесь разрабатывал и собирал первый советский угольный комбайн изобретатель Макаров. Теперь завод специализировался на оборудовании для углеобогатительных фабрик, на нем работали три с половиной тысячи человек, имелось развитое инструментальное хозяйство и ведущее в отрасли специальное проектно-конструкторское бюро.
Караганда и этот завод были своими для Германа. Здесь, в двухстах метрах от завода он окончил среднюю школу и сразу же, в шестнадцать лет начал работать разметчиком в механическом цехе. Отсюда он ушел служить в армию и, демобилизовавшись через три года, вернулся на завод. К тому времени у него за плечами было три курса заочного института, и работал он конструктором. На этом заводе работали его старший брат, двоюродная сестра Виля и дядя Артур. Эту семью хорошо знали на заводе, и прощали Герману его молодость.
Герман был рыжим.
Ярко рыжим.
Огненно рыжим.
Рыжих от природы людей мало на земле. Откуда, по какой прихоти природы среди тысяч и тысяч черноволосых, каштанововолосых, русоволосых появляются эти инопланетяне с кострами на голове и нежной, молочно-белой кожей, покрытой россыпью веснушек? Рыжим трудно живется на этой земле. С наивной детской жестокостью изводят их соседские мальчишки: “рыжий, рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой, а дедушку кочергой!” И нужно драться до крови, чтобы отстоять свою непохожесть, свое место на земле… или замкнуться в скорлупе обид и собственной необычности, неправильности. Нежная, тонкая кожа не защищает от солнечных лучей и острых взглядов, покрываясь малиновыми волдырями и ожогами. Рыжие ранимы и обидчивы, ссадины и ранки долго не заживают на их тонкой коже и в их нежной душе. “Рыжий” – это клоун, мишень для насмешек. “Блондин неудачного цвета” – это про рыжих. Рыжий всегда и во всем виноват. “Да что, я рыжий что ли?” – последний аргумент, когда уже нечем оправдываться. И с этим рыжему человеку приходится идти по жизни и всегда быть готовым отстоять свое право быть таким.
Терпеливый мой читатель! Если случайно среди вереницы голов твой взгляд упрется в яркий оранжевый сполох, не пялься на него, он такой же человек, как ты, и он не виноват, что природа так необычно отметила его.
Генетики говорят, что гены темноволосости доминантны, что человечество неуклонно темнеет, и лет через двести среди одинаково темноволосых и смуглых людей уже не встретишь мальчишку с ярким цветком на плечах. А жаль!
В детские годы Герка трудно переживал свою рыжесть и конопатость, а потом притерпелся, привык. “У тебя голова не рыжая, а золотая, и не только снаружи”, – утешала его мама. Голова у него, действительно, была светлой, Герка учился легко, без напряжения, и был всегда круглым отличником и гордостью школы. Ни у кого не было сомнений, что он окончит школу с золотой медалью, единственный из выпуска. Носитель немецкой фамилии, выселенный из Москвы с началом войны, Герка был лишен гражданских прав, приписан к месту проживания, и золотая медаль открывала ему возможность вырваться из этого унизительного положения, возможность поступить без экзаменов в любой, лучший ВУЗ страны.
– Герман должен учиться в МГУ, на математическом факультете, – торжественно провозглашал учитель математики Бабошин. Герка был его любимым учеником.
Все выпускные экзамены Герка сдал на пятерки, а за сочинение “Образ товарища Сталина в советской литературе” на пяти страницах, наблюдатель из районного отдела образования поставил ему пятерку за содержание и тройку за грамматику, итого тройка. Ошибок было три: современик с одним н, и недоставало двух запятых, которыми, по мнению районного чиновника, следовало выделить обособленное определение. Напрасно Евгения Самойловна, учительница русского языка и литературы, в слезах убеждала, что современик это описка, Вы посмотрите, на предыдущей странице он написал правильно, а обособленное определение мальчик выделил двумя тире, это не грамматическая ошибка, это стилистика, русский язык это позволяет, так писал Гоголь! Представитель был непреклонен, Гоголь ему не указ, итоговая четверка по русскому языку в аттестат, и никаких медалей, ни золотой, ни серебряной, вы должны понимать политику нашей партии!
На выпускном вечере должны были объявлять результаты и вручать аттестаты зрелости. По такому случаю Герке купили костюм, первый в его жизни, серый, как старая мышь. Было не до выбора, костюм висел на тощем Герке, как на вешалке, в брюки можно было бы всунуть двоих таких, как он. Мама три дня ушивала, подшивала, подгоняла, но все равно Герка чувствовал себя неловко и скованно в пиджаке с накладными, торчащими вверх плечами, нелепо топорщившимися лацканами. Вот вызовут его на сцену школьного актового зала с торжественным столом, покрытом красной скатертью, как лучшего выпускника, и будут говорить хвалебные слова, а он в этом нелепом, неловком мышином костюме будет краснеть и бормотать что-то невразумительное. “Что я там должен буду сказать?” – мучительно думал он и не находил ответа.
– Итоги выпуска: – сухо сказал директор, – серебряную медаль получила Эльза Ергиева (жидкие аплодисменты), к сожалению, она единственная в выпуске.
Директор сделал паузу, роясь в кипе аттестатов, и пауза повисла в воздухе. Герка почувствовал оглушительную тишину и пустоту внутри себя. На сцену поднимались его одноклассники, директор их поздравлял, вручал, но это было как в немом кино. Выкрик “Вернер!” разрушил тишину, но Герка не пошевелился. Он не мог идти на это позорище, ноги не несли.
– Вернер! – еще раз сказал директор, обведя зал глазами, – ну, ладно, передайте…
Потом была неофициальная часть, родительский комитет постановил устроить вскладчину бал для своих уже взрослых выпускников. Расставили столы, на столах стояли закуски… и красное вино. Председатель родительского комитета Томилина, она заведовала продовольствием в городе, выдержала бой с директором.
– Ну, ладно, – сказал Денис Евстигнеевич, школьная кличка “Денис”, – на Вашу ответственность, только чтобы никаких инцидентов!
Почему-то никто не подошел к Герману, не посочувствовал, не похлопал по плечу. Только несколько косых взглядов. “Ну да, конечно, – понимал он, – они все радуются, торжествуют, а я…. А может быть, они все заранее знали, только скрывали от меня? Ну и пусть! – пришла ему в голову утешительная мысль. – Ну и пусть! – упрямо пульсировало под черепной коробкой.
Пустоту внутри нужно было чем-то заполнить. Он налил полный стакан вина, выпил. Стало немного легче. Играла музыка, Володя Кострицын кружился в вальсе с Евгенией Самойловной. После второго стакана стало хуже. Пустота внутри оставалась, но его стало мутить. Он потихоньку выбрался из-за стола, шел по полутемному коридору, вот дверь в какой-то пустой класс, там было тихо и спокойно, он сел за парту, и парта под ним поплыла, покачиваясь в темноте.
– Подвинься! – кто-то тяжело опустился рядом с ним, положил тяжелую руку на плечо. Это был “Денис” – обожаемый им учитель физики, директор и тайный пьяница.