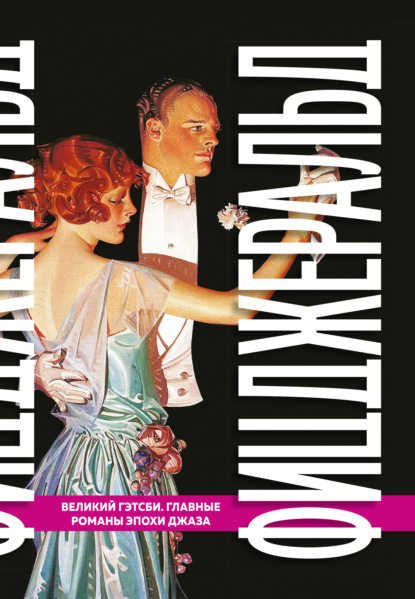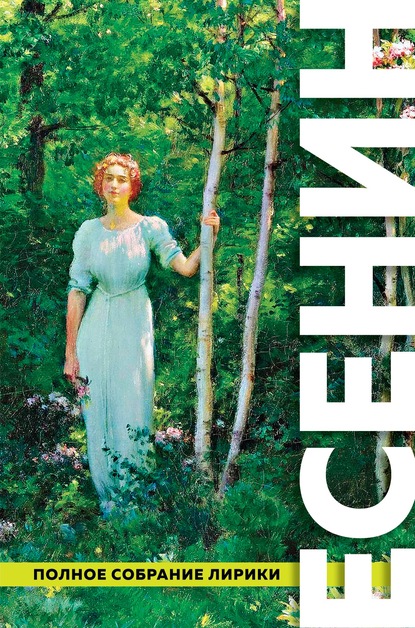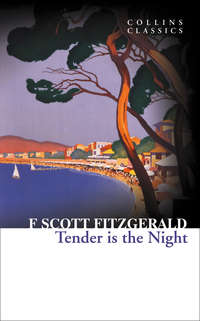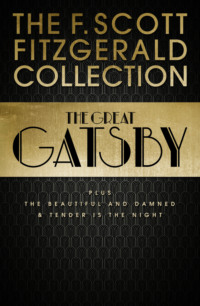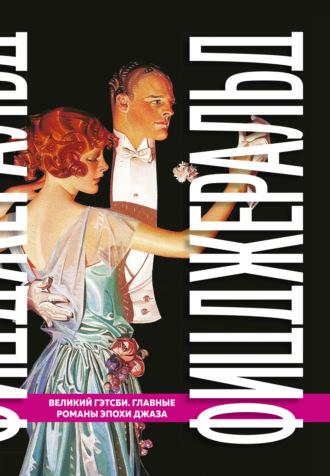
Полная версия
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
Джордан, смотревшая на него с веселой настороженностью, ничего не ответила.
– Меня привезла женщина по фамилии Рузвельт, – продолжал он. – Миссис Клод Рузвельт. Знаете такую? Я с ней прошлой ночью познакомился, не помню где. Я уж неделя как пью, вот и подумал: может, протрезвею, если в библиотеке посижу.
– И помогло?
– Да вроде помогло немного. Точно пока не скажешь. Я тут всего час провел. Насчет книг я вам говорил? Они настоящие. У них…
– Говорили.
Мы обменялись с ним чинными рукопожатиями и покинули дом.
Теперь на расстеленном в парке брезенте танцевали – старики толкали спинами вперед юных дев, описывая с ними бесконечные тяжеловесные круги; пары более умелые извилисто прижимались друг к дружке на новомодный манер и держаться старались в уголках потемнее; а многие девушки танцевали сами с собой или просто старались избавить оркестр от необходимости бренчать на банджо и бить в барабаны. К полуночи веселье стало еще более бурным. Прославленный тенор спел что-то по-итальянски, печально известная контральто исполнила джаз, а между номерами многие из гостей откалывали по всему парку «штучки-дрючки», и взрывы глупого счастливого смеха уносились в летнее небо. Пара сценических «близнецов» – ими оказались те самые девушки в желтом, – показала, должным образом переодевшись, сценку из жизни малых детишек, шампанское подавали уже в бокалах такой величины, что в них можно было ополоснуть все пять пальцев, а то и десять. Взошла луна, по Проливу поплыл треугольник серебристых чешуек, слегка подрагивавших под густую жестяную капель банджо.
Я все еще пребывал в обществе Джордан Бейкер. Мы сидели за столом с мужчиной моих примерно лет и вульгарной девчушкой, по малейшему поводу разражавшейся неудержимым смехом. Мне было хорошо. Я успел выпить две полоскательницы шампанского, и все, что окружало меня, изменилось, обретя значительность, натуральность и глубокий смысл.
Оркестр смолк, мужчина повернулся ко мне, улыбнулся.
– Ваше лицо мне знакомо, – учтиво сообщил он. – Вы не служили во время войны в Третьей дивизии?
– Ну да. В девятом пулеметном батальоне.
– А я в седьмом пехотном – до июня восемнадцатого. То-то мне все казалось, что я вас где-то видел.
Мы немного потолковали о сырых и серых французских деревушках. По-видимому, он жил где-то поблизости, поскольку сказал мне, что совсем недавно купил гидроплан и собирается опробовать его нынче утром.
– Не хотите составить мне компанию, старина? Пролетим вдоль берега над Проливом.
– В какое время?
– В любое – какое вам больше нравится.
Я совсем уж было собрался спросить его имя, но тут Джордан, оглянувшись на нас, улыбнулась мне.
– Ну что, вам повеселее стало?
– Намного, – и я снова обратился к моему новому знакомцу. – Я не привычен к таким приемам. Даже хозяина не видел. А живу вон там… – и я махнул рукой в направлении невидимой зеленой изгороди, – и этот господин, Гэтсби, прислал ко мне шофера с приглашением.
Несколько мгновений он смотрел на меня, словно чего-то не понимая, а потом вдруг сказал:
– Это я – Гэтсби.
– Что?! – вскричал я. – О, прошу прощения.
– Я думал, вы знаете, старина. Боюсь, хозяин я не из лучших.
Он улыбнулся мне с пониманием – с чем-то намного большим понимания. То была одна из тех редких, бесконечно утешительных улыбок, какие нам удается увидеть за всю нашу жизнь всего лишь четыре-пять раз. На миг она обращалась – или казалась обращенной – ко всему внешнему миру, а затем отдавалась тебе с неотразимым, явно предвзятым благоволением. Она словно понимала тебя ровно настолько, насколько тебе хотелось быть понятым, верила в тебя так, как ты сам хотел в себя верить, убеждала тебя, что ты производишь именно то впечатление, какое надеялся, в самых сладких твоих мечтаниях, произвести. И как только я понял все это, она истаяла – передо мной сидел хорошо одетый, но явно неотесанный человек тридцати одного – тридцати двух лет, почти нелепый в его усилиях церемонно выстраивать речь: прежде даже, чем Гэтсби представился, у меня сложилось отчетливое впечатление, что слова он подбирает с дотошной осмотрительностью.
Почти сразу после моего знакомства с Гэтсби к нему спеша приблизился дворецкий, сказавший, что звонят из Чикаго. Гэтсби извинился, отвесив каждому из нас по небольшому поклону.
– Если вам чего-то захочется, старина, только скажите, – настоятельно попросил он меня. – Прошу прощения. Я присоединюсь к вам попозже.
Едва он отошел, я повернулся к Джордан – мне не терпелось поведать ей о моем изумлении. Я-то ожидал, что мистер Гэтсби окажется краснолицым, корпулентным господином средних лет.
– Кто он? – спросил я. – Вам о нем что-нибудь известно?
– Просто человек по фамилии Гэтсби.
– Я хочу сказать, откуда он? Чем занимается?
– Ну вот, теперь и вы туда же, – с вымученной улыбкой ответила Джордан. – Ладно… он как-то сказал мне, что учился в Оксфорде.
За фигурой Гэтсби начал вырисовываться смутный фон, впрочем, следующие слова Джордан размыли его еще пуще.
– Да только я ему не поверила.
– Почему?
– Не знаю, – резко ответила она. – Просто не думаю, чтобы он там побывал.
Что-то в ее тоне напомнило мне «я думаю, он человека убил» другой девушки и заново возбудило мое любопытство. Я без дальнейших вопросов принял бы сведения о том, что Гэтсби явился сюда из болот Луизианы или из нижней части нью-йоркского Ист-Сайда. Это было бы понятно и постижимо. Но не бывает же так – во всяком случае, мой опыт провинциала уверял: не бывает, – чтобы молодой человек преспокойно выплыл неведомо откуда и купил дворец на берегу пролива Лонг-Айленд.
– Как бы там ни было, – сказала Джордан, меняя (из воспитанной неприязни к однозначности) тему, – он устраивает большие приемы. А я люблю большие приемы. Они так интимны. На малых совершенно невозможно уединиться.
Послышался удар большого барабана, и эхолалию парка перекрыл голос дирижера оркестра.
– Леди и джентльмены! – прокричал дирижер. – По просьбе мистера Гэтсби мы исполним сейчас последнее сочинение мистера Владимира Бренчалофф, которое в прошлом мае прозвучало в Карнеги-холле и наделало много шума. Тем из вас, кто читает газеты, известно, какой оно стало сенсацией.
На лице его расцвела жизнерадостно-снисходительная улыбка, и он повторил: «Той еще сенсацией», вызвав всеобщий смех.
– Сочинение это известно, – громогласно заключил дирижер, – под названием «Джазовая история мира Владимира Бренчалофф».
Природа музыки, которую сочинил мистер Бренчалофф, от меня ускользнула, поскольку при первых же ее тактах на глаза мне попался Гэтсби, который одиноко стоял вверху мраморной лестницы, переводя одобрительный взгляд с одной компании гостей на другую. Загорелая кожа приятно обтягивала его лицо, короткие волосы выглядели так, точно их подстригали каждый день. Ничего зловещего мне в нем различить не удалось. Я погадал, не помогает ли ему воздержание по части спиртного отстраняться от гостей, ибо мне показалось, что с разгулом панибратского веселья он становился все более церемонным. Под конец «Джазовой истории мира» девушки принялись на щенячий, компанейский манер укладывать головы на плечи мужчин, другие же навзничь падали им на руки в шуточные обмороки – особенно в компаниях, где можно было не сомневаться, что кто-нибудь их непременно подхватит, – однако на Гэтсби не падал никто, и ничьи по-французски коротко остриженные локоны не ложились ему на плечо, и никакие певческие квартеты с ним во главе не составлялись.
– Прошу прощения.
Рядом с нами вдруг объявился дворецкий Гэтсби.
– Мисс Бейкер? – осведомился он. – Прошу прощения, но мистер Гэтсби желал бы поговорить с вами наедине.
– Со мной? – удивившись, воскликнула она.
– Да, мадам.
Джордан медленно встала, изумленно приподнимая брови, и пошла за дворецким к дому. Я отметил, что вечернее платье, да и все остальные, она носит как спортивный костюм – в движениях ее присутствовала веселая живость, такая, точно ходить она училась ясными, свежими утрами на площадках для гольфа.
Я остался один, времени было без малого два. Довольно давно уже из длинной залы, многочисленные окна которой выходили на террасу, неслись невнятные, но интригующие звуки. Увильнув от студента Джордан, пожелавшего, чтобы я присоединился к разговору о родовспоможении, который он завел с двумя хористками, я вошел в дом.
Зала оказалась наполненной людьми. Одна из девушек в желтом играла на рояле, пообок от нее стояла высокая, рыжеволосая молодая леди из прославленного хора и пела. Шампанского она успела выпить немало и потому, исполняя песенку, решила – совершенно безосновательно, – что жизнь очень, очень грустна, и теперь не только пела, но и плакала. Всякая возникавшая в пении пауза отдавалась ею прерывистым задышливым рыданиям, после которых она опять принималась петь дрожащим сопрано. Слезы текли по ее щекам – не беспрепятственно, впрочем: первым делом они встречались, украшая их словно стеклярусом, с густо накрашенными ресницами, и лишь потом, насытившись тушью, проделывали остаток пути неторопливыми черными ручейками. Кто-то громко пошутил, сказав, что поет она по нотам, начертанным на ее лице, – услышав это, певица всплеснула руками, осела в кресло и погрузилась в крепкий хмельной сон.
– Она поругалась с мужчиной, который назвался ее мужем, – пояснила стоявшая рядом со мной девушка.
Я огляделся. Большая часть еще не уехавших женщин как раз и ругалась с мужчинами, называвшими себя их мужьями. Вражда разделила даже тех, с кем приехала Джордан, квартет с Ист-Эгг. Один из мужчин вел на редкость оживленный разговор с молодой актрисой, а жена его, попытавшись поначалу с достоинством и безразличием посмеяться над этим и не преуспев, сдалась и перешла к фланговым атакам – через равные промежутки времени она, походившая теперь на негодующий бриллиант, вдруг подскакивала к мужу и шипела ему на ухо: «Ты же обещал!»
Нежелание отправляться домой охватило не только ветреных мужчин. В зале присутствовала парочка прискорбно трезвых мужей и их до крайности прогневанных жен. Последние жаловались одна другой слишком, пожалуй, громкими голосами.
– Как увидит, что мне весело, так сразу домой хочет ехать.
– В жизни такого эгоиста не встречала.
– И всегда мы уходим первыми.
– Мы тоже.
– Ну, сегодня-то мы почти последние, – робко произнес один из мужчин. – Оркестр уж полчаса как уехал.
И несмотря на согласное заявление жен о том, что в подобное зловредство и поверить невозможно, диспут завершился короткой борцовской схваткой, после которой обеих дам унесли, хоть они и лягались, в темноту.
Пока я дожидался моей шляпы, дверь библиотеки отворилась, и из нее вышли Джордан Бейкер и Гэтсби. Он произносил какие-то обращенные к ней прощальные слова, но пылкость их резко затянулась узлом чопорности, едва лишь несколько гостей подошли к нему, чтобы попрощаться.
Спутники Джордан нетерпеливо окликали ее с террасы, однако она на миг задержалась, чтобы пожать мне руку.
– Я только что услышала нечто совершенно фантастическое, – прошептала она. – Сколько времени мы там пробыли?
– Ну… около часа.
– Это было… просто поразительно, – повторила Джордан, размышляя о чем-то. – Я дала слово никому не рассказывать, а вот теперь морочу вам голову.
И она изящно зевнула мне в лицо.
– Прошу вас, приезжайте повидать меня… В телефонной книге… Миссис Сигурни Говард… Моя тетя…
Произнося это, Джордан торопливо удалялась, беспечно помахивая поднятой над головой загорелой рукой, – и наконец соединилась с теми, кто ждал ее у дверей.
Немного пристыженный тем, что при первом моем визите в этот дом я задержался до столь позднего часа, я подошел к последним обступившим Гэтсби гостям. Мне хотелось объяснить, что в начале вечера я разыскивал его, извиниться за то, что не узнал его в парке.
– И говорить не о чем, – нетерпеливо прервал меня Гэтсби. – Забудьте об этом, старина.
В уже знакомом мне выражении его лица фамильярности было не больше, чем в успокоительно скользнувшей по моему плечу ладони.
– Не забудьте, однако, что завтра утром, в девять, мы собираемся полетать на гидроплане.
За плечом его вновь обозначился дворецкий:
– Вас к телефону, сэр. Филадельфия.
– Хорошо, минуту. Скажите им, что я сейчас подойду… спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи. – Он улыбнулся – и мне вдруг показалось, что мой слишком поздний уход приятен ему, он как будто именно этого и желал. – Спокойной ночи, старина… Спокойной ночи.
Впрочем, сойдя по ступеням, я увидел, что вечер еще не закончился. Футах в пятидесяти от ворот поместья дюжина головных фар освещала причудливую, сумбурную картину. В придорожной канаве приткнулся покинувший подъездную дорожку Гэтсби не более пары минут назад новенький двухдверный автомобиль с отодранным колесом. В их расставании повинен был острый выступ стены, и теперь колесо стало предметом уважительного внимания полудюжины водителей. Однако, выйдя из своих машин, они перекрыли дорогу, вследствие чего к этой сцене, и без того беспорядочной, добавился неблагозвучный гомон гудков, издаваемых теми, кто ехал за ними.
Из разбитой машины выбрался и встал посреди дороги мужчина в длинном пыльнике. Он окинул веселым, озадаченным взглядом сцену аварии, отлетевшее колесо и повернулся к зрителям.
– Надо же! – воскликнул он. – В канаву сверзился.
Обстоятельство это, по-видимому, безмерно изумило беднягу – поначалу я узнал его неординарную способность дивиться увиденному и лишь затем самого мужчину, позднего посетителя библиотеки Гэтсби.
– Как все было?
Он пожал плечами и твердо объявил:
– Я в механике ничего не смыслю.
– Но как все случилось-то? Вы в стену врезались?
– Не спрашивайте, – ответил, словно умывая руки, Совиноглазый. – Я и о вождении мало что знаю – почти ничего. Так вышло – вот все, что мне известно.
– Ну, если вы такой плохой водитель, зачем было вести машину ночью?
– А я и не вел, – рассердился Совиноглазый. – Даже и не пытался.
Все испуганно замерли.
– Убиться, что ли, надумали?
– Хорошо еще, что вам только колесо оторвало. Никчемный водитель – и даже не пытался вести!
– Вы не поняли, – пояснил преступник. – Я вообще до руля не дотрагивался. В машине остался еще кое-кто.
Вызванное этой новостью потрясенное молчание было прервано сдавленным «Оххх!», прозвучавшим, когда начала медленно приоткрываться дверца автомобиля. Толпа – теперь ее уже можно было назвать толпой – непроизвольно подалась назад и, едва лишь дверца отворилась окончательно, смолкла снова, точно ожидая увидеть призрака. Из разбитой машины очень медленно, словно бы по частям, выбрался, с опасливой неуверенностью нащупав землю большой, обутой в бальный туфель ступней, бледный, расхлябанный мужчина.
Ослепленный светом фар, сбитый с толку непрерывным стенанием клаксонов, призрак пару мгновений простоял, покачиваясь, а затем взгляд его обратился к мужчине в пыльнике.
– В чем дело? – мирно осведомился призрак изрядно заплетающимся языком. – У нас бензин кончился?
– Смотрите!
Полдюжины пальцев указали на ампутированное колесо – призрак некоторое время созерцал его, а затем возвел глаза к небу, словно заподозрив, что колесо свалилось именно оттуда.
– Отлетело, – пояснил кто-то.
Призрак кивнул:
– Я сначала и не заметил, что мы остановились.
Пауза. Затем он тяжко вздохнул, расправил плечи и решительным тоном осведомился:
– Может, кто-нибудь скажет мне, где тут заправка?
Человек самое малое десять – у некоторых язык заплетался немногим меньше, чем у него, – принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом не существует более никакой физической связи. Призрак, недолго подумав, предложил:
– Можно задним ходом сдать.
– Так колеса же нет!
Призрак поколебался немного и сказал:
– Ну, попытка – не пытка.
Кошачий концерт автомобильных гудков достиг кульминации, я повернулся и пошел лужайкой к моему дому. И только раз оглянулся назад. Облатка луны сияла над особняком Гэтсби, ночь, пережившая веселье и гомон все еще освещенного парка, была по-прежнему хороша. А из окон и огромных дверей особняка, казалось, сочилась теперь пустота, обрекая на полное одиночество фигуру его хозяина, стоявшего на террасе, подняв в церемонном жесте прощания руку.
Перечитав все написанное мною до сей поры, я увидел: оно создает впечатление, будто меня только и занимали, что эти три ночи, отделенные одна от другой несколькими неделями. Ничего подобного, они были всего лишь пустяковыми эпизодами того заполненного множеством событий лета и до времени куда более позднего занимали меня бесконечно меньше, чем мои личные обстоятельства.
Большую часть времени я работал. Ранними утрами, когда солнце отбрасывало мою тень к западу, я торопливо шагал по белым ущельям «нижнего» Нью-Йорка в свой «Честный траст». Я уже знал по именам наших клерков и молодых продавцов ценных бумаг, людей, с которыми завтракал в темных, переполненных ресторанчиках – свиные сосиски, картофельное пюре, кофе. У меня завелся даже короткий роман с девушкой, жившей в Джерси-Сити и работавшей в нашей бухгалтерии, однако ее брат начал косо посматривать на меня, и, когда она в июле отправилась в отпуск, я позволил роману тихо угаснуть.
Ужинал я обычно в «Йельском клубе» – невесть почему, это было самым гнетущим событием моего дня, – а после поднимался в его библиотеку и тратил час на добросовестное изучение инвестиций и залогов. Шумной публики в клубе обычно хватало, однако библиотеку она обходила стороной, и потому работалось там хорошо. Затем, если вечер был тих и тепел, я совершал прогулку по Мэдисон-авеню и, миновав старый отель «Мюррей-Хилл», сворачивал на Тридцать третью стрит и доходил по ней до Пенсильванского вокзала.
Я понемногу влюблялся в Нью-Йорк, в его пряные, полные приключений вечера, в удовольствие, доставляемое ненасытному взору мельканием и мерцанием его женщин, мужчин, машин. Мне нравилось прохаживаться по Пятой авеню, выбирать в людской толпе романтического облика женщин и на несколько минут воображать, как я войду в их жизни и никто не узнает об этом и не осудит меня. Иногда я мысленно провожал их до квартир, занимаемых ими на углах затаившихся улиц, и женщины оборачивались и улыбались мне, прежде чем растаять в теплой темноте за дверью. В зачарованном сумраке огромного города на меня нападало порой одиночество, которое я ощущал и в других – в бедных молодых клерках, переминавшихся перед витринами магазинов, ожидая, когда наступит время одинокого ужина в ресторане, – в людей, которые попусту растрачивали в полумраке самые острые мгновения и ночи, и жизни.
И снова в восемь вечера, когда темные сороковые уставлялись в пять рядов дрожащими таксомоторами[9], желавшими полететь к кварталу театров, я чувствовал, как валится куда-то мое сердце. Чьи-то тела кособочились в ожидавших такси, пели голоса, кто-то смеялся над не услышанным мной анекдотом и раскуривал сигареты, и огоньки их очерчивали неразличимую извне жестикуляцию сидевших в машинах людей. Воображая, что и мне тоже будет дано мчаться навстречу их увеселениям, разделять их сокровенное волнение, я желал им всего самого лучшего.
Джордан Бейкер я потерял на какое-то время из виду, но потом, в середине лета, нашел снова. Поначалу мне было лестно появляться с ней там и сям, поскольку она была известной гольфисткой и имя ее знали все. Потом к этому чувству добавилось другое. Я не то чтобы влюбился, но начал испытывать к ней нежное любопытство. Что-то крылось под скучающим, надменным лицом, обращаемым Джордан к миру, – почти всякая манерность становится в итоге маской, даже если поначалу ничего она не прикрывала, – и в конце концов я сообразил, что таилось под ним. Когда мы поехали с ней в Уорик погостить у ее друзей, она оставила под дождем, не закрыв верх, взятую напрокат машину, а после измыслила в свое оправдание какую-то ложь – и я вдруг вспомнил связанную с Джордан историю, которая все ускользала от меня в тот вечер у Дэйзи. Во время первого в ее жизни большого гольфового турнира Джордан обвинили в том, что она сдвинула в полуфинальной игре неудачно лежавший мяч, и эта история едва не попала в газеты. Дело могло дойти до скандала, но его удалось замять. Подвозивший клюшки служитель взял свои слова назад, еще один свидетель, единственный, заявил, что мог и ошибиться. Однако случай этот и имя Джордан остались в моей памяти неразделимы.
Джордан Бейкер инстинктивно сторонилась людей умных и проницательных, и теперь я понял – происходило это потому, что она чувствовала себя в большей безопасности там, где любое отклонение от каких-либо правил почитается вполне допустимым. Она была неизлечимо нечестна. Всякое неблагоприятное для нее положение представлялось Джордан нестерпимым, и, думаю, она еще в ранней юности начала изобретать увертки, которые позволяли ей взирать на мир с холодной, надменной улыбкой, потакая между тем требованиям своего крепкого, хваткого тела.
Меня-то все это оставляло равнодушным. Мы никогда не переживаем бесчестность женщины всерьез, я мимоходом прощал ее, а там и забывал. Возвращаясь тогда из гостей, мы завели занятный разговор о вождении автомобиля. Начался он после того, как Джордан пронеслась в такой близи от дорожных рабочих, что сорвала крылом машины пуговицы с куртки одного из них.
– Водишь ты черт знает как, – возмутился я. – Либо будь поосторожней, либо не садись за руль.
– Я и так осторожна.
– Вот уж чего нет, того нет.
– Ладно, зато осторожны другие.
– Другие-то тут при чем?
– А они под колеса ко мне не лезут, – заявила Джордан. – Для несчастного случая нужны двое.
– Но что, если тебе попадется человек, такой же беспечный, как ты?
– Надеюсь, не попадется, – ответила она. – Терпеть не могу беспечных людей. Потому-то ты мне и нравишься.
Серые, прищуренные от солнца глаза Джордан смотрели вперед, однако она сумела намеренно переменить тон наших с ней отношений, и на миг мне показалось, что я люблю ее. Однако я тугодум, да еще и руководствуюсь целым сводом внутренних правил, воздействующих на мои желания, как тормозные колодки, и потому счел, что первым делом обязан распутать клубок оставленных мною дома отношений. Раз в неделю я посылал туда письма, завершая их словами «С любовью, Ник», и единственным, о ком я думал сейчас, была теннисистка с призрачными усиками пота на верхней губе. Думал-то думал, но понимал, хоть и не ясно, что свободным я стану, лишь тактично порвав с нею.
Каждый из нас подозревает в себе носителя хотя бы одной из кардинальных добродетелей, и моя была вот какой: я – один из очень немногих встреченных мною в жизни совестливых людей.
Глава четвертая
Воскресными утрами, когда в прибрежных городках названивали церковные колокола, весь свет и дамы полусвета возвращались в поместье Гэтсби, чтобы затопить суетливой веселостью его лужайку.
– Он бутлегер, – уверяли юные леди, перемещаясь от коктейлей Гэтсби к его цветникам. – И однажды убил человека, прознавшего, что он приходится племянником фон Гинденбургу и троюродным братом дьяволу. Добудь мне розу, милый, и плесни последнюю каплю вон в тот хрустальный бокал.
Как-то раз я записал на полях расписания поездов имена людей, которые посещали тем летом поместье Гэтсби. Расписание, на котором значится: «Действительно до 5 июля 1922», давно устарело и пообтрепалось на сгибах. Но посеревшие имена еще различимы, и они позволят вам лучше, чем общие мои рассуждения, понять, что за люди пользовались гостеприимством Гэтсби и в благодарность приносили ему лукавую дань полного неведения о том, кто он и что он.
С Ист-Эгг приезжали Честер Беккерс, и Пьявкисы, и мой йельский знакомый Бунзен, и доктор Уэбстер Виверра, прошлым летом утонувший в Мэне. Приезжали Грабы и Вилли Вольтер с супругой, и целый клан Газелов, эти всегда забивались в какой-нибудь угол и, если кто-то приближался к ним, трясли на козлиный манер головами. Приезжали Исмеи и Кристи (а вернее сказать, Губерт Ауэрбах и жена мистера Кристи), и Эдгар Нутрий, про которого рассказывали, что в один зимний денек он без всякой на то причины побелел как лунь.
Насколько я помню, с Восточного же Яйца приехал и Кларенс Эндиви. Приехал всего один раз, в белых бриджах, и подрался в парке с лоботрясом по фамилии Этти. С дальнего конца Айленда приезжали Чидлы и О. Р. П. Шредеры, Джексон «Каменная Стена» Абрамс[10] из Джорджии, и Фишгарды, и Рипли Улит с женой. Снелл провел в поместье три дня, по истечении коих сел в тюрьму, и под конец третьего напился до того, что упал на гравиевой подъездной дорожке, и машина миссис Улисс Сьюитт переехала его правую руку. Приезжала также чета Дэнси, и С. Б. Анчоус, которому было уже под семьдесят, и Морис А. Флинк, и супруги Акулло, и табачный импортер Белуга, и дочери Белуги.