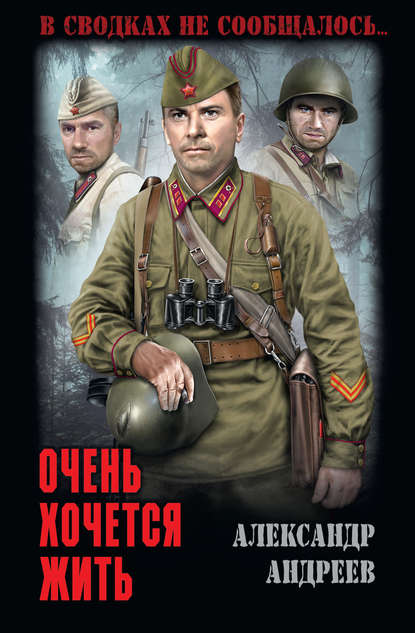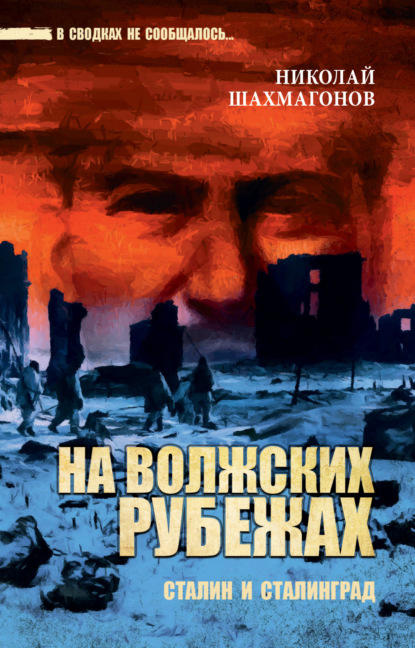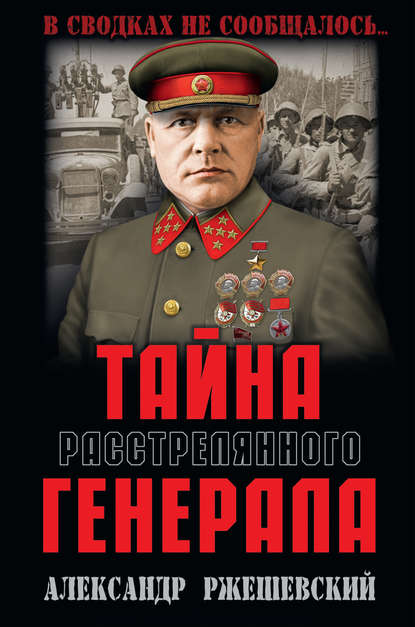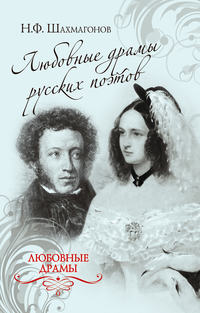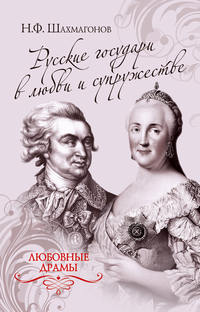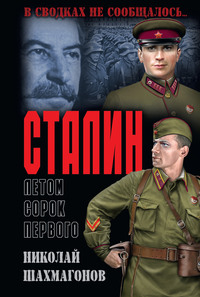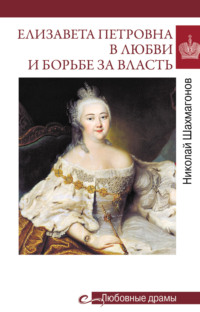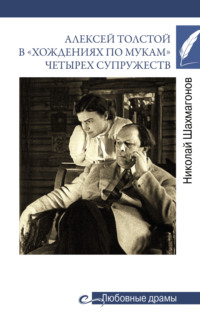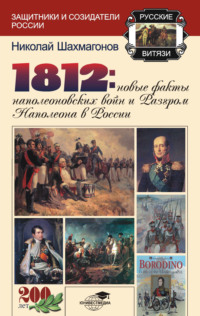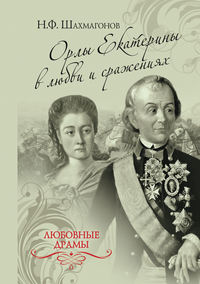Полная версия
Сталин в битве за Москву
Москва спасла Европу от ордынского ига, Москва сломила антихристово зверопольско-литовское нашествие, направленное на уничтожение православной Державы и её праведной православной веры, Москва похоронила изуверскую банду Наполеона. И вот теперь Москва стала на пути новых нелюдей, одурманенных новым князем тьмы – Адольфом Гитлером.
Помнил Сталин и о том, что ни одно из нашествий не возникало случайно, без Попущения Божьего за грехи. Нашествия возникали по злой воле тех, кто спешил воспользоваться этим попущением, чтобы в своих корыстных целях стать орудием этого попущения, орудием Божьей кары. Именно Москва сломила своим праведным, священным карающим мечом неотвратимого возмездия дикие орды Востока. Их нашествие было попущено за грехи междоусобия и братоубийства, за грех цареубийства святого благоверного князя Андрея Боголюбского, основателя православного самодержавия, положившего начало единения Русских земель на основе этого праведного богоугодного правления. Ведь, как учат Святители, целью православного самодержавия является «всемерное содействие попыткам приблизить жизнь народа во всём её реальном многообразии к евангельскому идеалу», или, если сказать проще, содействие спасению душ подданных. Орда же, поспешившая с помощью Римской католической церкви стать орудием этой кары, благословляемая папой римским, приславшим Батыю в качестве военного советника рыцаря ордена Святой Марии Адольфа фон Штуппенхаузена, была разрушена, рассеяна и перестала существовать.
Не захотела тогдашняя русская элита повиноваться славному князю Боголюбскому, так пришлось ей гнуть спину перед жестокосердными, уродливыми ордынцами. Из-за безрассудства, сребролюбия и алчности тогдашнего боярства тяжёлый мрак ордынского ига на века опустился на Русь. Но одумались люди русские, покаялись в грехах своих, объединились вокруг священной Москвы, и Бог даровал победу на Куликовом поле, а Пресвятая Богородица спасла Русскую землю от страшного нашествия Тамерлана в 1395 году и от полчищ хана Ахмата в 1480-м. Один из самых звероподобных правителей ордынского отродья хан Мамай был удавлен своими союзниками, генуэзцами, в Крыму, куда бежал после разгрома на Куликовом поле.
Зверопольское иго было попущено за вероотступничество боярства от православного царя, за попустительство и даже участие в зверском истреблении путём отравления деда и отца Иоанна Грозного, его матери, его сыновей – царевича Иоанна и впоследствии царя Феодора Иоанновича. Пал от рук отравителей и Сам благоверный православный царь – первый помазанник Божий на русском престоле Иоанн Васильевич Грозный. Трагической стала судьба и младшего его сына – царевича Дмитрия. И тут же ринулись на Русскую землю коварные и жестокосердные вандалы в зверопольском и литовском обличье. Зверополяки, несправедливо именовавшие себя славянами, ибо славными людьми они давно уже перестали быть, бесчинствовали на земле Русской, оскверняли священный град Москву. Когда же русские люди вновь пришли к Богу, когда и боярство покаялось в своём вероотступничестве и измене православной самодержавной династии, Всемогущий Бог даровал полную победу над зверопольским игом, жестоео покарав безбожных изуверов – зверополяки в Москве унизились до людоедства, а затем Польша подверглась многократным разделам. Но, презревшая горький опыт, Польша не раз ещё подленько, по-холопски вредила Русской земле и великодушным русским людям.
Сталин помнил бездарную и кровавую операцию Тухачевского в конце гражданской войны, когда этот безжалостный убийца стариков, женщин и младенцев и основатель концентрационных лагерей на Тамбовщине, наполеончик, завербованный германцами ещё в Первую мировую войну, бросил на произвол судьбы сотни тысяч красноармейцев, двинутых на Варшаву и оставленных там на расправу зверополякам. Зверополяки, пленив их, истребляли тысячами, рубили сапёрными лопатками, использовали вместо чучел для отработки штыкового боя на живых людях. А перед войной занялись погромами православных храмов и зверскими убийствами православных священников. Сталин помнил пророчества Иоанна Кронштадтского о том, что наступит ещё неотвратимая Божья кара, что пройдут годы и, когда Польша, спасённая Россией в новой жестокой войне – имелось в виду гитлеровское нашествие, – вновь поднимет свою поганую руку на священную землю Русскую, тогда «закроется последняя страница Польши». Он не знал, когда и как это случится, но знал, что России суждено ещё раз, быть может, последний, спасти поляков от истребления тевтонами.
Попущено было Всевышним и нашествие наполеоновское в 1812 году, попущено за французоманию дворянства, чрезмерное увлечение вольтерьянством и презрение к вере отцов. Орудием этой кары поспешили стать французы и явившиеся вместе с ними польские отщепенцы, как и отщепенцы многих стран Запада. Они, подобно зверополякам, пытались осквернить священный град Москву, надругаясь над его святынями, грабя и убивая. Ужасен был конец этих нелюдей. В июне 1812 года пересекли границу России более 600 тысяч варваров, затем «великая» в своём изуверстве и грабительстве армия получала несметные пополнения. И число перешедших Неман с запада на восток превысило в общей сложности 1 миллион человек. Но назад унесли ноги не более 20 тысяч человек, да и то на флангах. Жалок был вид тех, кто, подобно шакалам, брёл по Русской земле на запад, так и не удовлетворив свои алчные многомятежные нечеловеческие хотения. Предводитель этого бандитского сброда Наполеон, объявленный безнравственной пропагандой великим, нашёл свой бесславный конец, отравленный в изгнании теми, кого он считал своими верноподданными.
Сталин хорошо знал летопись прошлого. Всеми силами оттягивая войну, готовя к ней Державу, «разрушенную до основанья» так называемыми верными ленинцами и их пособниками – троцкистами, он ни на минуту не сомневался, что Божья кара за вероотступничество и отречение от Царя не замедлит обрушиться на землю Русскую и русский народ для вразумления и излечения от грехов смертных.
Сталин знал, что теперь, когда орудие Божьей кары занесено над землею Русской, необходимо доказать свою твёрдость, свою веру в Бога, свою неукротимую волю к победе. И что пример такого поведения ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно надлежит показывать именно ему, как взявшему на себя священный долг послушания – долг государева служения, заповеданного Всевышним.
Кто же он, товарищ Сталин, кто он, кормчий великой Державы, заслонившей в те дни мир от коричневой чумы, от опустошающей всё живое саранчи ХХ века?
Кем он сам осознавал себя, находясь на посту, который заставлял отдавать все силы, здоровье, энергию, личную жизнь на алтарь Отечества?
Помнил он, как ступил на этот нелёгкий путь, путь служения высшей правде, путь служения людям. Это не просто путь служения, это путь, говоря языком духовным, оперируя категориями духовными, принятыми в православной церкви, – ПОСЛУШАНИЕ!
В чём оно, это ПОСЛУШАНИЕ? Быть может, он ещё в юности выразил это в своём стихотворении, в котором были такие слова:
Шёл он от дома к дому,В двери чужие стучал.Под старый дубовый пандуриНехитрый мотив звучал.В напеве его и в песне,Как солнечный луч чиста,Жила великая правда —Божественная мечта.Сердца, превращённые в камень,Будил одинокий напев.Дремавший в потёмках пламеньВзметался выше дерев.Быть может, он именно в этом осознавал своё служение, своё высшее Послушание? И шёл на свой подвиг, подвиг борьбы за счастье народа, подвиг борьбы за свободу России, подвиг борьбы за справедливость, высший подвиг борьбы за души, за то, чтобы «приблизить жизнь народа во всём её реальном многообразии к евангельскому идеалу».
И далее пророческие строки. Юный Джугашвили словно видел итог этой своей титанической деятельности, видел то, что Россию, которую он спасёт от саранчи Запада, Россию, в которой он будет стремиться приблизить жизнь к евангельскому идеалу, накроет ночь бесовщины горбачевизма и ельцинизма.
И он писал в далёкие юношеские годы:
Но люди, забывшие Бога,Хранящие в сердце тьму,Вместо вина отравуНалили в чашу ему.Сказали ему: «Будь проклят!Чашу испей до дна!..И песня твоя чужда нам,И правда твоя не нужна!»Но он стоял на своём духовном посту твёрдо, потому что верил:
«Как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего Социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом».
На каком прошлом? Конечно же на том прошлом, в котором Сталин, говоря словами песни Александра Вертинского, «в народа могучие руки обнаглевшего принял врага».
Служение в послушании
Однажды мать Иосифа Джугашвили пришла в Тифлисскую духовную семинарию и попросила начальство отпустить с ней сына до конца дня по неотложным семейным делам.
Руководство пошло навстречу, и вскоре они уже шагали по узким и кривым тифлисским улицам.
Иосиф поинтересовался, далеко ли они направляются и что это за семейные дела.
– Потерпи, – сказала мать. – Сегодня ты узнаешь очень много важного для себя. Сегодня ты узнаешь правду о своём отце!
– Об отце? Зачем мне эта правда? Вспоминать его не хочется… Как он относился к тебе!
– Тот, о ком ты подумал, не был твоим отцом! – обронила мать загадочную фразу.
– Что? Я не понимаю…
– Потерпи. Недолго осталось. Вон, видишь особняк? Там нас ждут… Просто прошу тебя – ничему не удивляйся. Сегодня ты увидишь очень близких друзей твоего отца – настоящего отца. Они тебе о нём всё расскажут!
Конечно, эта краткая информация ничего не открыла и ни к чему не подготовила – разве только к тому, что Иосиф решил ничему не удивляться и выслушать всё, что собираются ему сказать неведомые пока люди. Он даже не стал расспрашивать мать, что это за странное заявление. Какой ещё такой неведомый и тайный отец? Ведь он до сих пор считал своим отцом Виссариона, от которого никогда и ничего хорошего не видел и от которого натерпелась мать.
Особняк богатый. У входа швейцар. Иосиф отметил, что Екатерину Георгиевну он, судя по тому, как встретил, знал давно, никаких вопросов не задавал, а сразу предложил пройти в гостиную на второй этаж.
– Ну вы знаете, в Белую гостиную! – сказал он, поклонившись.
Мать и сын поднялись по мраморной лестнице. На втором этаже встретила горничная, которая распахнула перед ними дверь.
За покрытым светлой скатертью круглым столом Иосиф увидел двух незнакомцев: один был в полковничьем мундире, второй – просто в обычном гражданском костюме, подчёркнуто опрятном, хорошо подогнанном. Оба встали. Подтянутость и стройность полковника не удивили. А вот под гражданским костюмом второго незнакомца Иосиф безошибочно определил ту же самую военную выправку.
– Присаживайтесь, Екатерина Георгиевна, – с почтением, обращаясь к матери Иосифа, сказал полковник. – Вот здесь будет удобнее. – Он придвинул стул и, повернувшись к Иосифу, прибавил: – И вы присаживайтесь, господин семинарист. Какой вы уже взрослый!
– И какое поразительное сходство! – прибавил второй незнакомец, подошедший ближе и неожиданно положивший на стол перед Иосифом фотографию военного в генеральской форме.
Иосиф взял фотографию, внимательно посмотрел на лицо генерала, от которого повеяло чем-то неизъяснимо родным, тёплым.
– Кто это? – вырвалось у него.
– Ваш отец! – пояснил человек, положивший фотографию. – Ваш отец, генерал-майор Генерального штаба Николай Михайлович Пржевальский!
– Где же он? Он тоже приехал? – спросил Иосиф, решив, что его просто таким образом хотели подготовить к важной встрече.
– К сожалению, он погиб, – вздохнув, сказал полковник, – погиб за Россию, за Веру, Царя и Отечество. Он, талантливый учёный и блестящий разведчик, отравлен на боевом посту – отравлен англичанами…
– Но как же? Мама? – Иосиф повернулся к Екатерине Георгиевне, словно желая найти подтверждение тому, что услышал.
Она лишь кивнула – мол, всё правда!
– Ваш отец был в Гори, – продолжил полковник, – лечился после очередной экспедиции в Тибет. Жил у князя Маминошвили.
Он назвал год лечения – 1878-й. Иосиф посмотрел на мать, словно снова спрашивая: так ли это?
– Князь Маминошвили наш дальний родственник, – сказала Екатерина Георгиевна. – Я часто гостила в его доме. Было мне тогда двадцать два года. С Виссарионом дела не ладились. Дети, которые рождались в семье, умирали. И вот приехал Николай Михайлович! Приехал в начале года, прогостил в феврале и марте. Я как раз была у князя Маминошвили. С Виссарионом мы уже расстались. Встретились с Николаем Михайловичем и полюбили друг друга. Очень полюбили. А в декабре – девятнадцатого числа, на Николин день, родился ты! Мы мечтали о будущем, но… когда тебе было всего лишь десять лет, в восемьдесят восьмом году, Николай Михайлович погиб…
– Я родился в семьдесят восьмом году?
– Да! Но записали семьдесят девятым. Нужно было скрыть, кто твой отец.
– Ведь он не просто генерал, дворянин – он сын императора Александра Второго, – пояснил полковник.
Трудно сразу переварить такую информацию, обрушившуюся на юношу, до сей поры полагавшего себя выходцем чуть ли не из самых низов, откуда удалось пробиться благодаря незаурядным природным способностям, позволявшим легко проходить даже сложнейшие предметы духовной семинарии.
Иосиф был в замешательстве. Что-то надо было спрашивать, что-то уточнять. Но столько нужно было спросить, что и не знал, с чего начать.
– Что же случилось? Как погиб… – Он сделал паузу и наконец вымолвил то, что непросто вымолвить вот так, неожиданно: – Как погиб отец?
– Он выполнял важнейшую государственную задачу, – пояснил полковник. – Позади были четыре экспедиции. Впереди – пятая, во время которой предстояло дойти до столицы Тибета – города Лхасы. Не просто дойти, а этим походом распространить влияние России на тот обширный район, стратегически важный в ближайшем будущем район. Вот тогда-то англичане и постарались. Отравление Николая Михайловича сорвало достижение грандиозных планов.
Иосифу пока ещё трудно было охватить то огромное, важное, что было в планах отца. Пока он в большей степени верил на слово, потому что не верить этим людям, к которым привела его мать, не мог: они были не только симпатичны, они были не только очень расположены к нему – они внушали полное доверие.
Снова заговорил полковник:
– Я по поручению вашего отца, юноша, опекал вас с самых ранних лет. Ему это было сложно. Служба в разведке занимала всё время без остатка. К тому же он понимал, что враги будут мстить не только ему самому, но и его близким. Коварства англичанам не занимать – это бессовестные, беспринципные, жестокие и низкие люди. Запомните это, юноша. На всю жизнь запомните. Я продолжал опекать вас и тогда, когда Николая Михайловича не стало – на смертном одре он просил меня об этом. Ты вырос грамотным, хорошо подготовленным к испытаниям человеком. Нам известно, что ты интересуешься, – полковник незаметно перешёл в обращении на «ты», – не только духовной, но и светской литературой и что в кругу твоего общения немало бесовского отродья, с которым я, кстати, боролся, борюсь и буду бороться всю жизнь.
– Бесовского? – переспросил Иосиф.
– Ты читал роман Достоевского «Бесы»?
– Да, да, конечно. Потому и переспросил. Но разве ж мои знакомые из этой стаи?
– Да, все они бесы. И у всех у них задача сокрушить империю и по миру пустить Россию и все народы, населяющие её. Мы предлагаем тебе очень трудный и опасный путь. Путь борьбы за Россию.
– Он столь же опасен, как путь моего отца? – спросил Иосиф.
– Он ещё более опасен и ещё более важен, ибо речь пойдёт не о распространении русского влияния на какой-то новый, пусть даже очень важный регион, а о самом существовании России.
– Я немедленно порву со всем бесовским окружением.
– Этого делать не надо… Рвать не надо.
– А что же? Отчего же?
– Нам неизвестно, как сложится судьба России, мы можем только догадываться, что бесовская скверна глубоко проникла в русскую жизнь, что она поразила не только какие-то круги общества в низах. Она проникла во властные структуры, она пронизала всю вертикаль власти. Мы с товарищем представляем собой учреждение, в котором служат люди, беспредельно преданные престолу, беспредельно преданные России. Ты готов встать в наши ряды?
Как далёк тот день, как невероятно далёк! Теперь Иосиф Сталин уже не юноша Иосиф Джугашвили, теперь он руководитель огромной Державы – Державы, единственной в мире. И ему суждено служить Державе, которой самим Создателем заповедано быть Удерживающей на планете Земля.
Да, он с годами понял то, о чём узнал в юности, узнал от офицеров разведки, друзей и сослуживцев отца, и от духовных лиц, с которыми пришлось не раз встречаться.
В тот памятный день ему предстояло дать ответ на предложение серьёзных людей, офицеров разведки, которые знали его отца, которые были не просто его сослуживцами, но соратниками и единомышленниками.
– Что я должен делать?
– Ты готов? Готов к суровым испытаниям, готов не к службе, нет, готов ли к служению? К служению Апостольской Истине, удержание которой заповедано России?
– Готов! Что я должен делать? У меня будет оружие?
– Твоим оружием станет Духовный Меч Русского Православия, меч, выкованный в жестоких сражениях с дикими ордами и Запада, и Востока. Орда Запада ещё коварнее и страшнее орд Востока, поскольку если ордынцы во время нашествия полонили тело, то западные Батыи и Мамаи стремились полонить и тело, и душу. Ты по роду своей учёбы знаешь, что спасти душу народа русского ещё более важно, чем спасти тело.
– Я готов принять Духовный Меч Русского Православия. Я готов стоять за Апостольскую Истину. И всё-таки, какие задачи передо мной?
– Предстоит стать своим среди бесовского отродья, предстоит продвигаться в их рядах по их бесовской иерархической лестнице.
– Для чего?
– Если удерживающий, то есть Государь, который удерживает Россию от смуты, усилиями бесовщины будет изъят из среды, нужно быть готовым к перехвату управления у бесовского отродья, перехвату во имя России – каковой бы она ни стала после смут и потрясений. Но об этом ещё будет время поговорить, и поговорить не раз.
Офицеры Генерального штаба стали прощаться. Разговор окончен. Теперь встречи будут тайными, встречи, на которых Иосифу придётся учиться с азов конспиративной работе в рядах бесовских.
После встречи в особняке Иосиф Джугашвили вернулся в семинарию и продолжал учёбу – иных указаний ему дано не было.
Но в мае 1899 года на выпускном курсе Тифлисской семинарии, когда он готовился к последнему экзамену, ему явился святой старец и призвал к себе. Начальство отпустило на время, но Иосиф в семинарию не вернулся. Тем старцем был архимандрит Иерон, настоятель Ново-Афонского монастыря.
В кратком благословении он сказал Иосифу:
– Грядет царство зверя на Россию. Слуги антихристовы будут уничтожать Русский народ. А ты будешь уничтожать их. Иди!..
Игумен Иерон благословил Иосифа иконой «Избавительница» – главной святыней монастыря.
А однажды тёмной июльской ночью 1913 года Иосиф явился в Ново-Иерусалимский монастырь, что в подмосковном Воскресенске. Это Русская Палестина, это столица исихазма. В монастыре повторяются христианские святыни и сооружения Святой Земли.
Гостя ждали. Бесшумно отворились створки Святых Красных ворот надвратного храма, и экипаж остановился у входа в подземную церковь Константина и Елены. Встретил духовный отец Иосифа, заменивший в деле его окормления ушедших в мир иной отца Иерона и святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Молились всю ночь. После чего Сталин клятвенно обещал чернецам, что сам навсегда останется православным и будет помнить о Боге, что, какие бы бури нт пронеслись над страной, уничтожит врагов и вернёт все права православной Церкви и Веру Православную народу Русскому вернёт.
Те физические, душевные, нравственные, моральные нагрузки, которые непрерывно сопутствовали деятельности Сталина, мог выдержать только человек, духовность которого была невероятно высока, человек, который относился к своему высочайшему посту в государстве не как к месту кормления, а как к ПОСЛУШАНИЮ…
Недаром Александр Вертинский писал с восхищением, недаром пел песню, в которой были такие слова:
Из какой сверхмогучей породыСоздавала природа его?А поэт Феликс Чуев, тот самый Феликс Чуев, который выпустил уникальную книгу «Сто сорок бесед с Молотовым», посвятил стихи, ставшие песней:
Уже послы живут в тылу глубоком,Уже в Москве наркомов не видать,И панцерные армии фон БокаНа Химки продолжают наступать.Решают в штабе Западного фронта —Поставить штаб восточнее Москвы,И солнце раной русского народаГорит среди осенней синевы…Уже в Москве ответственные лицаНе понимают только одного:Когда же Сам уедет из столицы —Но как спросить об этом Самого?Да, как спросить? Вопрос предельно важен,Такой, что не отложишь на потом:– Когда отправить полк охраны ВашейНа Куйбышев? Состав уже готов.Дрожали стёкла в грохоте воздушном,Сверкало в Александровском саду…Сказал спокойно: – Если будет нужно,Я этот полк в атаку поведу.И не случайно все, кто видел Сталина в тяжёлые осадные дни фронтовой Москвы, кто работал с ним, разговаривал с ним, решая неотложные вопросы, едины во мнении. Не было человека более спокойного, более выдержанного, более мужественного и более деятельного в грозную пору священной битвы.
Заместитель командующего тылом Красной армии генерал-лейтенант Василий Иванович Виноградов впоследствии вспоминал:
«Положение под Москвой несколько дней было критическим. Немецкая разведка вышла на берег Химкинского водохранилища. Германское командование уже рассматривало Москву в бинокли. Нервозность нашего командования в эти дни достигла высшего предела. Все командующие требовали подкреплений. Не получая их, выливали на меня свой гнев и раздражение. Сталин запретил без его приказа вводить стратегический резерв в бой, в том числе и снабжать сражающиеся части дополнительно боеприпасами. В результате всё негодование, накопившееся за месяцы тяжёлой борьбы, выливалось на мою голову, тем более что по воинскому званию я был значительно ниже звонивших командующих. “Мерзавец, враг народа”, – были невинными эпитетами среди тех оскорблений, которыми они меня награждали. Примерно дней через десять после моего назначение я как-то встретил Сталина в сопровождении Молотова, Маленкова и Берии, идущих к лифту на станции метро “Кировская”. Сталин спросил:
– Как идут дела?
– Действую, как вы приказали, – ответил я и неожиданно, под впечатлением полученных оскорблений, брякнул: – Командующие ругают меня отборной бранью за то, что я по вашему приказу отказываю им в подкреплениях.
– Что, что, – удивился Сталин, – ругают вас отборной бранью? Вы это серьёзно? В отсутствие Хрулёва вы мой заместитель. Кто, кроме меня, может вас ругать? Вы меня удивляете, генерал.
“Ну, подождите, – подумал я тогда, – теперь поставлю всех на место”.
Когда один из командующих фронтами, не хочу называть его, чтобы не компрометировать, позвонил и заговорил со мной на нецензурном языке, я оборвал его:
– Ты с кем разговариваешь? Ты разговариваешь с заместителем Верховного главнокомандующего. Да я тебя под трибунал!
В доли секунды командующий, отличавшийся невероятной грубостью и нахальством, резко переменился.
– Извините, товарищ генерал, – заговорил он, – сорвался. Извините, нервы.
Об этом эпизоде стало известно в войсках, и больше оскорблениям я никогда не подвергался. Однако, став большим начальником, мой собеседник не забыл того случая и после смерти Сталина вывел меня на пенсию».
Спокойствие, уверенность и удивительную выдержку Сталина в те суровые дни отмечали многие командующие фронтами и армиями, которым приходилось общаться с ним. Сталин твёрдо знал, что не в силе Бог, а в правде, что близится праведный час, когда великую правду необходимо подкрепить и великою силою.
Кто же Беннигсен сорок первого?
…Заканчивался очередной, обычный доклад. Сталин указал генералу Ермолину, где разместить резервы, которые должны подойти к Москве в конце текущего дня и в ближайшие дни. Затем, глядя на карту, спросил вовсе не об обстановке, нанесённой на ней:
– Скажите, Павел Андреевич, что нам обещают синоптики?
– Морозы, товарищ Сталин, продержатся до начала декабря. Ко второму числу возможно потепление.
– Значит, именно на эти дни можно ожидать возобновления наиболее сильных атак противника, – резюмировал Сталин.
Он снова прошёл вдоль стола, задумчиво глядя на карту, и сказал, посмотрев на Ермолина с прищуром:
– Морозы – это хорошо и плохо.
– Чем же плохо, товарищ Сталин?
– Морозы действуют одинаково как на нашу, так и на немецкую технику. Но люди наши более закалены, лучше снабжены, лучше одеты. Это хорошо. А знаете, что плохо?