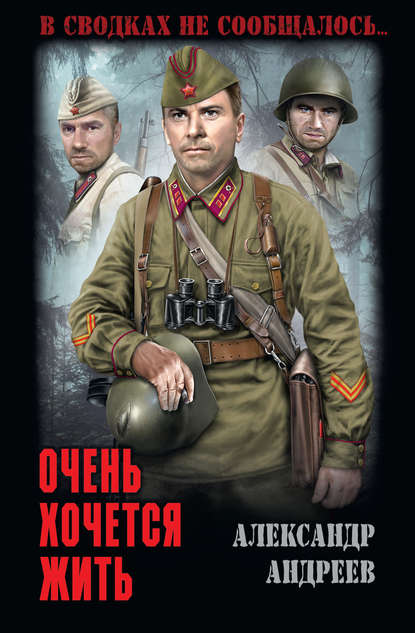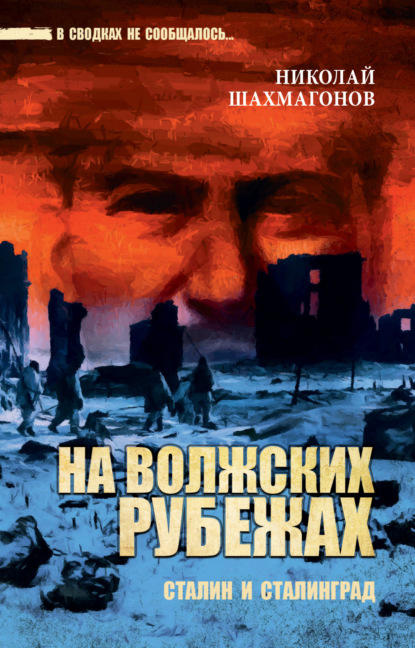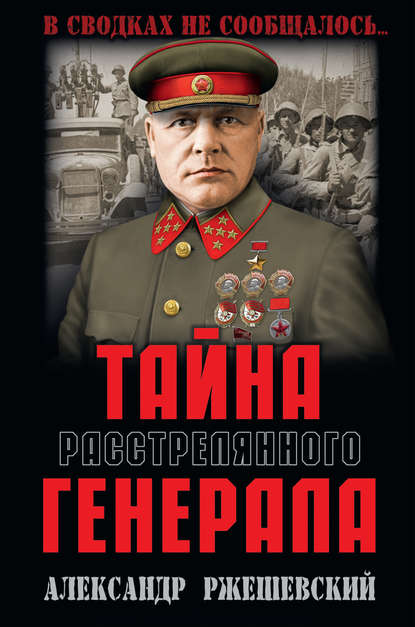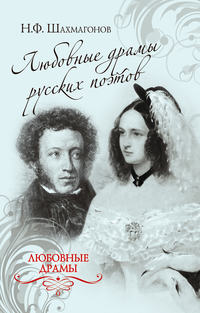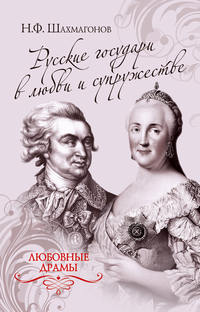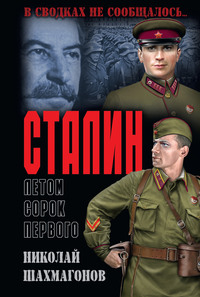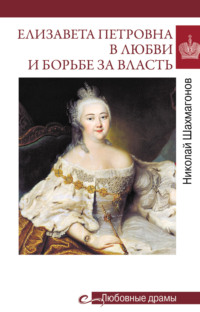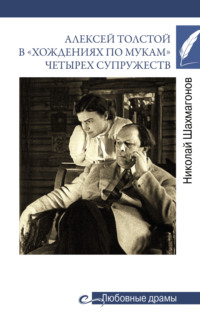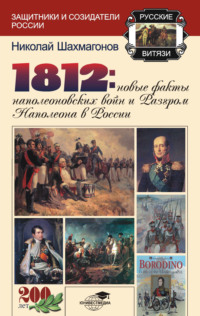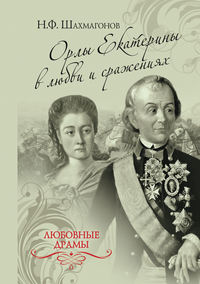Полная версия
Сталин в битве за Москву
Кремлёвцы ещё не знали и обстановки на западном направлении.
От Вязьмы до Волоколамска всего около 140 километров. Это расстояние колонны танков и мотопехоты способны пройти за несколько часов. Нужно было выставить заслон на пути к Москве и не дать противнику выйти на Волоколамское шоссе, чтобы бросить на Москву свои подвижные соединения. Для того чтобы заново создать линию обороны, необходимо было 5–7 дней.
Тогда-то, в ночь на 6 октября, командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Артемьев и позвонил начальнику Московского Краснознамённого пехотного училища полковнику Младенцеву и приказал поднять по тревоге курсантов, срочно сформировать сводный полк, совершить 85-километровый марш в район Яропольца и занять оборону на 30-километровом фронте на рубеже Бородино – Гарутино.
Полк был усилен 1-м артиллерийским дивизионом Московского Краснознамённого артиллерийского училища, 302-м пулемётным батальоном, 42-й огнемётной ротой, батареей 76-мм пушек, учебной ротой младших командиров, сапёрными подразделениями, сформированными тоже из курсантов военно-инженерного училища, и подразделениями связи.
Марш совершали под проливным дождём. Марш форсированный. На пределе физических сил. Прибыв на указанный рубеж 7 октября, курсанты без отдыха приступили к оборудованию опорных пунктов. Фронт обороны превышал все мыслимые и немыслимые нормативы. Сплошной обороны создать возможности не было. Приходилось строить батальонные районы обороны системой опорных пунктов, промежутки между которыми прикрывать позициями пулемётчиков. Одновременно устраивались минные и другие заграждения.
Сводный полк кремлёвцев в течение нескольких дней был единственной боевой частью Волоколамского укрепрайона. Кремлёвцы явились единственной преградой на пути немцев к Москве. Лишь 10 октября его соседом слева стала 316-я стрелковая дивизия. Несколько позже соседом справа стал кавалерийский корпус генерала Доватора в составе двух изрядно потрёпанных в предыдущих боях кавалерийских дивизий. Им даже полосу назначили в 10 километров по фронту. Вот и всё, что мог противопоставить сильной ударной группировке врага возглавивший Волоколамский укрепрайон командующий 16-й армией генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский.
Те, кто должны были уже через три дня – 15 числа – стать лейтенантами на всех законных основаниях, 12 октября приняли боевое крещение как рядовые красноармейцы. Но воевали они по-суворовски, ибо каждый кремлёвец чётко знал свой манёвр.
Отбив натиск врага, кремлёвцы провели успешную контратаку и взяли много пленных, что в то время было ещё редкостью.
На следующий день враг возобновил натиск, но снова был отбит, потеряв два танка и четыре бронетранспортёра.
Судя по всему, это пока были разведподразделения фашистов. Через некоторое время враг ввёл в бой основные силы, но снова не смог добиться успеха. Курсанты стояли твёрдо. Воевали умело. За первые двенадцать дней боёв потери составили 25 курсантов, а это опять же по тем временам было немного. Боёв без потерь не бывает…
27 октября 1941 года полк едва не оказался в окружении, однако, потеряв 67 человек, вырвался из кольца.
Весь ноябрь полк отважно сражался, удерживая оборонительные рубежи, захватив большое количество пленных, много противотанковых орудий, миномётов, автомашин, уничтожив десятки танков и бронетранспортёров. Полк стоял твёрдо, выполняя приказ: «Ни шагу назад!»
И вот наступил роковой день.
Красные юнкера. Бросок в бессмертие!
Комбат склонился над рабочей картой. Надо было принимать решение, важное решение. Всё чётко, как учили, всё согласно уставу…
Нередко на тактических занятиях в училище курсанты задают преподавателям извечный вопрос, для чего нужно заучивать, как Отче наш, порядок работы командира по выработке решения, по отдаче боевого приказа, и получают один и тот же ответ: для того, чтобы в бою то, что вы сейчас докладываете по пунктам на занятиях и за что получаете и неуды, и троечки и, конечно, четвёрки и пятёрки, настолько отложилось в памяти, чтобы в сложной боевой обстановке всё это проделывалось быстро и чётко в уме и чтобы ни один из важных моментов, соответствующих пунктам, указанным в боевом уставе, не ускользнул от внимания.
А вот в этот момент самый первый пункт работы командира оказался невыполнимым. В уставе сказано: «Командир батальона, получив боевую задачу, уясняет её…» Нет боевой задачи – и уяснять нечего. Да, она была, её никто не отменял, но соседи-то ушли. Что же это? Разведчик, вернувшийся оттуда, где ещё недавно был район обороны правофлангового батальона дивизии, доложил, что отход, скорее всего, произошёл без боя. Значит, по приказу? Не могли же героические воины героической Панфиловской дивизии, ставшей гвардейской, уйти просто так – без боя.
Комбат мучительно думал, как поступить правильно. Прервалась связь с командиром полка, прервалась связь даже с соседом, батальоном полка. Слишком велик фронт обороны, непомерно велик. Как тут удержать связь, если враг обошёл с тыла и с тыла же ударил в стыки, потому что фронтальные атаки ему успеха не принесли и их результатом стали лишь непомерные, невероятные потери атакующих.
Комбат, сам кремлёвец, успевший повоевать на Халхин-Голе и вернувшийся в училище ротным командиром, а затем принявший курсантский батальон, хорошо знал тактику действий. Назубок знал порядок работы командира, но сегодня этот порядок стал необычным, поскольку и расчёт времени упирался в самое простое и ясное – всё надо было делать ещё вчера, когда стойко стояли на занимаемых позициях и Панфиловская дивизия, и кавалерийский корпус. А сейчас невозможно было даже точно определить состав и положение противника. Одно было ясно – завтра немцы начнут обрабатывать район батальона артиллерией, а потом, вероятно, предпримут бесконечные атаки. Успокаивало лишь одно. Те силы, которые враг вынужден оставить здесь для борьбы с кремлёвцами, он не сможет использовать там, где на новых рубежах занимали оборону панфиловцы и кавалеристы Доватора.
Комбат не случайно велел задержаться Беликову. Поразмыслив, приказал снова собираться в разведку, чтобы определить, в каком направлении целесообразнее прорываться из окружения. Главное он решил – надо идти на прорыв, хотя бы ради того, чтобы спасти как можно больше курсантов, которые иначе будут просто уничтожены артобстрелами врага и атакой многократно численно превосходящих сил, против которых практически осталось одно оружие – русский праведный штык. В эти моменты приобретал особое значение завет Суворова: «Пуля дура – штык молодец!»
Враг, пользуясь тем, что Панфиловская дивизия и корпус Доватора отведены на рубеж Истринского водохранилища, взял батальоны кремлёвцев в плотное кольцо.
Долго тянулись ночные часы. Комбат так и не сомкнул глаз. Он ждал разведчиков. Доклад их не был утешительным. Батальон обложен плотно, однако немцы ведут себя спокойно. Развели костры, греются. Дозоры выставили, но дозорные тоже развели костры. Никто не ждал, что кремлёвцы решатся на прорыв.
Нужно было решить вопрос с ранеными. Оставить в деревушке, что неподалёку? Немцы войдут, проверят, и всё… Всех, кто мог подняться на ноги, всех, кто мог держать оружие, поставили в строй. Тяжёлых положили на носилки. К счастью, таковых было совсем немного.
Собрал ротных. Ещё несколько часов назад он хотел провести что-то вроде совещания, но теперь он принял решение, а решение командира, облечённое в боевой приказ, – закон, подлежащий исполнению неукоснительному.
Чётко, ничего не упуская, указал каждой роте и порядок выдвижения к рубежу, перехода в атаку, ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления, в данном случае прорыва. Что же дальше? Если будет это «дальше»? Впрочем, именно вот это «если» он прогнал от себя.
Комбат участвовал во многих боях, но в каждом из минувших боёв у него было гораздо больше надежда на победу. Теперь предстоял иной бой, бой, необходимый даже потому, что в строю батальона были кремлёвцы, были воины, у которых не было выбора. Только победа или смерть.
Перед боем каждый рядовой воин, будь то красноармеец или, как в этом железном строю, кремлёвец, считавший, что он всё ещё курсант, может думать о том, что ждёт лично его, может вспоминать свой дом, своих близких, свою любимую, мысленно сочиняя письмо ей. Его могут одолевать и мысли, тщательно отгоняемые, о том, что этот бой может стать последним.
Ни о чём таком не имеет права думать командир. Перед боем, особенно тяжёлым, командир не думает о себе, и не думает вовсе не потому, что не имеет на то права; он не думает потому, что он командир, а на плечи командира перед боем ложится тяжесть такой ответственности, которая исключает всякие другие мысли, кроме мыслей о выполнении боевой задачи и о возможном сохранении тех, кто по его воле поднимается в атаку. И в эти священные моменты на командира словно нисходит свыше какая-то особая, могучая сила, помогающая подчинить всё его существо самому главному, самому важному – достижению победы в бою.
Этот час настал для комбата кремлёвцев, и под утро, когда хорошо спится даже и у костра, ведь силы-то физические у немцев были на исходе, прозвучали негромкие команды и курсанты двинулись в бой, ещё не ведая, что для многих он станет последним.
На рубеже перехода в атаку прозвучали команды, роты встали в полный рост, чтобы с отчаянной решимостью и свойственным кремлёвцам мужеством ударить в штыки и уйти в бессмертие.
А когда осветили землю ещё тусклые, едва пробивающиеся сквозь облака лучи холодного ноябрьского солнца, на участке прорыва всё стихло и лишь на околице небольшой деревушки продолжал стучать пулемёт. И долго ещё сельчане передавали из уст в уста, как косил метким огнём захватчиков пулемётный расчёт, прикрывший тыл прорывавшихся через вражеские заслоны кремлёвцев. Его меткий огонь не давал немцам поднять головы. Понадобилось время, чтобы подобраться к нему, обойдя с тыла. Бросились озверевшие фашисты на кремлёвцев, но, когда оказались в шаге от пулемета, прогремел взрыв гранаты, и юные лейтенанты, даже не подозревавшие, что они уже давно не курсанты, ушли в бессмертие вслед за своими товарищами, проторившими и для них священный путь обагрёнными вражьей кровью штыками.
А когда на месте позиций полка всё стихло, в Яропольце появились оккупационные власти. Жителей согнали на небольшую площадку перед зданием сельского совета. В толпе односельчан оказалась и школьница Антонина Кожемяко, как и все, потрясённая тем, что происходило на её глазах. Сельчане тревожились. Всем было известно, какие зверства творят эти нелюди на оккупированных территориях. С опаской поглядывали на солдат, окружавших площадку.
Но вот вышел немецкий офицер. Его сопровождал затравленно озиравшийся тип в гражданской одежде, как выяснилось, переводчик.
Офицер заговорил, и переводчик перевёл приказ: жителям пройти по месту боёв и собрать всех погибших, у кого петлички красных юнкеров – кремлёвцы всё ещё были с курсантскими петличками. Собрать и принести за деревню, туда, где уже ревел танковый двигатель. Офицер велел обязательно собрать всех погибших красных юнкеров. Остальных же, уточнил, как хотите…
Сельчане отправились выполнять распоряжение. Приносили тела молодых ребят и складывали их в указанном месте, примечали, что танк с навесным оборудованием отрывает глубокий котлован.
Когда печальный сбор закончился, немец велел сложить всех погибших в котлован. Снова взревел танковый двигатель, и скоро на месте братской могилы вырос небольшой холм. А ещё через некоторое время подошёл длинный строй солдат – видимо, маршевая часть, следовавшая к переднему краю. Солдат выстроили огромным каре, охватывающим свежий холм, желтевший на фоне побуревшего от недавнего боя снега.
Остановилась машина, из неё вышел немец в распахнутой шинели с красной подкладкой.
– Генерал, – пролетел шепоток по толпе сельчан, которую оттеснили от котлована, но не разогнали.
Генерал заговорил, но переводчик, естественно, уже не переводил его слова – переводить начал учитель немецкого языка сельской школы.
Генерал говорил о мужестве красных юнкеров, которого так не хватает тем, кто стоял в строю перед ним. Говорил о том, что если бы они, солдаты фюрера, воевали так, как эти кремлёвские юнкера, то немцы давно бы уже были в Москве, война бы закончилась и они сейчас отдыхали бы в тёплых квартирах, отправляя богатые подарки своим фрау в Германию. Ведь близко Новый год. Он делал упор именно на то, о чём мечтали стоявшие в строю грабители и бандиты.
И тут учитель истории, тоже находившийся в строю, сказал негромко:
– Вот так: главная идея – грабить и убивать… Вот так Наполеон наставлял свою банду ещё перед походом в Италию: «Я вас поведу в самые плодородные на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие города! Вы там найдёте честь, славу и богатство!»
И, помолчав, добавил:
– Для них, всех завоевателей, грабёж и слава – синонимы. Про Бородинское сражение он сказал: «Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми…» Да только вот вся страсть к победе у наполеоновских нелюдей, как и у этих, зиждилась лишь на страсти к грабежам.
Всё это запомнилось школьнице Кожемяко, школьнице, которая по прошествии десятилетий стала директором Музея кремлёвских курсантов в Яропольце, которая скрупулёзно собирала до самой глубокой старости всё новые и новые свидетельства, ценные экспонаты о «красных юнкерах», потрясших завоевателей своими мужеством, стойкостью и своей преданностью социалистической Родине – России.
Антонину Павловну Кожемяко за её трогательное, чуткое отношение к сохранению памяти великого подвига сводного полка называли «бабушкой кремлёвцев», и она до последнего вздоха находилась на своем, избранном ею самою священном посту, провожая каждый год по пять – семь яропольцев в Московское высшее общевойсковое командное училище, как достойную смену тем, кто нашёл свой вечный покой на обильно политой кровью земле Волоколамского края.
Минули тяжелые годы войны, в победном мае сорок пятого на торжественном приёме в честь командующих войсками Красной армии неожиданно зашёл разговор о страдных днях ноября сорок первого, когда враг стоял у стен столицы.
И неожиданно Жуков, который был за одним столом с Верховным, заговорил о наградах за Московскую битву.
– А ведь мы с вами, товарищ Сталин, не были тогда награждены, хотя многие получили высокие награды.
Жуков действительно никакой награды за Московскую битву не получил. Услышав упрёк, Сталин нахмурился, ведь он считал, что Жуков должен знать, почему он не награждён за то, что командовал фронтом у стен Москвы, хотя враг мог и не оказаться в такой близости от столицы, если бы… Вот это «если бы» давно уже не давало покоя Сталину, и он счёл заявление маршала весьма и весьма наглым.
Он молчал, хмурясь, а потом вдруг сказал:
– А своих бл… не забыл наградить…
И грохнул кулаком по столу с такой силой, что ножка бокала с красным вином переломилась и вино разлилось по белоснежной скатерти так, что показалось, будто это кровь окрасила снежный покров подмосковных полей мужества, полей славы, предвосхищая слова будущей песни из кинофильма о великой битве за Москву…
На равнинах снежных юные курсанты…Началось бессмертье. Жизнь оборвалась.Сталин посмотрел на это растущее на скатерти ярко-красное пятно, и, быть может, показалось ему, что отразилась в нём пролитая кровь кремлёвцев, а в белоснежной скатерти «синее сиянье их неподкупных глаз». Он резко повернулся и, ни слова более не говоря, покинул банкет…
Но всё это случилось позже, когда враг был сломлен и повержен могучей волей Верховного, помноженной на мужество, отвагу и стойкость великого русского народа, которому он посвятил тост в начале того памятного банкета.
А пока истекал ноябрь сорок первого, и чаша весов ещё не склонилась в пользу победы над рвавшимся к Москве врагом…
Москва – надежда и спасение
Сталин ежедневно получал самые точные данные о положении дел на фронтах не только под Москвой, но и на всём советско-германском фронте от Баренцева до Чёрного моря.
Но исход всей великой битвы с нашествием варваров Запада решался именно под Москвой. Очередной доклад генерала Ермолина состоялся 29 ноября 1941 года. Ермолин говорил, и его карандаш в тот день уже не только скользнул по обозначениям подмосковных населённых пунктов, но вторгся в линии, квадратики и прямоугольники московских улиц. Сталин узнал парк Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Условное обозначение говорило, что в парке – район сосредоточения только что прибывшей в Москву танковой бригады.
Генерал Ермолин, проследив за взглядом Сталина, пояснил:
– Враг рвётся к Химкам. Взрывать Химкинский мост не хотелось бы, хотя он, конечно, заминирован. Из этого парка бригаду можно быстро перебросить в зависимости от обстановки либо на Дмитровское, либо на Ленинградское шоссе.
Сталин сказал то, что говорил не раз и не уставал повторять, помня, что это слова Кутузова, великого победителя Наполеона:
– Полководец, который не израсходовал свой резерв, не побеждён. – И задал вопрос: – Скажите, Павел Андреевич, когда, по-вашему, гитлеровцы израсходуют свои последние резервы?
– Думаю, что этот час близок.
– До того часа наши резервы должны оберегаться со всею тщательностью. Но вы правы: некоторые из них надо приблизить к переднему краю, особенно там, где враг оказался у стен столицы.
Сталин редко задавал вопросы. Он держал в памяти здесь, под Москвой, всё, до мельчайших подробностей. Без его ведома никто не имел права взять из резерва даже батальон, роту или взвод. Ни один из командующих армиями не знал о том, что есть в резерве Ставки. О том не ведали даже командующие фронтами. Это скрывалось тщательно. О том знал очень узкий круг лиц, в числе которых и Ермолин.
Был самый конец ноября. О тех днях говорили и писали немного. Те дни заслонены в летописи Москвы событиями героическими, легендарными – событиями 5 и 6 декабря, когда началось решительное контрнаступление.
Это были дни, когда гитлеровцы готовились к последнему, решительному штурму, когда их тяжёлые орудия уже устанавливались на позиции, с которых планировался обстрел центра Москвы и Кремля. Это были дни, когда фашисты делали отчаянные попытки прорваться к Москве там, где ближе всего подходила к городу линия фронта, когда их передовые части рвались к Химкам, когда их танки сосредоточивались для прорыва в полосе 5-й армии генерала Говорова в районе Можайска.
На северо-западном направлении линия фронта проходила в двадцати километрах от границы Москвы и всего в тридцати – от Кремля. Из Красной Поляны гитлеровцы рассматривали улицы Москвы в бинокли и стереотрубы.
Во 2-ю немецкую танковую дивизию было завезено парадное обмундирование для триумфального шествия по улицам Москвы и по Красной площади. Взбешённый беспримерным парадом 7 ноября 1941 года, Гитлер мечтал сам устроить шествие своих ублюдков в покорённой Москве. В тот день, 29 ноября, он объявил, что «война уже выиграна».
Гитлеровская пропаганда вселила эту уверенность в умы солдат и офицеров. Штабной офицер Альберт Неймген написал домой:
«Дорогой дядюшка! Десять минут назад я вернулся из штаба нашей дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через несколько часов это наступление начнётся. Я видел тяжёлые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших пехотинцев, которые первыми должны пройти по Красной площади. Это конец, дядюшка, Москва наша, Россия наша. Тороплюсь. Зовёт начальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы».
Уверенность гитлеровцев в победе основывалась на железных фактах. Численное превосходство их в живой силе было почти двойным, танков было больше в полтора раза, а артиллерии – в два с половиной раза. На Клинском направлении, откуда он грозил Химкам и собирался ворваться в город по Ленинградскому шоссе, против 56 танков и 210 орудий нашей 30-й армии враг имел более 300 танков и 910 орудий. А всего к началу декабря гитлеровцы сосредоточили на Московском направлении 800 тысяч человек личного состава, 10 тысяч орудий и миномётов, свыше тысячи танков, свыше 700 самолётов. Более 350 самолётов было предназначено для налётов на столицу.
29 ноября Гитлер, благословляя своих генералов на последний, по его мнению, штурм, снова приказал оставить, теперь уже на 2 декабря, во всех берлинских газетах свободные полосы для важного сообщения – сообщения о взятии Москвы.
Гитлер был мистиком и верил тому, что говорили ему всякого рода экстрасенсы и оккультных дел мастера. А они заявляли, что если Германия не одолеет Россию до 1942 года, то не одолеет уже никогда, ибо ХХI век будет веком сияния Руси. Вхождение же в этот век случится заранее. Оно придётся на начало сороковых века двадцатого: 1942-й – самое начало, 1943-й – резкий подъём, 1944–1945 годы – кульминация подъёма. Затем будут подъёмы, будут и спады, но сороковые годы станут решающими годами.
Сталин не был мистиком, хотя и интересовался оккультными вопросами, разумеется, лишь потому, что их взял на вооружение враг. Сталин верил в Промысел Божий. Великая Отечественная война началась 22 июня – в День Всех Святых, в Русской земле просиявших, а Московская битва – в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – 30 сентября. Сталин помнил и о том, что грядут великие православные праздники: 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, а начать контрнаступление он мыслил 6 декабря – в День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Сталин не был мистиком, во всяком случае, не был мистиком сатанинского, гитлеровского толка, но он знал, что русский меч обрушит на врага своё неотвратимое, сверкающее Божьей правдой возмездие в нужном месте и в нужное время. Он знал, что это место – Москва! Он знал, что это время – День памяти святого благоверного князя Александра Ярославича, названного Невским за победу в нужном месте и в нужное время – на Неве, в июле 1240 года.
Он помнил давнее предание, передававшееся волхвами из уст в уста и не утраченное ещё ко времени суровых испытаний 1941 года.
«…Давно это было, очень давно.
Священная земля русов была полонена врагом, жестоким и коварным.
Стонала земля, стонали люди, загнанные в глухие леса. И безответным оставался глас народа, прогневавшего Всемогущего Бога инобесием, вероотступничеством и междоусобиями. И тогда люди пришли к чернецам, к молитвенникам, скрывавшимся в глухих пустынях и катакомбах разрушенных монастырей.
“Как одолеть врага?” – вопрошали люди.
“Готовы ли вы к суровым испытаниям? – спрашивали у них чернецы и ответствовали отчаявшимся, измученным мирянам: – Пусть те, кто готов отдать жизнь за Родину, принесут нам свою кровь, кто сколько сможет. Но это должна быть алая горячая кровь воинов, ибо жижа, текущая в жилах торгашей, будет бесполезна. И тогда мы соберём эту дымящуюся кровь в жертвенный сосуд. С верой и молитвой избранные старцы выпарят растворённое в ней железо. И только тогда, когда его хватит на меч, в дело вступят кузнецы. В полутёмной кузне на окраине невидимого града Китежа, под дружными взмахами молотов, под тяжкие вздохи мехов горна и гудение пламени, в россыпях горящих искр родится сверкающий меч неотвратимого возмездия. Страшными будут его удары. Настанет Божий суд. Справедливость будет принесена на острие клинка. “Не мир принёс Я вам, но меч!” И реки ядовитой вражеской крови потекут по нашей земле. Они омертвят и города, и деревни, словно кислота, разлагая и растворяя в себе всякого стоящего на их пути. Но растворить огненную сталь карающего русского меча им будет не под силу. И в кровавом зареве последней битвы вы увидите тяжкую, долгожданную победу”».
Сталин знал, что кровавое зарево, сквозь которое будет видна победа, должно возжечься под Москвой, ибо слово «Москва» по энергетике означает – «объединитель завершающего созидания сущности жизни». «Москва» в переводе с санскрита – «объединение, спасение». Летопись Москвы можно обратить во времена, когда, по преданию, Юрий Долгорукий положил летописное начало этому священному граду. Юрий – иначе Георгий, а Долгорукий – иначе Победоносец. Именно «Долгорукая» (победоносная) Москва достигла Великого океана и, перебравшись через него, ступила на Аляску и далее на юг, образовав Русскую Америку, утраченную в более поздние времена в результате измены императора, известного нам под именем Александра I. Москва освоила Антарктиду. Возможно, Сталин предвидел, что позже Москва обретёт мирный атом и первою выйдет в космос, а космическая станция будет названа мистически, по воле Всевышнего, заставившего людей, ненавидящих Москву, назвать её МКС. Ведь эволюция слова «Москва», если обратиться в глубь времён, имеет такие этапы: Москва – Моска – Мокса – МКС.