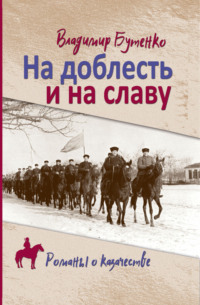Полная версия
Державы верные сыны

Владимир Бутенко
Державы верные сыны
Трилогия
Книга первая
Вы други мои, други, вы донские казаки!Вы послушайте, мои други, что я буду говорить:Хвалится, похвалится Закубанский Большой хан.Он хвалится, похвалится на тихий Дон побыватьИ батюшку, славный тихий Дон, насквозь пройти,А матушку, широку Волгу, в обретки перебресть,Яик-то, славный город, он шапками заметать!Неужто у нас не стало на тихом Дону казаков?Неужто они не станут за отцов своих, матерей?Неужто не станут за жен своих, за детей?Старинная казачья песняЧасть первая
1Под утро сотника Ремезова объял пресладкий сон: будто бы сидит он в обнимку с Малашкой, старшинской дочкой, на берегу Дона, летнее солнышко клонится за старые дубы, ласточки по ясной воде крыльями чиркают, мелкие кружочки оставляют. А девица озорная, первая черкасская красавица, требует: сколько кружков – столько раз поцелуй меня! Он и рад-радешенек, старается так, что губы пухнут…
Громкий заполошный перестук копыт вырвал его из забытья! Он открыл глаза и, приподняв голову, насторожился. Слух уловил гортанную татарскую речь. Этих голосов он прежде в ауле не слышал. Доносилась медленная поступь лошадей. Вероятно, их водили, не давая остывать после длительной скачки.
Растущее беспокойство заставило отбросить тяжелое одеяло, сшитое из бараньих шкур, и подняться. Хромая на раненую ногу, Леонтий приблизился к двери отова, небольшого шатра с войлочными стенками, глянул в щель. Брезжила заря. Дул теплый ветер, отдающий горечью полыни кубанской степи и духом лошадей.
Все кибитки в ауле, – и малые, и большие, тэрмэ[1], – издревле ставились ногайцами-кочевниками дверьми на юг. И Ремезову не было видно, кто приехал в этот ранний час к аул-бею. Казака, Ивана Плёткина, оставленного полковым командиром для услужения офицеру, опять, должно, бес угнал на охоту. На стрепетиные точки. Уж больно хотелось свежей дичатинки – обрыдла изо дня в день соленая конина! Март до середины добрался, теплынью баловал – усидишь ли в безоконной темнице, когда всё кругом к жизни тянется?
За несколько минут, что ожидаючи у двери простоял, разбередил рану на ноге. Но терпел, – недоброе предчувствие не отпускало. Откуда гонцы? Кабардинцы или ханские посланники?
Наконец, глава аула, Керим-Бек, как требовал обычай гостеприимства, встретил приехавших перед своим тэрмэ. После магометанского приветствия, один из незнакомцев заговорил по-ногайски: «Кош гелды!» – «Алла разы босун»[2]. И по утихающей речи сотник понял, что аул-бей пригласил их в жилище.
Леонтий подошел к приземистой кровати, с наклонными спинками, называемой орын-дык, подумал, что за недели вынужденного пребывания у ногайцев выучил немало слов и обиходных фраз. Но тоска по родным казачьим душам не только не притерпелась, а наоборот, с вешними днями навалилась пуще. Ладно, хоть с Плёткиным переговариваться можно да песни затягивать. Хоть и горяч тот по натуре, своенравен и сам себе на уме, но командира в обиду не дает. Не только охраняет, но упрямо требует от жен аул-бея, чтобы давали «их благородию» еду получше да не жалели чая. А за действиями знахаря, старика Якуба, наблюдает с недоверчивым прищуром, хотя именно его снадобья способствовали скорому излечению сотника…
Стычка произошла молниеносно. Казачий разъезд Ремезова следовал вдоль берега Еи, когда из-за излучины, прикрытой зарослями камыша, внезапно вылетел отряд крымчаков. Сблизившись с казаками саженей на тридцать, они метнули стрелы, пальнули из ружей и круто повернули коней вспять. Стрела вонзилась в левую ногу Леонтия, но он держался в седле, пока ни отогнали башибузуков. Потом потерял сознание. Смутно помнилось, как везли его в армейской фуре, как оказался в ауле кочующей к российской границе едисанской орды.
Угроза нападения крымско-турецкого войска Девлет-Гирея побудила ногайские орды – буджаков, едисанцев, едичкульцев и джамбулуков – удалиться от Тамани. Они больше не хотели возвращаться в Крым и служить хану. Ставленник Османской империи, или Порты[3], Девлет-Гирей пытался подчинить мечом ногайских воевод, подписавших мирный договор с Россией.
Незадолго до ранения Ремезов присутствовал в палатке командира полка Матвея Платова, когда докладывал лазутчик. По его словам, крымчаки дождались подмоги из Туретчины, укрепились черкесской конницей и сотней казаков-некрасовцев. Именно то, что донцы, переметнулись к неприятелю, более всего вызвало гнев Платова.
– Попадется, кто из некрасовцев, – перебил он лазутчика, – никого не миловать! Казак до смертной минуты должен быть заступником православия и родной земли.
– Любо, Матвей Иванович! – слаженно отозвались подчиненные. Они ведали, что их бесстрашный командир был в любимцах у командующего 2-й армией Долгорукова. Только опасность прорыва крымчаков на Дон заставила князя включить в сводный отряд подполковника Бухвостова, наряду с гусарами и драгунами, казачьи полки. Все командиры надежные, проверенные в сражениях на Перекопе и при взятии Кинбурна. Сам Платов не раз повторял офицерам своего полка наставление командующего:
– Не токмо я, командующий, но и государыня наша, зело верим и в надежде пребываем, что отпор дадите на посягательства врагов. Елико возможно бдите за перемещениями депутаций от крымских татар. Хан их коварство тешит: всколебать ногайские орды с тем, чтоб выступили вероломно супротив нас. А у ногайцев, други мои, восемьдесят тысяч казанов, то бишь человек мужеского пола, способных воевать. Сила велика, но нуждается оная в обороне от татар. На вас возлагаю сей долг и надеюсь весьма, что не посрамите честь державы!
Тогда, в походе, и был ранен Ремезов. Полковой лекарь, узнав от приехавшего к Платову мурзы, что в ауле есть знахарь, поразмыслив, передал ему сотника, у которого начиналась горячка. Аул влекся к истокам Еи, вглубь степей, под прикрытием отряда Бухвостова, и командир полка поддержал это решение.
Но пути отряда и едисанцев разошлись.
Собравшись с силой, Ремезов отложил дверь, завешенную кошмой. Глаза, привыкшие к полумраку, на мгновенье ослепли! Он зажмурился, как в детстве, подставляя лицо напористому ветру, теплым лучам, слыша поднебесные трели жаворонка и гомон детворы.
Когда же глянул вдоль кибиток то заметил, что аульцы заняты разбором жилищ, стоявших правильными рядами. И стар и млад поспешно сворачивали войлочные маты, разбирали деревянные решетки тэрмэ, грузили их на арбы и телеги. Уже в отдалении маячили табуны, буйволиное стада, косяк верблюдов. Пастухи бдительно охраняли их.
У тэрмэ мурзы стоял его охранник Муса и незнакомый гость в пестром бешмете, поверх которого была надета черкеска без газырей, с широкими рукавами. Чужак встрепенулся, увидев казачьего офицера, что-то спросил у охранника, тот коротко ответил и сделал успокаивающий жест. Жены Керим-Бека, Джамиля, Алтынай и Мерджан вместе с детьми бродили по луговине, и Ремезов догадался, что их на время разговора удалили из шатра. Старшая из двух дочерей, Еране, черноокая шалунья, которую уже засватали, щебетала, подражая птице, и радостно смеялась. И Леонтий тоже повеселел, слушая, как девочка перекликается с жаворонком.
Вдруг дверь жилища мурзы открылась и порывисто вышли два бородача, также одетые в бешметы, вооруженные саблями и кинжалами. Заметив русское лицо, они неприязненно нахмурились.
– Бу ким? – проговорил один из них, кладя ладонь на рукоятку кинжала, и тряхнул чалмой.
– Азиз достум! Ремезов эфенди[4], – отозвался вышедший следом мурза Керим-Бек, толстенький, с редкой бородкой, немолодой уже человек, неопределенно улыбаясь. – Офицер-казак!
По всему, это были ордынцы. Их слуга подвел лошадей. С выражением крайнего разочарования на лицах гости вознеслись в седла.
– Огъурлы ёллар олсун! – подняв руку, произнес аул-бей.
Всадник в чалме, трогая свою гнедую, гневно бросил:
– Ким бильмейдр моллады, ол бильмейдр Аллахды![5] – и стеганул лошадь короткой плеткой. Его спутники также подхлестнули коней, разгоняя их в черноморскую сторону, где гнездилось воинство крымчаков.
«Всё-таки ханские посыльные! – убедился сотник, пристально глядя на мурзу. – Ради чего они приезжали? И чем закончился разговор?»
Керим-Бек, по-утиному ступая носками вовнутрь, подошел к казачьему офицеру, с прежней блуждающей улыбкой. Но заговорил голосом срывистым и суровым:
– Калга крымский приказ давал. Мурзу с муллой присылал. Обратно Крым ходить. Я «нет» сказал. Русской царице сераскир[6] и мурзы наши клятву давали. Как воевать против России?
– Воевать с Россией вам не надобно, – подтвердил Леонтий, ощутив слабость в ногах и головокружение, – опьянил, пожалуй, этот степной вешний воздух.
– Будем дальше ходить! – заключил аул-бей и показал рукой на загруженные арбы, выстроенные обозом. – И тебе надо!
– Придет мой казак, и тронемся, – согласился Леонтий. – Я в седло сяду!
– Офицер-казак – азиз достум! – повторил глава аула и нетерпеливо подал знак Мусе, чтобы позвал жен, предупрежденных о переезде.
2Подполковник Ряжский прибыл к Стремоухову, представителю императрицы Екатерины при ногайских ордах, и срочно пригласил на секретное совещание Бухвостова и командиров казачьих полков Ларионова, Платова и Уварова. Глинобитную мазанку, занимаемую приставом Стремоуховым, жарко натопили сеном и кизяками. И прибывшие офицеры, сбросив тулупы и бурки, остались в отдающих табаком и пороховой гарью мундирах. Трехсвечный канделябр освещал походный стол, на котором пестрела карта Черноморья и Кубани, и окруживших его военачальников.
– Господа, мне поручено довести до вашег сведенния депешу от командующего 2-й армией генерал-аншефа Долгорукова, – с озабоченным видом объявил Ряжский. – Обращаю внимание ваше на ее конфиденциальность. Выяснилсь, что бывший донской атаман Данила Ефремов, арестованный за лихоимство и захват войсковых земель, имел тайные сношения с кабардинскими владетелями, татарами и заявление делал среди приспешников, что умысел имеет «натрясти бед России, о которых она не скоро забудет».
Ряжский, рослый гвардеец с черными подкрученными усами, сделал внушительную паузу и поднял голос:
– Еще тревожней донесения с Урала и Волги. Злодей Емелька Пугач, выдающий себя за покойного императора Петра III, собрал войско, смутил яицких и волжских казаков, башкирцев и работный люд на приисках. И неисчислимыми злодеяниями в ужас привел население многих слобод, деревень и городков. Высланные наши полки теснят Пугача, но по причине их немногочисленности разбить шайку не удается. Окаянство сие угрожает всей державе! Доподлинно известно, что Пугач пытается установить сношения с новоявленным крымским ханом Девлет-Гиреем. Порывался он, к тому же, переметнуться на Кавказ или в Крым!
Крайне взволнованный, побледневший, порученец вновь перевел дух. Бухвостов, куривший трубку, осторожно пустил к потолку колечко дыма. Красавец Ларионов поправил свои светлые отросшие волосы, упавшие на лоб. А смуглолицый Платов, прикрыв глаза, казалось, подремывал.
– Главные силы нашей армии по-прежнему в Польше, Бессарабии и в Малороссии. Дон ослабел из-за поголовного призыва казаков на службу. Кабардинцы ненадежны, готовы нарушить клятву, данную государыне. Порта этим воспользоваться намерена. И вопреки Карасунскому договору, освободившему Крымское ханство от османов и давшему независимость, новый турецкий султан виды имеет и на Крым, и на наши азовские крепости. Говорю сие, дабы помнили, господа офицеры, сколь велика ответственность наша. Благоусердие на службе и ревностность, наипаче дисциплина, надобны как никогда, – Ряжский устало положил ладони на край стола. – На карте мной отмечены позиции неприятеля. Девлет-Гирей, имея преогромное войско, намерился вести баталии с отвергшими его едисанцами. Его цель: вернуть ногайцев под свою власть.
– Одно упорное посягательство на разбой, без всякой першпективы, – сорвался Стремоухов. – Я многажды беседовал с Шагин-Гиреем, ученым и мудрым человеком. Он уверяет, что ногайцам, больше нет резона принимать покровительство Порты.
– История Большой Ногайской орды весьма противоречива, – возразил Ряжский. – Один Господь знает, что у них на уме. Нам приказано оградить от крымчаков кочевья ногайцев. Однако у Девлет-Гирея значительный перевес в людской силе. Казаки, гусары и драгуны противостоять супостатам должны примерно. Не о животе своем и достатке думать, идучи в бой, но о чести России! Пропустить Девлет-Гирея на Дон, означает, – ударить ножом в сердце Отечества! Ежель мнимый крымский хан Девлетка сомкнётся со злодеем Пугачом, свершится то, о чем замышлял Ефремов: «натрясти бед России».
– Нам не привыкать – биться, – встряхнувшись, твердо произнес Матвей Платов. – С янычар саблями мы в Крыму уже скрещивались.
– По всей диспозиции, следует ожидать от крымчаков скорого наступления, – предположил Бухвостов. – К баталиям готовы. Да было бы для единорогов наших пороху вдосталь! Потребно усилить ночные дозоры и кордоны, дабы неприятель не застиг врасплох.
– Из Черкасска и крепости ростовской отправлены обозы с порохом и прочим армейским довольствием, – сообщил Стремоухов. – Помня измены татар и мурз, намерен я отрядить к Черкасскому тракту прикрытие армейское. Такожды план имею понудить предводителя Джан-Мамбета-бея со всеми ногайскими кочевьями расторопно начать передвижение.
– Должен уведомить вас, господа, что закубанские ногайцы настроены к России враждебно, – решительно вступил в разговор Ларионов. – Вряд ли они вступят в бой с единоверцами-магометанями. Одначе донцы дисциплину соблюдают, их никак не трогают. Но буде заметят откровенное вероломство, – ручательства дать не берусь…
Совет затянулся до утра. Порученец генерал-аншефа торопился и отбыл первым. За ним последовал Бухвостов. Донцы задержались у Стремоухова. По-свойски выпили из старых запасов бессарабского и разыграли банк. Живее остальных выглядел Платов, он лукаво щурился на компаньонов, с размаха метал карты.
Следующей ночью полк Ларионова был атакован неприятелем. Казаки храбро приняли бой, отразили ружейными залпами черкесов и пустились за ними вдогон. Потери с обеих сторон оказались невелики.
Участившиеся нападения встревожили не только генерал-аншефа Долгорукова, но и полномочного в русско-крымских негоциациях[7] генерал-поручика Евдокима Алексеевича Щербинина. В начале года, когда крымчаки разбили конницу ногайского сераскира Казы-Гирея и находившийся с ним отряд пристава Павлова, пришлось с разрешения главного царедворца Панина взять из казны слободской губернии тридцать пять тысяч рублей. Шагин-Гирей, брат законного крымского хана Сагиб-Гирея, был направлен к пришедшим в смятение ногайским ордам, чтобы подкупом благо-расположить их к русскому престолу. Тогда, к счастью, удалось склонить на свою сторону колеблющихся беев и мурз…
Безусловно, Шагин-Гирей (он сложил с себя обязанности калги, намериваясь стать ханом) был ключевой фигурой в стратегических планах российских политиков. Недаром более года пребывал с крымской делегацией в Петербурге, где сумел снискать уважение. По велению государыни ему милостиво выделяли по сто рублей для проживания в богатых апартаментах. Но зарвался было, когда потребовал, чтобы не он первый ехал в царский дворец, а сам Панин пожаловал к нему и мурзам-делегатам от ханства. Когда упрямцу разъяснили, что существует дипломатический этикет, крымский гость заявил, что на аудиенции в Госсовете не снимет головной убор, как того требует магометанство. Условие было жестким, и императрица, избегая конфликта, нарочито подарила Шагину шапку, усыпанную драгоценными камнями. Вдобавок пожаловала татар особым церемониалом, который был установлен для послов Порты и Персии, и позволял везде появляться с покрытыми головами.
Баловала матушка-царица красивого, довольно образованного татарина, знавшего европейские языки. Тотчас по приезде в Петербург он был осчастливлен, помимо щедрых подарков, – серебряного сервиза, шубы, модного платья, – пятью тысячами рублями на расходы. Шагин растратил их моментально, и Панину пришлось в который раз ссужать калгу изрядненъкой суммой – десятью тысячами рублей.
Жил крымский посланец на широку ногу, бывая всюду, куда приглашали, – на светских балах, на куртагах, на военных парадах и приемах. Перстень и табакерку, пожалованную Екатериной по случаю приема в Царском Селе, Шагин-Гирей заложил купцу Лазареву. И Панин был вынужден вновь раскошелиться, за государственный счет выкупить подарки императрицы!
Откровенно вызывающее поведение Шагин-Гирея раздражало не только Панина, но и других членов Государственного совета. Крымчаку стали намекать, что пора и восвояси. Но тот не спешил, дожидаясь, когда послы ногайских орд получат Высочайшие грамоты. И еще почти год жил в Петербурге европейцем, не жалея российской казны.
Щедрость императрицы и расположение сановной знати в значительной мере изменили Шагин-Гирея. В свои двадцать пять лет он выделялся широтой знаний и твердым характером. В подлинниках читал греческих и римских философов. Покидая имперскую столицу, калга принял не только письма князю Долгорукову и генерал-поручику Щербинину, но и Высочайший рескрипт хану, брату своему Сагибу.
Однако в Бахчисарае за время его отсутствия многое изменилось. И по вступлении в должность паши, во время заседания Дивана, высшего совета ханства, его слова в пользу России, его укоры единоземцам за нарушение клятвы, данной Екатерине Великой, были встречены ультиматумом, что «действиями России, отнимающей земли и обращающейся с ними лживо, крымчаки обмануты и огорчены». – «Ничего подобного Россия не делает! – ожесточился Шагин. – Да если бы Россия захотела мстить за вероломство, то ничего ей не стоило бы обратить Крым в пустыню. И это может случиться, если вы будете продолжать вести себя вероломно. Выдайте мне возмутителей мира и спокойствия, если намерены ожидать дальнейшей милости от России».
И тот же самый состав Дивана, который два месяца назад одобрил Карасунский договор, безмолвствовал. «Полномочия, возложенные на меня при отъезде в Россию, обязывают вас повиноваться!» – потребовал Шагин-Гирей. Ему ответили без обиняков: «У нас есть хан, которому мы и повинуемся».
Спустя несколько месяцев он отказался от полномочий второго человека в Крымском ханстве и перебрался в Перекоп, к главнокомандующему 2-й русской армией Долгорукову.
Шатание ногайцев, смущаемых крымчаками, побудило Щербинина направить в Петербург предложение назначить Шагин-Гирея кубанским сераскиром, поскольку среди ногайцев тот пользуется уважением. Но последовал Высочайший ответ: в сераскиры провести Казы-Гирея, и лишь в случае неудачи оного замысла – Шагина. Теперь бывший калга находился среди едисанцев и буджаков, убеждал их не поддаваться на провокации ставленников Порты. Но слова его обретали силу только вкупе со щедрыми, корыстными подарками «российской королевы Екатерины»…
3Этой холодной ночью, на исходе февраля, императрица, крайне вздернутая и одинокая, ни на миг не сомкнула глаз. Она была заранее уверена, что Гришенька Потемкин поздним вечером, как обещал, пожалует к ней для уединенного разговора.
Не пришел. А ведь больше десяти лет, поди, был у нее на примете, – вначале придворным балагуром, затем камергером. Веселил, говорил на разные голоса, пародируя царедворцев, пока однажды не обрушился на нее с критикой за поддержку просвещенного абсолютизма. Лишенный благорасположения, он решительно ринулся в пекло русско-османской войны. Правда, в те дни сердце ее дрогнуло, и камергера Потемкина она произвела в генерал-майоры. А после радовалась искренне его армейским успехам. За неполные пять лет пребывания в действующей армии Потемкин дослужился до звания генерал-поручика, обретя неоспоримый авторитет.
И теперь, в начале 1774 года, когда Панин со товарищи затаили умысел лишить ее власти и передать бразды правления государством сыну, Павлу Петровичу, – Екатерине понадобилось, чтобы рядом с ней постоянно находился надежный защитник, – боевой офицер и бесстрашный, преданный мужчина.
Случайное признание цесаревича, а затем объяснение с Паниным, подтвердившим, что Каспар Салтерн склонял молодого Павла к введению в России сорегенства вызвали у Екатерины бешенство. Впрочем, Панин же и отговорил ее, объятую праведным гневом, не торопиться с отзывом Салтерна из Дании, где находился тот в посланниках. Успеется, со временем будет повод выгнать голштинца с государственной службы.
Реальная опасность отстранения от власти могла быть отодвинута только с помощью влиятельного при дворе человека. Тут Екатерина похвалила саму себя, поелику еще в декабре прошлого года в письме Григорию Александровичу Потемкину тонкими намеками звала его в Петербург. На августейшую депешу «генерал-поручик и кавалер» откликнулся только через полтора месяца, прибыв в столицу 3-го февраля. Но повел себя осторожно и даже несколько спесиво. Несмотря на откровенные знаки внимания, он всего лишь дважды приезжал к ней за первые десять дней.
Пришлось отправить ему исповедальное письмецо со словами: «Ну, Господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться отпущения грехов своих… Бог видит… Если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви… и если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, а наипаче люби и говори правду».
Гордец Потемкин четыре дня безмолвствовал. И вот только вчера, 25 февраля, около полудня появился в Зимнем дворце и дал уклончивый ответ, что постарается вечером быть у нее в апартаментах для полного объяснения. Но и тут обманул! Именно это сугубое непостоянство больней всего ранило сердце влюбленной женщины. Она металась по спальне, по своей просторной уборной, с огромным зеркалом, отражающим огни канделябров. Собственноручно подбрасывала дрова в горящий камин и мысленно вела с Потемкиным разговор, порицая его и призывая быть доверчивей…
Когда ровно в шесть утра ударил в колокол дворцовый звонарь, Екатерина встретила в большой уборной камер-юнгферу Марию Саввишну Перекусихину уже одетой, в окружении полудюжины любимых левреток, дрожавших от прохлады.
– Пресвятая Дева! Вы уже не спите, матушка государыня? – затянула угодница, озабоченно улыбаясь и принимаясь гладить ласковых и веселых собачек. – И шалуньи тоже!
– Где же девушка-помощница? – с досадой проговорила Екатерина. – Зело тороплюсь, призовите ее.
– На одной ножке, – пыхнула услужливая придворная и, минуту спустя влетела с недавно определенной в покои статной девицей. Екатерина Алексеевна, по обыкновению, прополоскала травяным отваром во рту, затем кусочками льда натерла лицо и шею. Раскрасневшаяся, взбодренная, она вошла в свой рабочий кабинет, пропустив вперед смычку левреток и семейку Тома, итальянского грейхаунда, подаренного ей бароном Димсдейлом. Песик и его очаровательная женушка Мими, бойкая и кокетливая, вильнули к камердинеру, обновлявшему в канделябрах свечи, обнюхали его высокие сапоги и брезгливо фыркнули, уткнувшись мордочками в платье хозяйки. Немолодой слуга конфузливо замер от приключившейся незадачи.
– Прошу вас, оставьте меня, – бросила Екатерина и, поправляя платье, плавно села в свое богатое вольтеровское кресло. Вспомнился вдруг обаятельный Фридрих Гримм, также большой ценитель собак, с которым она уже несколько месяцев вела по вечерам беседы и – не могла наговориться. Впрочем, и с Дидро, знаменитым французским мыслителем, гостящим сейчас в Петербурге, встречи затягивались. Он добровольно взял на себя роль наставника, призывал ее к реформам, отмене крепостного права и другим смелым преобразованиям. Она внимала учтиво и благосклонно, стараясь быть достойной ученицей. Но как-то не сдержалась и урезонила Дидро: «Вы имеете дело с гладкой и ровной бумагой, а я с человеческим материалом. Это гораздо трудней!» И все же это были собеседники, учившие ее житейской мудрости. Всё импонировало в просвещенных европейцах: и философский склад ума, и воспитанность, и чуткие сердца. Немало пользы могли бы они принести России! Но, сославшись на рекомендации медиков переменить климат и незнание русского языка, Гримм отказался от предложения служить при Дворе и засобирался в Италию. Там оказывать ему помощь она поручила «Альхену» Орлову, преданному и… непредсказуемому другу, главнокомандующему русскими силами в Архипелаге. Впрочем, Алексей Григорьевич, славный «Чесменский герой», уже второй месяц отдыхал в Москве. Она сочувствовала «Альхену», но окончательно вернуть на родину не решалась: война с Турцией продолжалась шестой год, и некем было заменить опытного резидента…
На рабочем столе лежали рукописи государственных дел, стопка чистой бумаги. В стаканах письменного прибора, изготовленного из малахита и украшенного камнями, стояли заточенные перья и карандаши. Мысли вновь вернулись к Потемкину. Она взяла перо и, откинув крышку серебряной чернильницы, обмакнула в нее легкое стило. Свободной рукой поднесла к лицу табакерку, глубоко вдохнула крепкий, бодрящий запах и стала строчить: «Благодарствую за посещение, – с издевкой начала она и вздохнула. – Я не понимаю, что Вас удержало! Неуже (в спешке она не дописала «ли»), что мои слова подавали к тому повод? Я жаловалась, что спать хочу, единственно для того, чтоб ранее все утихло, и я б Вас и ранее увидеть могла. А Вы, тому испужавшись, и дабы меня не найти на постели, и не пришли. Но не изволь бояться. Мы сами догадливы. Лишь только что легла и люди вышли, то паки встала, оделась и пошла в вифлиофику[8] к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа; и не прежде как уже до одиннадцатого часа в исходе я пошла с печали лечь в постель, где по милости Вашей пятую ночь проводила без сна. А нынешнюю ломаю голову, чтоб узнать, что Вам подало причину к отмене Вашего намерения, к которому Вы казались безо всякого отвращения приступали… Одним словом, многое множество имею тебе сказать, а наипаче похожего на то, что говорила между двенадцатого и второго часа вчера, но не знаю, во вчерашнем ли ты расположении и соответствуют ли часто твои слова так мало делу, как в сии последние сутки. Ибо всё ты твердил, что прийдешь, а не пришел. Не можешь сердиться, что пеняю. Прощай, Бог с тобою. Всякий час об тебе думаю. Ахти, какое долгое письмо намарала. Виновата, позабыла, что ты их не любишь. Впредь не стану».