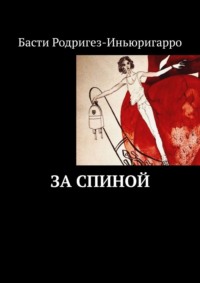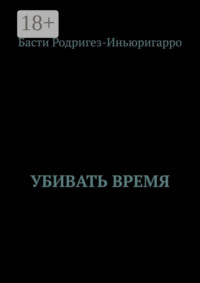Полная версия
Пограничная зона
Секунду он чувствует себя виноватым – за каждого полуторного. Потом отмечает непринуждённость, с которой она произнесла слово «сногсшибательность» – ни бравады, за которой прячется неуверенность, ни самоиронии, за которой – рана. Она знает, что хороша, и не нуждается в подтверждении, она несёт себя как чистое зло и не нуждается в оправдании, каждый её жест – выстрел, но выстрел с глушителем: никакого треска, всё по делу.
– Но шевельнулось предубеждение, окрасившее первую встречу, – продолжает гусеница. – Полыхнул макабрический свет, окутавший последнюю. Как ни странно, сомнения исчерпал до забавного прямолинейный сон – высшей пробы ночной кошмар. Если финала не считать.
Гусеница смотрит на столешницу и словно читает бегущие по ней титры:
– Я стояла у прилавка, и за прилавком тоже стояла я, а под стеклом, на льду, между гребешками и лососем, лежал мой муж. Ещё живой, но уже неподвижный. Я, которая за прилавком, утверждала, что по частям это счастье не продаётся. Другая я торговалась, объясняя, что упаковать, а что оставить. Спорили, пока он не умер – от переохлаждения или в качестве акции протеста, – она вскидывает голову. – Это ещё не всё.
– Потрясающе, – выдыхает он.
И проваливается в пограничную зону. Опять в млечный туман. Как никогда уместно – на языке вертелся вопрос: – «А кто выложил его на витрину?». Бессмысленный выпад. Гусеница сама сказала: до забавного прямолинейный сон. Она у прилавка, она за прилавком. Коллизия вокруг принятия – полного, избирательного… Да ей не позавидуешь.
А ему? Что надуло ему в сновидения стынь и глубоководную синюю смерть? Предчувствие лестного предложения, циничной подмены, почётного места на колотом льду?
Он возвращается быстрей, чем мгновенно – за секунду до выброса. Или гусеница буксует.
– Это ещё не всё, – теперь она смотрит ему в лицо, но мимо глаз. – Я обернулась и увидела второй прилавок. У противоположной стены. Противопоставленный. Как другой полюс. Но несмотря на противопоставление, он отличался от первого только положением в пространстве. Догадайся, кто собирался испустить дух на витрине. Я тебя сразу узнала. Издалека. Пересекала зал по законом жанра вечность и ещё пару часов. За это время у кассы собралась какая-то публика, и вроде даже жрать тебя – на словах – намеревались не все: что-то слышалось про отогреть и откормить… На убой, не иначе. Мне казалось, они не видели табличку: «Не продаётся по частям». Мелким шрифтом, гораздо мельче, чем на первом прилавке. «Сейчас некого будет делить, глаза уже затянуты плёнкой», – подумала я. А потом кошмар превратился в шоу, – гусеница наконец фокусируется на его зрачках. – Только что лежал, свернувшись, и вдруг – с фонтаном стекла – поднялся, проморгался, проехался оценивающим взглядом по набежавшим спасателям и сказал эту свою коронную фразочку, в которой больше эффектности, чем правды, но боже, какая ностальгия…
– Какую фразочку? – спрашивает он, готовя кисть для фейспалма.
– «У вас столько нет», – кривит губы гусеница.
Руку до лица он не доносит. Судороги смеха на сей раз беззвучны, но на глазах снова проступает истеричная морось, пока рассказ завершается торжествующим:
– Сказал и ушёл в пограничную зону. Не умер, а именно свалил. Не смогу объяснить, как это выглядело.
– Слишком хорошо для нон-фикшна.
– Было бы слишком хорошо…
– Будь всё наоборот?
Она пожимает плечами:
– Я не желаю тебе смерти. Было бы слишком хорошо, закончись первая часть так же, как вторая. Хотя бы так же.
– Да ладно. Разве ты не задаёшься вопросом, какого чёрта я сижу здесь, а тот, кто любил тебя, превратился в не поддающийся романтизации труп? Неужели не мечтаешь поменять нас местами?
Она молчит. Думает. Отвечает:
– Мне кажется, ты успокоишься, если я скажу, что ты прав. Убедишься в моей откровенности или ещё в чём… Я предпочла бы видеть его живым, но так, как ты формулируешь, я вопрос не ставлю.
– Господи, – он закатывает глаза. – Ты лучше меня.
«Или ты лицемеришь. Или любовь не была взаимной», – заключает он не вслух, и тут же мысленно, но отрезвляюще, бьёт в собственную челюсть: – «Хватит судить по себе!».
Красное золото в стаканах сменяется талыми лужами на донышках. Он спрыгивает со стойки.
– Мне нужен союзник, – шепчет гусеница.
– Это не так называется.
– Как ни назови. Шастать в пограничье можно не только из самой вонючей трясины. Повторяю, не хочешь нырять в болотце – не надо. Мне даже на руку твоё намерение туда не соваться. Мне нужен стержень для остальных ярусов. Знакомых лиц не увидишь, гарантирую.
– Из меня получится хреновый стержень, – замечает он. – Я не стану торчать здесь безвылазно.
– Это не обязательно.
– Не сочту своим долгом являться по первому требованию.
– А второе требование тебя взбесит, если решишь не являться. Это можно понять.
– Моё душевное равновесие не будет зависеть от твоего настроения.
– Не подозревала в тебе ни души, ни равновесия, – гусеница делает вид, что шутит. – Меня всё устраивает.
Он утекает за дверь, ничего не обещая и ни от чего не отказываясь.
Ошмёток 6. Находка для шпиона и ламия на обочине
Обнаружив за пределами дома день, он отворачивается от солнца и спускается по бульвару вдоль горной гряды сугробов, наивно усугубляющих сходство гусеничного жилища с зачарованным замком. Рыхлая коричневая кашица сменяется соляными озёрами, соляные озёра сменяются коричневой кашицей – по щиколотку, по середину икры, по колено. Сопротивление ландшафта раздражает, веселит, пробуждает конкистадорский азарт. В конце концов он штурмует Анды и дальше идёт по гребням, поскальзываясь на заледеневших скатах и проваливаясь в рассыпчатый холод.
Птеродактили летят за ним с неразборчивым ропотом. Переваривают, перемалывают. Готовятся пересказывать. Он шипит через плечо запальчиво и ехидно:
– Всё равно вам никто не поверит!
– Тем и живём, – отзываются птеродактили. – Тем и живём.
Не поспоришь.
Он идёт по разомкнутому кольцу бульваров, думая о пустяках – о законах жанра.
Есть женщина, она же – хтоническое существо. Женщина молода и красива как смертный грех, значит хтоническая тварь сожрёт всякого зазевавшегося и косточки переварит. Одного уже сожрала, второй должен завершить композицию – лечь на блюдо, проиллюстрировав безысходную мораль страшной сказки, или оставить ламию без обеда, а лучше без головы. Непробиваемо мужской взгляд на положение вещей. Или просто непробиваемо человеческий?
Он воображает лесной тракт, кавалькаду всадников и одинокую девушку у дороги. Вероятно, привлекательную: в древесном сумраке не прокажённая – уже красотка. Девушка молчит, всадники перешёптываются. Типичный случай: «и хочется, и колется, и рыцарский кодекс не велит». Положим, рыцарский кодекс всадников не отягощает, но ситуация стрёмная. Спустишься с коня, а прелестное создание как откроет пасть… Всадники летят мимо. Демонизация отлично работает щитом, пока не начинается охота на ведьм. Положим, всадники в ламий не верят и всё-таки останавливаются с не самыми возвышенными намерениями. Что ж, он надеется, прелестное создание откроет пасть. Когда существо виктимной наружности, независимо от пола своего, снабжено зубастой воронкой – это прекрасно само по себе. Иногда.
Он смеётся, прикусывает губу и переключается на сказки, которые быль. Есть женщина, она же гусеница, существо симультанно инертное и до изумления деятельное. Она опасна? Пожалуй. А кто безобиден? Он? Смех приобретает оттенок истерики.
Есть не поддающийся романтизации труп, не думать о котором не получается. Атипичный герой-любовник, ходок за черту, самоубийца. Последнее – под сомнением. Мог случайно переусердствовать. Единственный представитель болотной фауны, которого язык поворачивался называть приятелем. На незримой линии стыка приватных мифологий – любимый враг, почти отражение. Претендент на переписывание истории, которая недостаточно красива. Очередная жертва болотца, птеродактильских баек, шарахнувшей из глубин пограничья молнии… Надо было оборвать поток сознания на «жертве болотца».
Он шепчет самому себе:
– Ты безумен, если веришь в остальное.
В сон, пересказанный гусеницей, тоже поверит только безумец. Второй акт похож на огульную лесть, на дешёвую манипуляцию, но откуда взялся первый? Не могла же гусеница забраться к нему в голову. Или могла?
Так, хватит наделять её воображаемыми сверхспособностями – у неё невоображаемых в избытке.
Витрина, лёд – воистину прямолинейные метафоры. Они с гусеницей имели шансы дойти до столь экспрессивных образов без взаимного влияния.
Допустим, их бессознательное хлынуло в общее русло и тут же разбилось на отдельные ручейки. У кого что болит.
Но почему в собственном сне он даже не подумал утечь с прилавка, почему принял холод, иллюзию тепла и гибель с глухим равнодушием?
«Гусеница не знает тебя, поэтому идеализирует», – язвят мелкие птеродактили. «За последние месяцы ты не раз и не два успел подумать: вот и всё, пора. По инерции утверждаешь, что не смиряешься с неотменимостью смерти, а на деле вычерпан, вычеркнут. Не отбивался, когда финиш нёсся навстречу, не сам себя спасал – тебя спасал чужой страх, чужое отступление, чужая жажда видеть тебя живым. Сон про неподвижную стынь – стыдная правда, поэтому он так тебе не понравился».
Он открывает глаза и находит себя в пограничной зоне. В млечном тумане, окутывающем её много недель. Здесь ничего не происходит, будто всё, что могло произойти, уже произошло.
Именно белая мгла заставляет взирать на финиш без прежнего отвращения.
Но есть вещи неизменные: только в пограничье он дышит по-настоящему. Пока он здесь, отсутствие видимости компенсирует живой, горьковатый воздух. Пока он здесь, легко поверить, что дремучая облачность – колыбель и предтеча неизбежного чуда или сладостного кошмара, что, в сущности, одно и то же.
Именно по вине сквозняка свободы он по-прежнему рассчитывает не пересечь, а обойти финальную черту. Шагнуть на ту сторону, не умирая.
Некоторые явления в пограничном тумане ясны и прозрачны как роса на утренних маках: колотый лёд, апатия обречённого, глубоководная синяя смерть… Он видел чужой сон. Последний прижизненный сон своего приятеля или мутный посмертный сон, который всё ещё длится.
Мрачноватый привет любимого врага? Предупреждение?
Или незримый распределитель грёз, для которого хронология – условность, перепутал их, слил воедино и отправил в расход под одним штрих-кодом?
Мысль не воодушевляющая, но и не правдоподобная: равнять распределителя снов с болотными угробищами – это уже за гранью приличий.
Через сутки он возвращается в дом гусеницы, не ужасаясь тому, что действует как примитивно приворожённый, не рассказывая себе, что клин вышибают клином, а шаблон рвут шаблоном, стало быть материальность безвоздушных замков – достойная альтернатива отдалившимся глубинам пограничья, а багряноволосая гусеница – предсказуемая точка на пути маятника, отшатнувшегося и от болотца, и от царевны-лягушки, которая не лягушка и не царевна. Он не цепляется даже за то, что птеродактили склонны пересказывать байки по кругу, а про гусеницу ещё не трепались, не выдаёт за панацею гусеничный талант вносить красоту в явления неприглядные.
Он не притворяется, будто знает мотивы своих поступков.
– Это ты? – шепчет хозяйка, застыв в дверном проёме.
Вопрос не требует ответа, но с языка слетает:
– Нет, не я, это у тебя мальчики кровавые в глазах.
Ему срочно нужно зеркало, чтобы посмотреть себе в лицо – из научного интереса.
Намедни, перемалывая диалог, он спрашивал себя: неужели он предпочёл бы найти в гусенице ампутанта, существо, которое жить будет, но вряд ли захочет? Неужели считал, что она обязана лечь и умереть, или хотя бы свернуть бурную деятельность, разнести в клочья безвоздушные замки, сойти с ума, шипеть на каждого, кто посмел приблизиться – «Ты никогда его не заменишь!», прибить на лоб табличку – «Оставь надежду, всяк сюда входящий»?
«Себе прибей», – посоветовали замшевые стервецы, – «давно пора».
К тому же с какой стати она должна демонстрировать печать потери ему – почти незнакомцу?
И после всех этих умозаключений он не успевает прикусить язык:
– Это у тебя мальчики кровавые в глазах.
– Ну ты и подонок, – отзывается гусеница, не огрызаясь, не атакуя – констатируя факт.
Он не знает, в чьём теле бросок рождается раньше: она подрезает его в полёте или он ловит гусеницу на пике волнообразной траектории, но они переплетаются в терновый куст – жалят и душат друг друга на месте преступления, подтверждают соучастие – снова и снова – пока не замирают, пережравшие до интоксикации, дрожащие от лихорадочной силы.
– Вы. Не настолько. Похожи, – гусеница отбивает ритм ударами ладоней по полу. – Ты апельсин с грейпфрутом перепутаешь, даром что оба цитрусы?
– Все умрут, а я грейпфрут, – выдаёт он подхваченный в виртуальном пространстве шедевр.
Это ужасно, но уместно: пусть поймёт наконец, с кем связалась. Может, одумается и отзовёт предложение о карьерном взлёте. Найдёт кого-нибудь потактичней. И поинтеллектуальней.
– Я вижу, что ты думаешь, – вскидывается гусеница. – Ничего другого не можешь думать после того, что слышал от меня, после того, что лицезрел урывками. Заманила, опутала доступностью пограничья, цинично использовала в хвост и в гриву, жрала потихоньку, обалдела, когда в тарелке с какой-то радости оголилось дно, подождала сотню дней и нашла альтернативный источник питания. Ошмётки болотца об этом полгода будут галдеть, если время от времени не трясти блистерами перед избранными индивидами, и будут недалеки от истины. То есть даже не понюхают эту самую истину – им оно без надобности. Пойдём-ка прогуляемся. В дневную вату.
Вот и сходятся края двух деталей пазла, до сего момента казавшиеся нестыкуемыми.
Одевается он с улыбкой неоправданно снисходительной и до отвращения нежной, ибо в силу обстоятельств знает, перед кем гусеница трясёт антидепрессантами.
Происходят эти показательные выступления в том тесном и необжитом доме, куда его когда-то пригласили на свадьбу, иначе плакала гусеничная конспирация.
Бледная, багряноволосая, в несвежем безразмерном свитере, она сидит на кухне за колченогим столом. Клеёнчатая скатерть почти не просматривается под пластиком. На крышках контейнеров наклейки с названием ближайшей забегаловки, в самих контейнерах – сэндвичи, салаты, роллы, булочки с мясом, лапша, в которой многовато масла…
Гусеница не проявляет интереса к еде, но прелести общепита исчезают с пугающей скоростью. Напротив хозяйки – существо неопределённого пола и возраста, из тех, кто до старости щенок: голова и конечности трогательно несоразмерны миниатюрной тушке.
Позывной уникален, ибо является фразой, по сути – императивом, отсылающим в эпоху не столь отдалённую, но закрытую прежде, чем половина болотной фауны успела повзрослеть. Кто-то, вероятно, и родиться не успел: младшее поколение – понятие растяжимое. Семь слогов, не поддающиеся благозвучному сокращению и посему произносимые лишь в случае крайней необходимости.
Не ходок за черту – ныряет в болотце за другими ништяками – но к ходокам питает слабость поверхностного толка: уважает издержки стиля – круги под глазами например.
Жрёт как не в себя. Впрочем, слово «как» – лишнее. Пьёт ещё больше, чем жрёт: заливает в горло всякую жидкость, до которой дотягивается, но предпочитает воду чуть теплее комнатной температуры.
Итак, он сидит напротив очевидно подавленной гусеницы, трескает принесённые сэндвичи, роллы, салаты, маслянистую лапшу, и притом говорит без передышек. Ведёт полусветскую хронику. Сливает секреты вышедшего из-под контроля болотца. Это его особый, жутковатый дар – не затыкаться с набитым ртом. Словесное недержание и отсутствие мозгов он имитирует столь убедительно, что клюют и теряют бдительность такие же прожжённые симулянты – аж зависть берёт – но практика показывает, что из потока хроники аккуратно изымаются фрагменты. Какие – зависит от реципиента нарратива. Мотивы цензора неведомы: они могут быть коварными и благородными попеременно и одновременно, могут вовсе отсутствовать, но закрадывается подозрение, что прожорливая находка для шпиона переживёт и болотце, и затаившуюся над трясиной гусеницу. Если не помрёт от голода.
Опустошив операционку и общепитовские контейнеры, гость извиняется, запирается в ванной, благословляет совмещённый санузел, выворачивает краны на полную мощность, засовывает пальцы в рот и под шумок извергает обед, чуть не разорвавший ему желудок. Каждый волен выбирать методы самобичевания.
Возвращается красноглазый и обманчиво посвежевший. Собирает контейнеры в пакет, чтобы не оставлять хозяйку наедине с помойкой. Сногсшибательность гусеницы ему воистину до одного места – если не считать белой зависти, которую вызывает её измождённо изысканный имидж – однако «находка для шпиона» еженедельно навещает «бедную девочку». Приносит еду, даром что сам её переводит, чай, который заваривает после словесной и анти-пищеварительной Ниагары. Слушает молчание. Кивает, сопереживает.
Ошмёток 7. Болотная лихорадка и невозможное на виду
Он встречался с находкой для шпиона совсем недавно: вопреки обыкновению ловил пулемётные очереди псевдонимов, многоточия необоснованных «Ты в курсе», предупреждения, похожие на ангажементы, издёвки над модными сплетнями, похожие на предупреждения, косвенные сводки с нейтральной лесополосы, звучащие как послания, переданные бескорыстно и самовольно – без просьб и без ведома отправителя. С непривычной чёткостью, но словно издалека, видел безучастные глаза и нарочито голодный рот, якобы в шутку припоминающий «стрёмный и горький вечер» – предыдущее пересечение траекторий.
Мысли автоматически переключаются на то, что полусветский хроникёр с нехарактерной лиричностью называл «стрёмным и горьким вечером». Не стоит поддаваться наваждению флэшбэка – ни сейчас, ни в размытом потом.
Но он поддаётся.
В оливковом сумраке видимый мир пульсирует в унисон с невидимым. Который – невидимый?
Поздно.
Мглистое грозовое сияние придаёт трясинному ландшафту чёткость барельефа.
Пляска болотных духов, огни на взметнувшейся зыби. Не сквозняк шелестит у взмокших висков – шторм уже здесь, он вызрел в пограничных глубинах или ещё дальше, на обратной стороне глубин.
Битумное море ложится на вязкий берег.
Агония ломанных силуэтов. Экстатическая. Торжествующая.
Он с ними.
Но за чертой.
Шулерский метод выхода не применялся. Кому рассказать – посмотрят в глаза и не поверят. Пограничье хлещет из него, через него. Опять.
Всю его жизнь этот шторм засыпал, пробуждался, забрасывал в обманчивый штиль сердцевины, выносил пеной к драному небу. Нынешний вал – девятый?
Неизвестно. Неважно.
Грозовой фейерверк требует жертв. Что же это – буря или охота? Охота или жатва?
Неизвестно. Неважно.
Прямо по курсу – великий выворот наизнанку. Пограничье не будет прежним. Мириады болот на подступах к черте не будут прежними. Ватная мякоть дневного мира не будет прежней – не сможет быть.
Следующий удар молнии – вопрос мгновений. Мишеней в избытке.
В зону поражения настойчиво лезет персонаж, загробно окрашенный зеленоватой полутьмой – штормовой или болотной?
Неважно.
Гортанный выкрик. «Отвянь», в переводе на литературный. С которого языка? Не вспомнить. Неважно.
Планомерно умирающая от голода находка для шпиона – дрогнувший подбородок, безучастные глаза – отскакивает.
Охота завораживает, но охотник действует спонтанно, немотивированно, непоследовательно: игнорирует тех, кого не жалко, спугивает добычу, которой извращённо симпатизирует…
И не отшатывается от «любимого врага», то есть единственного приятеля на болотце.
«Не было ничего, ты просто временно помешался», – думает он, завязывая шнурки. – «Не в первый раз: ты же ходок за черту, видишь то, чего нет, не видишь того, что есть. Пограничную зону заволокло туманом – вот и все последствия великого выворота, а к самоубийству любимого врага ты отношения не имеешь. Птеродактили загодя наболтали условно похожую историю? Дату он выбрал чересчур удачно? Есть такая штука: совпадение. И всё-таки: там отвернулся, того пожалел, эту не тронул… Какого хрена?».
На пороге его терзают сомнения иного свойства: он понимает, что ни разу не видел гусеницу на пленэре, и пугается за неё.
Если в антураже промёрзшей повседневности он ощутит себя ободранной вороной и тут же в таковую превратится – тем лучше, пусть хозяйка безвоздушных замков полюбуется на изъяны фактуры. Но он не испытает ни капли злорадства, если его спутница потеряется в ватной мякоти, если фирменное каре – обнажающее шею, удлинённое у лица – приобретёт под солнцем дешёвый, искусственный блеск.
Кстати, зачем ей понадобилась эта лужа мерло на подушке? Тревожное зарево – превентивный сигнал опасности? Защитный приём? Есть же личинки бабочек, хвост которых похож на голову змеи.
Зря дёргался. На бульваре гусеница меняется, но не теряет лоска: чешет по коричневой кашице стремительно, нервно, и от этого кажется ещё тоньше. В сапогах на каблуках. Замшевых. Цвета пыльной морской волны – иного определения он подобрать не может. Впрочем, нетривиальный оттенок с ними не надолго.
Зачем она выскочила на улицу в обуви, вопящей: – «Такси подайте прямо к подъезду»? Для красоты? Нет. Убойная сила камуфляжных тимберлендов тому порукой. Не хотела смотреть на спутника снизу вверх? Он бы удивился, окажись догадка верной, но эта версия правдоподобней варианта «для красоты».
Смешной или жалкой гусеница не выглядит, за подставленный локоть цепляется, отзываясь на галантный жест, а не потому что нуждается в опоре.
Естественное освещение углубляет противоестественный багрянец гладких волос. Который почему-то не кажется противоестественным. До оторопи не кажется.
Господи, вдруг она не красит эту холодную лаву? Ведь так бывает: невозможное существует у всех на виду, прикинувшись виртуозной имитацией невозможного. По чести, только так и бывает.
Он пялится на гусеничную причёску достаточно долго, чтобы осознать: никто из них не торопится надеть капюшон. На лютом морозе. Бульвар, коричнево-рыхлый, бугрящийся сугробами, видится оттаявшим, почвенно влажным, предлиственным – межсезонным. Недурной у гусеницы эффект присутствия. Да, ей повезло с ресурсами на материальной стороне мира – безвоздушным замкам есть на чём развернуться, но теперь понятно, какой клей держит их на самом деле.
Удивительно и то, что гусеница с её ультиматумом – «Мне нужен союзник» – не кажется навязчивой, приставучей как банный лист, скучной. Рядом с ней не ноют виски, не затекают плечи. Сфера её влияния не пахнет предрассветной тьмой, океаном и миртом, но водорослями Саргасс и горьким апельсином – пожалуй. Впрочем, если сравнивать с дневной ватой, мутная водичка болотца не покажется стоячей, а безвоздушные замки – безвоздушными. Это всё, что нужно знать о его отношениях с дневной ватой.
Раньше он, беглец, эмигрант и гастролёр, полагал держателей пространства особым видом. Позже недоумевал: – «Где я их откапываю?». В конце концов проморгался и признал, что способностью перекраивать лоскуты макрокосма наделены почти все. Большинство привносит нюансы в уже имеющиеся очертания – так гусеница сейчас подретушировала бульвар. Красиво исполнено. Слишком многие, сами того не замечая, создают непростительно унылые картинки, на фоне которых потом и кукуют. Редкие экземпляры творят пространство из ничего, уникумы одухотворяют материю и материализуют незримое. Высший пилотаж.
Отстранённая теория сменяется субъективными песнями опыта. Кого он только ни уличал в сотворении мира, кто только ни принимал комплименты чужому космосу за желание регулярно бросать в нём якорь, ни превращал свои тенистые бухты в куски ватной мякоти, которая есть повсюду и которая обрыдла. Заповедные территории, не подвергшиеся скоропостижной размифологизации, благословляемые, что бы там в своё время ни происходило, можно перечесть по пальцам одной руки.
На то и уникумы.
Они тормозят возле отбитой у снега скамейки, забираются на спинку как на жердь, закуривают.
Школота школотой.
– Как ты думаешь, нас видно с проезжей части? – усугубляет гусеница.
– Сомневаюсь. А что?
– Было бы круто спалиться вот так сразу.
– Да ладно, – отвечает он подчёркнуто флегматично. – Город большой.