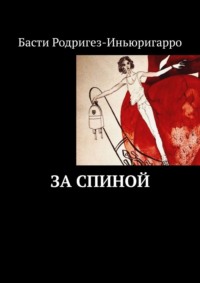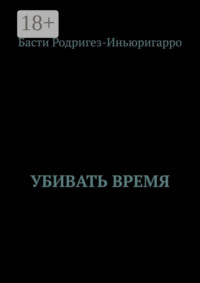Полная версия
Пограничная зона
– Ты меня об этом спрашиваешь? Ты? Меня?
– Ты бы знал, какие карты он мне смешал.
Возникает импульс съязвить: – «Брачный контракт предписывал за полгода подать в отставку?», или отшатнуться с нескрываемым восхищением: – «Ламия, упырица, ядовитый плющ!», но вместо он этого разводит руками:
– Ты преувеличиваешь нашу близость и, как следствие, мою осведомлённость. По меркам болотца между нами вообще ничего не было. С большой буквы Н.
– С очень большой и очень звонкой, временами прям-таки оглушительной.
Он не отводит взгляд именно потому, что хочет отвести. Одёргивает себя: – «Выключи бесполезный фонарь. Не проецируй миражи. Она не обвинительный акт зачитывает, ей по барабану».
– Как ты сказал? – радуется гусеница. – По меркам… Болотца? Недурное определение. Особенно уместен суффикс. Уменьшительно-уничижительный.
Он поднимается с ковра, с нездоровой настойчивостью глядя за приоткрытую дверь, в следующую комнату, где в зашторенном сумраке проступает угол канапе и – неизбежной галлюцинацией – скрученный силуэт покрывала. Уходит анфиладой знакомой, но непривычно безлюдной, вылизанной. Поэтапно, ступенчато одевается на лестничной спирали. Гусеница спускается следом.
Он зачем-то уточняет:
– Ты позвала меня, чтобы спросить, почему умер твой…
Буксует на терминологии. Не рассчитывает на чёткий ответ. Очень надеется не услышать: «Да».
– Нет, – улыбается гусеница, и смотрит так, словно он должен сделать какие-то выводы.
Он не хочет делать выводы, поэтому заходит с другой стороны:
– Как ты на меня вышла?
Теперь она выглядит неприкрыто довольной.
Как гиена, отжавшая добычу у льва.
Нет, не то.
Как гепард, измотанный гонкой, но вопреки природе отбивший собственную добычу у гиен.
Не то.
Как плотоядная ящерица, сожравшая шмат мяса на глазах травоядной игуаны, открывшей пасть на означенный шмат, не подозревая о своей травоядности.
Пожалуй, то.
– Ты же восстановил цепочку, – ухмыляется гусеница. – Иначе к чему был параноидальный смерч?
– Я не верю тому, что успел подумать. Многовато несостыковок.
Она заходит за стойку, указывает на табурет, которым он пользуется как трамплином, чтобы оседлать столешницу.
– А на шпагат можешь? – интересуется гусеница.
Он отрицательно качает головой.
– Не можешь или не пытался?
Вставив сигарету в мундштук, она завершает карикатурно-нуарный образ la femme fatale1, и выглядит при этом естественно, органично. Не одежда работает её арсеналом и камуфляжем: безразмерный свитер со свисающими петлями не превращает её в безмолвную невесту ходока в пограничье, как пущенное на ленточки платье не столько подчёркивало опасную притягательность, сколько ей не мешало, и призвано было не впечатлить гостя – прежде ему подобные приманки не требовались – а донести некий сигнал. Вероятно, предварить экскурс, приступая к которому, она протягивает слушателю аналогичный мундштук.
– Есть мир. Есть люди и гусеницы. Первых в разы больше: они построили социум. Вторые только и думают о том, как потеснее связаться с первыми, упрочить свой статус, обеспечить будущее. Гусеницы мужского пола оголтело ползут по карьерным лестницам, а ближе к концу жизненного цикла женятся на своих. На своих – чтобы гарантировать наличие потомства, которое всем позарез необходимо. В конце жизненного цикла – чтобы по пути не напоминать людям о своей инаковости. Некоторые гусеницы женского пола повторяют обрисованный сценарий, но большинство стремится схалтурить на раннем этапе – вступить в смешанный брак. Отсутствие потомства – разумная плата за прыжок выше головы. Как ты понимаешь, это был человеческий взгляд на положение дел: люди склонны судить о чужих потребностях, исходя из собственных.
Она смотрит ему в лицо и, удовлетворённая произведённым эффектом, продолжает:
– Не зря мы – в состоянии фертильном – напоминаем людям промежуточную форму жизни. Десятки лет функционируем на личиночной стадии, а перед смертью окукливаемся. На этом всё. У нас нет будущего, ведь по факту для нас нет времени. У нас чрезмерно развиты органы чувств, мы 24/7 заняты поиском снеди, которая нас удовлетворит – какое нам дело до нумерации ступеней в человеческих лестницах, до подтверждения нашей ценности для мира, до того, на что похожи плоды нашего бытия? Мужские особи способны контролировать транформацию. (Природа ни к одному виду не справедлива). Они делают карьеру – то есть по добираются до чердака или до подпола – по случайности. Ненасытность легко перепутать с энергичностью, к тому же миром правит не только голод. Гуттаперчевый любовник, с которым не нужно беспокоиться о последствиях – это очень удобно. Смейся, смейся, меня про тебя человек пятнадцать спрашивали: – «Он ведь тоже из гусениц?». Чему ты удивляешься? Твой приятель при каждом новом знакомстве был «ложногусеницей», и не только он. Всё просто: ведёшь себя в общепринятом понимании не по-человечески – значит гусеница, третьего в картине мира не дано. Вернёмся к теме. Стремление гусениц женского пола выйти замуж за гомосапиенса – вообще легенда, которую матери рассказывают мальчикам. В этих сказках замуж за них хотят все, но гусеницы – как наиболее нежелательный вариант – особенно, хотя с прагматично-людской точки зрения это бессмысленно: статус мужчины, женившегося на гусенице, падает и не отжимается. Почему смешанные браки всё-таки случаются? Потому что поступки антропоморфных созданий не всегда подчиняются целям утилитарным.
Она затягивается, роняет столбик пепла, продолжает:
– Есть мир. Мой мертвец сказал бы, что миров много, но каждому из них не хватает воздуха, и непременно добавил бы, что по жизни продирается в пограничье через вакуум. Пограничье… Не могу отрицать, что некоторые – не все – ходоки за черту отмечены потусторонним обаянием, но я не знаю, существует ли пограничная зона отдельно от катапульт, коими вы себя туда забрасываете. Стоит включить голову – приходишь к выводу, что ничего, кроме катапульт и бреда в полёте, не существует, а я не хочу портить тебе настроение. Моя территория на подступах. В вакууме, цитируя покойника. На болотце, цитируя тебя. Почему? Есть мир. А по мне его нет. Есть миллиарды осколков, дрейфующих в пустоте. Некоторым осколкам на пользу подвергаться диффузии или взаимной шлифовке, но большинство могут продолжать дрейф, только избежав столкновения с соседями. Ты знаешь, о чём я говорю. Почему здесь, на отшибе, никто не называется именами, под которыми кукует в дневной мякоти? Никто, кроме безумцев, которым терять нечего, и я не о тебе, разумеется, и не о мертвеце, хотя он, кажется, просто воспользовался случаем освободиться от бирки, навязанной родителями. Почему «болотце» стало капсулой, над оболочкой которой все так трясутся? Да потому что довольно одного прокола – и капсулы нет, болотная жижа хлынула в мякоть, а это никому не надо. Другой вопрос, зачем нужна эта муть на отшибе. Что здесь забыли те, кому пограничье до лампочки? Голод – в том числе до любви – можно и в ватной мякоти удовлетворять. Но близость пограничной зоны расшатывает порядок вещей, создаёт марево, в котором легко поставить на паузу искусственную жизнь и пожить той, для которой ты создан, или напротив, перестать быть осточертевшим собой и поиграть в себя воображаемого. Очень похожие процессы, почти неразличимые, но, по моим наблюдениям, первый заставляет ценить карнавальное пространство как таковое, а второй провоцирует зависимость от составляющих его деталей. У тех, кто приходит себя отпустить, встроенный переключатель режима, поэтому перемен в декорациях они могут даже не заметить, а те, кто привык наматывать на себя мишуру и тащиться от блеска в зеркале, очень нервно реагируют на исчезновение любимой бутафории: другая не так шуршит, оттенок не тот, и вообще её как-то мало, весь унылый облик не прикроешь. Между прочим, я ответила на твой вопрос, но не будем торопиться. Поговорим о том, что я ловлю в мутной водичке.
Она берёт паузу, заменяет тлеющий фильтр на сигарету.
– Мой отец, мир его кокону, был из тех гусениц, кого занесло на верх человеческой лестницы. Что это значило для меня? Роскошный вид на окрестности, прорва еды, которая меня поддерживала, но не насыщала, и куча связей, на первый взгляд ненужных. Наверное, я слегка шелкопряд: моими нитями пронизан изрядный шмат мякоти, но мякоть, как уже было сказано, я нахожу ватной, нумерацию социальных ступеней – смешной, осколки мира, которые принято выставлять под дневной свет – скучными. Меня с детства преследовал призрак аромата – сладкий, горький, немного затхлый, неудобно гнилостный – словно апельсин, перезревший на ветке, истёкший патокой и уже приманивающий полчища насекомых. Запах, обещавший ту пищу, которая избавит меня от голода. Он преследует меня до сих пор, но иногда становится настолько густым, что воздух, перенасыщенный им – почти еда. Именно так пахнут для меня приграничные топи. Я использую множественное число – забегаю вперёд.
Гусеница ищет признаки любопытства на лице слушателя. Находит. Рассматривает он, правда, не гусеницу, а свежую сигарету, которую она ему протянула. Гусеница улыбается, защёлкивает портсигар, продолжает:
– Оно приблизилось ко мне само – пограничье, расшатывающее порядок вещей, превращающее ватную мякоть в прогорклое желе – и, после серии вечеринок, какие бывают у всех при вхождении в пубертатный возраст, могло откатиться, не оставив по себе даже памяти, но я приняла меры. Я видела, как люди, гусеницы и прочие твари ходят тропами, которых не бывает на дневной стороне того же осколка, выкидывают кульбиты, невозможные в ватной мякоти, отыгрывают спектакли, которые я исподволь могу сделать сложней, жёстче… Прекрасней. Я пользовалась своей территорией как шахматной доской, но правила выдумывала сама. Низводила слонов до пешек, скармливала им коней и этих же коней выводила в дамки. Нет, я не властью упивалась. Власть – инструмент, а не источник наслаждения, её нужно поддерживать в рабочем состоянии – и только. Я питалась прогорклым ароматом, густеющим год от года. Одни персонажи тащили за собой горсти других. Их стало так много, что не все знали меня в лицо, а знающие в лицо не всегда могли назвать моё имя. Я быстро осознала преимущества такого положения. Ты, должно быть, думаешь, что ключевые фигуры – это те, кому я открылась, или те, кто знал меня с самого начала? Нет. Не всем ключевым положено знать правду, не от всех пешек обязательно её скрывать. Ты разберёшься, если захочешь. Не ломай мундштук, пожалуйста, он мне дорог как память.
– Мой приятель был тем конём, которого скармливают пешке, достают из расходной коробки, наделяют полномочиями ферзя, скармливают очередной пешке – и так по кругу? – спрашивает он, не пряча до несправедливости дрянную усмешку.
Глаза гусеницы отражают, дробят и возвращают его нехорошую ухмылку в десятикратном объёме.
– Почему тебе это важно?
Хороший вопрос.
В рассказе гусеницы мало подлинных сюрпризов. Даже собственную близорукость нельзя считать поводом для изумления: его никогда не интересовало наличие или отсутствие серого кардинала на подступах к пограничью. Пребывать в шоке от особенностей болотного быта ему поздно и не к лицу: нельзя исключать, что он действительно может развлечь всеведущую гусеницу парой-тройкой занятных историй – и о себе, и о мёртвом приятеле. Почему же его рот наполняется ядом? Потому что концепция «ничем не брезгующий ходок за черту и его до слепоты обалдевшая спутница» ближе, понятней, приятней, и от того кажется правильней?
Он по-прежнему считает чужую любовь потёмками. Он слишком хорошо знает: то, что со стороны выглядит как неудобоваримая жесть, изнутри может оказаться необъяснимой благодатью. Он давно не вправе бросать первый камень и высматривать соломинки в глазах визави – даже брёвна не вправе высматривать, а нарастающий под куполом черепа вопль – «Она его схавала!» – перекрывается безумным шёпотом: – «Кто-то вынул у неё изо рта последний кусок».
Откуда же эта взбалмошная враждебность? По всему выходит, его злит спокойствие гусеницы. Отсутствующая печать потери.
Тут кроется что-то личное.
Ошмёток 4. Безвоздушные замки и не полностью разложившееся органическое вещество
– Мой следующий ход был подсказан самой природой, – как ни в чём ни бывало вступает гусеница. – Осколками так называемого мира, которые избегают столкновений и потому существуют. Я расслоила свой теневой космос. Разделила его на уровни. Ты видел этот дом заболоченным – ты видел только первый ярус, самое дно, самый отстой. «Ярусы», «этажи» – метафора, но их больше, чем два, и, поверь мне, карнавал наверху – совсем не то же, что копошение внизу.
– В болотце водится кто попало, а на верхних ярусах декадентсвует бомонд, я правильно перевожу?
– В принципе, да, – гусеница закатывает глаза: никому не нравится видеть своё бытие выхолощенным до двух предложений. – Предупреждая вопросы – разумеется, мертвец был в курсе. Когда твоя ежедневная цель – создавать атмосферу и управлять ею, эффективный союзник – большая удача.
– Это не так называется.
Гусеница тонко улыбается, но продолжает, будто её не перебивали:
– Несмотря на свою ненадёжность, он пронизывал все слои. Потустороннее обаяние, о котором я уже говорила, делало его сильной фигурой, а восприимчивость – незаменимой.
– И огромная разница между карнавалом наверху и копошением внизу была ему очевидна?
Гусеница вновь воздевает раухтопазовые очи к потолочным балкам.
– Нет. Он, – она зачем-то произносит «он» с ударением, подчёркивает «он» многозначительной паузой, – находил все слои одинаковыми. Даже предпочитал дно. За «непредсказуемость» и «неподконтрольность». Кстати, почему он просил меня не прельщать тебя «безвоздушными замками»? Только не вздумай перенимать эту терминологию.
– Без понятия. Конкуренция?
Гусеница брезгливо морщится.
– Ещё одно предположение подобного рода, и ваше «ничего с большой буквы Н» покажется мне правдой. В болотце, конечно, только ленивый не вопит о том, что у него отбивают корм и добычу, но твой приятель не мыслил такими категориями.
– Ревность?
Гусеницу пробивает на смех.
– Так и вижу сцену ревности в его исполнении. Нет, приступам сего недуга была подвержена только я.
– Что?
– То. Не всё в его жизни исходило от меня, и не всё ко мне привязывало, – она смотрит прямо в глаза, словно хочет что-то пояснить, но передумывает и возвращается к тональности небрежной. – Не сомневаюсь, он думал, что действует в твоих интересах. С фирменной непоследовательностью. Сам привёл, сам взмолился – «Не втягивай». Но ты и без содействия втянулся, верней, нашёл, где изваляться. По слухам, чуть с головой не ушёл – раз, или два, или странно, что мы с тобой сейчас разговариваем… Да, я не высокого мнения о «болотце», и предпочла бы, чтобы мертвец пореже пользовался неподконтрольностью топи, расползшейся далеко за пределы дома, но эликсир невозможен без стадии нигредо. Вопрос в силе: с какой радости он вознамерился тебя от меня ограждать?
– Не представляю.
– Что он знал о тебе?
– Его спроси.
– Чего никто другой не знал…
– «Никто другой не знал»? На болотце? Смешно.
– Ладно, пропустим. Я с ним не спорила – тогда, когда он притащил тебя на фарс, именуемый свадьбой. Ты мне понравился – типаж есть типаж, но любопытство потонуло в интуитивном предубеждении. Я увидела в тебе большую проблему. Почему – неведомо. Наверное, решила, что одна большая проблема в наличии, две – уже перебор.
Поперхнувшись дымом, он ржёт и выдавливает:
– Погоди… Когда мы с тобой… В первый раз… Ты что, нас перепутала?
Гусеница выглядит неожиданно оскорблённой.
– А ты меня путаешь с подклассом болотных угробищ?
Теперь у него на глазах выступают слёзы. Только так и получается плакать в последнее время – внезапной моросью посреди сухой грозы смеха. «Подкласс болотных угробищ». Вместо тысячи слов, вместо дюжин имён. Она хороша.
– Кажется, я произнесла «типаж», а не «абсолютное сходство», – шипит гусеница, пружинисто вползая на стойку и сворачиваясь напротив. – Да, для подслеповатой болотной фауны вы примерно одно и то же, особенно если мордой в тину. Но и на топях водятся твари с безжалостно острым зрением, причём я не себя сейчас хвалю, – она примирительно подмигивает. – Кстати, когда меня накрыла трансформация, я подумала – «Только этого не хватало», а потом поняла: нашла коса на камень, не может у нас быть общего потомства. И по отдельности всё не как у людей, гусениц или кого там ещё… Из меня разве что шёлковые нити полезли с утроенной силой. Очень вовремя. Болотце-то лихорадило. Расползшееся, с трудом поддающееся контролю болотце – ни унять тряску, ни докопаться до причин. Дрожь нижних ярусов не может не отзываться на верхних, а тут ещё ключевая фигура с концами ушла в расход. Казалось, всё развалится, но шёлковые нити удержали конструкцию. А с тобой чертовщины не творилось?
Он пожимает плечами, не желая ни лгать, ни говорить о материализации незатыкаемого выводка. Болотная лихорадка – тоже не лучшая тема.
– Ты не ответила, – произносит он без упрёка. – Как ты на меня вышла? И главное, зачем я здесь.
– По-моему, я ответила на оба вопроса, – ухмыляется гусеница. – Видишь ли, после того, как мой не такой уж благоверный вместо себя подсунул мне не поддающийся романтизации труп, я о тебе вообще не думала. Даже удивительно – с учётом того, что чуть не накануне этой досадной подмены вы заявились сюда вдвоём, прошлись по чьим-то непредусмотрительно разбросанным конечностям в состоянии «видим цель, не видим препятствий» и до крайности не куртуазно сравняли меня с препятствием. Теперь не надо зажмуриваться, чтобы лицезреть кадр за кадром и обонять запашок ночного кошмара: я смотрю прямо в глаза – тебе, ему – и словно не существую. Провалы зрачков меня не видят и тем отменяют. Но до вчерашнего дня я о тебе не вспоминала, словно не было тебя никогда. Даже позывные, разносимые эхом по ошмёткам болотца, не тянули за собой лица. А потом… – гусеница подбирается, фокусируется, обнажает в улыбке резцы и переключается в тональность анекдота: – Приходит ко мне невнятное болотное угробище. «Не полностью разложившееся органическое вещество» в чистом виде – и результат работы экосистемы, и основной образующий элемент. Без таких пушица не пушится и клюква не развесистая, но всё равно угробище. Приходит ничтоже сумняшеся, думает, ничего я против него не имею.
– А ты что-то имеешь против основного образующего элемента экосистемы?
– Против подкласса – ничего, против представителей подкласса – имею. Странно, что приходится тебе объяснять, но так и быть, обрисую схему. Все ходоки в пограничную зону – потенциальные самоубийцы. (Хотя когда они без видимых причин торопят события и превращаются из потенциальных в состоявшихся – не по случайности, а по собственной воле – это ставит в тупик). Так вот, у меня на руках потенциальный самоубийца, но длины верёвки, которую я ему выдаю на поиграться, не хватит, чтобы вокруг шеи обернуть. Ты скажешь, долго ли умеючи: можно проглотить и задохнуться, и будешь прав, но зачем такие сложности? Проще пойти к невнятному болотному угробищу и разжиться верёвкой подлинней. Знакомый маршрут? Разжился второй верёвкой, связал два отреза – и на всех парусах в пограничную зону. Вынесло обратно? Операцию можно повторить. Раз двести. А когда приспичит не возвращаться – собрать по мотку с нескольких угробищ, не исключая угробища классического. Но классическое угробище не сечёт фишку, приходит ко мне и заводит речь примерно такого содержания: – «Настала тоска зелёная, болото уже не то, атмосфера как после Хиросимы, а тут ещё дефицит мишуры, любимая бутафория сигает за пределы капсулы и даже обидных жестов оттуда не показывает. Какими средствами прикажете самоутверждаться, когда комплект не комплект? В общем, вот вам крючок, сачок и позывные, сделайте что-нибудь, а то я сам опасаюсь – одно неверное движение и трындец капсуле, болотная жижа хлынет в мякоть, живые позавидуют мёртвым…». Как тебе такая история?
Как ему такая история. Как повесть капитана очевидность, но он рад, что услышал её из гусеничных уст: можно со спокойной совестью переносить смутные предположения из категории «параноидальный бред» в категорию «параноидальный бред воплотившийся». Со спокойной совестью… Он выпадает в пограничную зону – ему для выпадения много не надо. Иногда.
Пользуется моментом, чтобы рявкнуть:
– Птеродактили, молчать!
Птеродактили гогочут по-гусарски и тут же обрушивают на него глубокомысленные размышления о том, что подражание не всегда высшая форма лести, что есть пародии, оскорбляющие оригинал, что облепленные мишурой болотные угробища не понимают, чему именно пытаются подражать, но он-то, со всеми своими горькими шуточками о рухнувшей планке, понимает; таким образом оскорбление оригинала остаётся на его совести – ведь он позволял пародии существовать и даже в какой-то степени её культивировал. Птеродактили уже готовы перечислить – на разные голоса – версии о том, зачем ему это понадобилось, но он выныривает из молочного тумана, возвращается к гусенице, и обещанное перечисление звучит фоном, а не набатом.
– Эй, опять будешь носиться в задницу укушенным торнадо? – беспокойно спрашивает та.
– Не собирался, – он непроизвольно дёргает кистью. – Разве что от изумления. Если то болотное угробище, о котором я думаю, апеллирует к тебе как к высшей инстанции, я не понимаю, почему о твоей истинной роли не знаю все.
– Да что же здесь непонятного? – заливается гусеница. – Во-первых, угробища как огня боятся эффекта домино: они мне испортят камуфляж, а я до их ватной мякоти дотянусь. Во-вторых, они трещат о том, о чём приятно трещать. О том, что топью, в которой они проводят треть жизни, заправляет какая-то девица, ещё и гусеница, трещать неприятно.
– Центральным участком топи, и то не без перебоев, – поправляет он.
Гусеница мрачнеет и снова закуривает, а он добавляет тихо:
– В болотце я не вернусь. Если ты меня за этим позвала, боюсь, ты зря потратила время. И силы.
– Отчего же? – щурится она.
Объяснить он может. Уложить импульс в слова, притянуть за уши аргументы. Сказать, что раскаялся, встал на путь исправления, испугался финала, приближаемого шулерскими методами ухода в пограничную зону. Нагородить чуши. Или завопить, что устал жить в аквариуме, что у него вот здесь – тут нужно вскинуть руку к горлу – сплетни, слухи, домыслы и столь не соответствующая отчаянной разнузданности болота атмосфера маленького городка, где все сто лет как породнились и переругались. Или сцедить немного бреда с привкусом живой крови: в нём ожило нечто, что было мертво, приобрело значение то, что значения не имело – например он больше не в состоянии культивировать пародии, оскорбляющие неизвестный им оригинал, делать то, что ни с какого ракурса не находит красивым. Он может притвориться, что прекрасно осознаёт мотивы своих поступков.
– Не хочу.
Это является правдой лишь отчасти, ведь отлучение от болотца лишает его не только безотказных способов хождения за черту.
– И как ты теперь?
Он превентивно охреневает, начиная подозревать, что гусеница действительно вознамерилась затащить его обратно.
– Как-нибудь.
– Не хочешь в болотце – не надо, – она говорит быстро и монотонно. – Зачем ты вообще влип туда с таким ожесточением? Кому назло? Это не твой уровень. Во всех смыслах.
– Очень даже мой.
– И сейчас ты начнёшь защищать зыбкое дно или смешивать себя с не полностью разложившимся органическим веществом…
– Полностью, полностью…
– Потому что тебе не понравилось, что я рассказываю тебе, где твой уровень, а где не твой. Отмотаем назад. Не хочешь – не надо.
– А как же сачок и крючок болотного угробища?
– Боишься? – шепчет она доверительно.
Он качает головой – медленно и отрицательно.
– И правильно, никак оно тебя не достанет. Ресурсы есть, духа авантюризма – ни на йоту, потому ко мне и притащилось. Я тоже решила: перетопчется.
– Тогда остаётся последний вопрос: зачем я здесь?
Гусеница глядит укоризненно. Он заслужил. Риторические вопросы – грех, но ему нужно услышать слова произнесёнными.
– Такая корова нужна самому, – тянет гусеница. – У меня, знаешь ли, пустует куда более обширная ниша, чем у невнятных угробищ.
– И мерки для гроба снимать не придётся.
Он не понимает, зачем это ляпнул. Отыгрывал роль? Подал реплику, которую на его месте выплюнул бы человек нормальный, но не отягощённый чувством такта? Или слова ему подсказал колотый лёд, которым гремит гусеница, потряхивая шейкер?
Ошмёток 5. Колотый лёд и блуждающие кошмары
– Кстати, спасибо за «корову», – фыркает он, когда гусеница заканчивает с перкуссией и наполняет стаканы.
– Подумала, если скажу «конь», ты психанёшь, – ухмыляется она и добавляет: – Вчера сомневалась, звать тебя или нет. Конечно, я сразу вспомнила пресловутое потустороннее обаяние и тот факт, что, касаясь тебя, я не отдёргиваю руку. Смейся, если хочешь, но то, что я произнесла, ни капли не смешно – с моей точки зрения, разумеется. Твои реакции на меня тоже было приятно вспомнить. Имею в виду не вечер, когда мы переспали – тогда тобой владело нечто иное. Я говорю о том, как ты во имя поразительно односторонней солидарности не смотрел в мою сторону, но влечение твоё ощущалось остро, выпукло, особенно на фоне болотца, где каждому полуторному моя сногсшибательность до задницы.