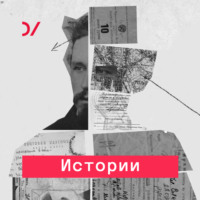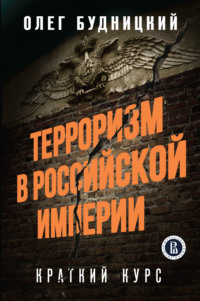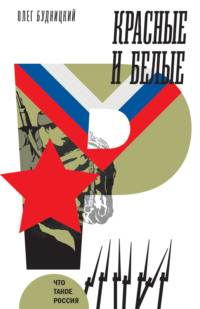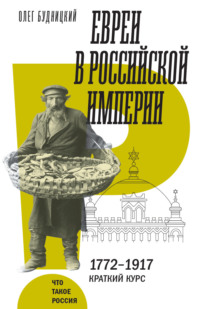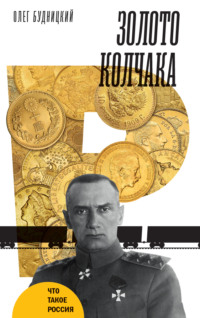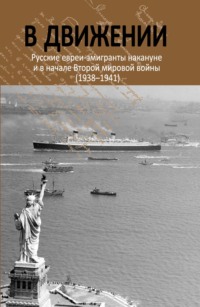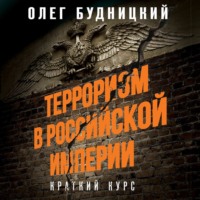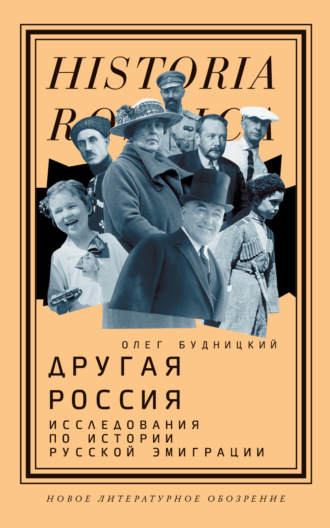
Полная версия
Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции
О том же, только «с другого конца», свидетельствовал Алданов. «Думаю, – писал он, – что В. А. Маклаков никогда о жесте и интонации особенно не заботился или во всяком случае их не изучал». В течение многих лет в Париже, уже в годы эмиграции, Алданов каждый четверг завтракал в обществе Маклакова, А. Ф. Керенского, А. И. Гучкова, М. В. Бернацкого, И. П. Демидова, И. И. Фондаминского, В. М. Зензинова и, при их „наездах“ в Париж, И. А. Бунина, П. Б. Струве, В. В. Набокова-Сирина.
И в столовой, и в гостиной Василий Алексеевич говорил много, чрезвычайно интересно, всегда с большим оживлением. При этом „жесты“ и „интонации“ у него бывали совершенно такие же, как на трибуне Государственной Думы или в петербургском, в московском суде: все было совершенно естественно. Разумеется, в огромном зале Таврического дворца он говорил громче, но он и там никогда не кричал – великая ему за это благодарность. Темперамент и крик – совершенно разные вещи… И еще спасибо Василию Алексеевичу: в его речах почти нет „образов“… Римляне находили, что о малых вещах надо говорить просто и интересно, а о великих просто и благородно. Именно так говорит В. А. Маклаков… Так он и пишет. Жаль, что писал мало»49.
Последнее утверждение Алданова не очень искренне; Маклаков был к тому времени автором трех книг мемуаров, нескольких брошюр, десятков объемистых статей. Для человека, не считавшего себя профессиональным литератором, – немало. Сожаление Алданова носит несколько провокационный характер; тот, кому выпало удовольствие читать многолетнюю переписку Маклакова и Алданова, известно, что писатель уговаривал своего друга писать воспоминания и далее. И не без его настойчивых уговоров появилась еще одна и, несомненно, самая «личная» книга Маклакова – «Из воспоминаний», вышедшая в 1954 году в Нью-Йорке.
Приведу еще одно свидетельство современника о Маклакове-ораторе, принадлежащее его ученику, правда «забравшему» политически значительно правее учителя, Е. А. Ефимовскому:
«Речи Маклакова войдут в историю русской культуры в области русского ораторского искусства. У нас как-то установился предрассудок: если ты взошел на кафедру, то ты уже „оратор“; по римским традициям, „рождаются“ поэты, ораторы – „делаются“.
На самом деле это вовсе не так: кафедры заполнены „ремесленниками“; они достигают высокой степени совершенства и блещут своими ораторскими успехами. Но это только до тех пор, пока не появится подлинный маг и чародей слова: перед ним они исчезают „яко дым от огня“. Этим магом и был В. А. Маклаков…
В речах Маклакова вы не встретите ни ложного пафоса, ни художественных сравнений; он поражал другим: красотой построения в развитии основной идеи и железной логикой их содержания. Неподражаем был и метод общения с аудиторией. У Маклакова совершенно отсутствовал тот часто встречающийся „снобизм“, когда оратор как бы измеряет расстояние между аудиторией и ораторской кафедрой; он в каждом видел „джентльмена“, с коим можно говорить и должно договориться.
Была еще одна черта в его речах: он никогда не подделывался под аудиторию; он ее морально поднимал до себя. Если это был метод, то я склонен считать его гениальным. Когда В. А. Маклакова самого захватывало содержание его речи, то его ораторское волнение казалось „огнем священного горения“»50.
Речи Маклакова не были импровизацией, а являлись, «подобно арии певца или танцу балерины», результатом тщательной подготовки. Автор приведенного сравнения, М. М. Новиков, рассказал, со слов друга Маклакова М. В. Челнокова, о процессе подготовки к выступлениям знаменитого оратора. Маклаков сначала писал свою речь, затем начитывал ее на диктофон, слушал, делал в рукописи поправки, после чего приходил к Челнокову, жившему с ним в Петербурге в одном доме, чтобы ознакомить его с речью и выслушать его замечания. Новикову и самому один раз случилось принять участие в такой «репетиции».
«Следствием всего этого бывало, – вспоминал Новиков, – что, когда московский Златоуст поднимался на трибуну, у него в кармане лежал текст его речи, а иногда, кроме того, и сокращенное содержание ее, приготовленное для газетных корреспондентов. Все это характеризует, конечно, лишь добросовестное отношение оратора к своим ответственным выступлениям, а отнюдь не недостаток ораторской находчивости. Экспромты, которыми он разражался в ответ на критику его речей, были не менее блестящи, чем сами речи»51.
На мой взгляд, лучше всего удался анализ ораторского мастерства Маклакова все же Вацлаву Ледницкому:
Голос, личный шарм, произношение, невынужденная простота, с которой В. А. держал себя во время произнесения речи, свободная, непреднамеренная жестикуляция, являвшаяся всегда естественным подспорьем для содержания речи и ее эмоциональной вибрации, – быстрый, но всегда умеренно-быстрый, темп речи, интонация, безошибочно выдвигавшая особенно значительные слова, и, наконец, огромное богатство содержания – вот что мне запомнилось, как отличительные черты его красноречия. <…>
Речь Маклакова – речь рациональная, можно даже сказать рассудочная, «здравомыслящая», и красота ее заключается, мне думается, в чрезвычайно удачном сочетании правильности и точности, которые отличают французский классический язык, с простотой и меткостью русского. Искусство Маклакова заключалось не только в поразительном умении читать свои речи – никто из его слушателей никогда не мог заподозрить его в чтении – так свободно, казалось, он говорил; искусство заключалось в умении написать речь так, чтобы она при чтении звучала как устное, а не письменное слово… Маклаков так привык писать свои речи и так много их написал и произнес в своей долгой жизни, что это отразилось и на стиле его «печатной» прозы: все его книги написаны тем же правильным, четким, прекрасным, но живым, устным, так сказать, простым языком. Да, чеканная, изящная в своей простоте разумность, вот в чем, я думаю, скрывается тайна его красноречия52.
* * *Свой приход в политику Маклаков изображал в мемуарах как некую цепь случайностей; однако этих случайностей было столь много, что скорее следует говорить о закономерности и даже неизбежности этого. Идея права, законности в самодержавном государстве казалась подозрительной и едва ли не крамольной. В 1880-е годы произошел заметный откат назад от реформ Александра II. Николай II был склонен следовать заветам скорее своего отца, нежели деда. Власть все больше противопоставляла себя обществу, даже самым благонамеренным его слоям, сознававшим необходимость продолжения реформ. «Освободительное движение» стало ответом на неспособность власти пойти навстречу обществу.
В начале 1900-х годов Маклаков сближается с земской средой; по его мнению, освободительное движение зародилось именно среди земцев в 1890-е годы. В 1903 году он становится секретарем кружка «Беседа», в который входили видные земские деятели Д. Н. Шипов, М. А. Стахович, Н. А. Хомяков. Они были сторонниками реформ при сохранении самодержавия; доклады в духе конституционализма в кружке делали Д. И. Шаховской, П. Д. Долгоруков, Ф. Ф. Кокошкин. В кружок входили только люди, непосредственно работавшие в земстве; Маклаков был единственным исключением53. Он усматривал в освободительном движении две основных струи – земскую и интеллигентскую; в своей известной статье, посвященной «двум типам» русского либерализма, М. М. Карпович позднее развил мысли Маклакова, относя его безусловно к «земскому» типу54.
В земцах Маклакова привлекала практическая опытность и реалистичность; как и они, он был противником резких изменений; возможно, сказывался адвокатский опыт защиты в уездных судах и знакомство с тем самым простым народом, которому хотели доверить право если не самой власти, то прямых ее выборов некоторые народолюбивые интеллигенты. Маклаков страстно защищал долбенковских крестьян, отчаявшихся добиться справедливости законным путем и разгромивших соседнюю экономию; однако вряд ли он хотел бы видеть их в роли выборщиков депутатов в Учредительное собрание.
Полагаю, что именно достаточно хорошее знание жизни и реального уровня правосознания народа было одним из источников консерватизма либерала Маклакова. В мемуарах Маклакова приводится один любопытный эпизод. В период своего увлечения толстовством он гостил одно время в колонии толстовцев в Тверской губернии, основанной М. А. Новоселовым. Маклаков был очарован тем, что увидел. Однако конец колонии оказался трагичен. Власти, которых опасались толстовцы, на этот раз их не тронули. Опасность пришла с другой стороны.
Окрестные крестьяне, узнав, что соседние «господа» очень добрые и даже советуют «злу не противиться», решили проверить это на практике. Двое из соседней деревни пришли и «для пробы» увели лошадь только на том основании, что «она им самим нужна». Колонисты решили к властям не обращаться, но послать кого-нибудь в деревню, чтобы усовестить крестьян. «На другой день к ним пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них еще оставалось». О подробностях колонисты вспоминать не любили55.
Возможно, одна из причин нелюбви Маклакова к революциям, его эволюционизма – жизнелюбие. Он умел находить прекрасное в окружающей реальности; политикой и юриспруденцией не ограничивался его мир. Ему, несомненно, было бы жаль разрушения старой России, при всех ее недостатках и даже мерзостях; Маклаков хотел изменить Россию, но ни в коем случае не уничтожить – даже для построения самого светлого будущего на ее месте. Его «либеральный консерватизм» – не только логического, но и в известном смысле эстетического происхождения.
Приведу, для иллюстрации, фрагмент письма 35-летнего Маклакова А. П. Чехову – с Чеховым они были в приятельских отношениях, во всяком случае в 1903–1904 годах. Антон Павлович гостил в имении Маклакова Дергайково; Василий Алексеевич помогал ему в покупке участка земли по соседству (покупка по разным причинам не состоялась). В письме Маклакову из Крыма 26 марта 1904 года Чехов сообщал, что в Крыму плохая погода; поэтому его сестра Мария Павловна не вызвала Маклакова в Ялту телеграммой – тот намеревался провести в Крыму отпуск56.
В ответном письме Маклаков очень «вкусно» писал:
…из молчания Марии Павловны я уже понял, что в Крыму по части погоды неладно, пробовал отправиться просто в деревню, но там еще совсем зима, и кончил тем, что поехал за Брест, в женский монастырь (!), откуда и вернулся только вчера. Там вальдшнепы, хотя немного, утки, и в огромном количестве в прудах щуки, клюющие на блесну, окуни – на червя и карпы (!) на хлеб, и в довершение всего удивительно, на редкость интересная игуменья. А хотя погода там и неважная, но все же и тепло, и весна. Словом – целый день я занимался охотой в различных видах, а по вечерам беседовал с игуменьей, которую называл «матушка». И все это в монастыре, в страстную неделю57.
Политические знакомства Маклакова не ограничивались земской средой; с 1897 года он ежегодно ездил в Париж на Пасху и Рождество. После образования в 1902 году Союза освобождения, объединившего земцев и «интеллигентов» (деление, конечно, довольно условное) и начала издания за границей органа Союза журнала «Освобождение», Маклаков стал в нем сотрудничать, доставляя в журнал разного рода материалы. После переезда редактора «Освобождения» П. Б. Струве из Штутгарта в Париж Маклаков стал регулярно делать у него доклады; выступал он и в вольной школе М. М. Ковалевского; приходилось общаться и с более «левой публикой», например с одним из эсеровских лидеров М. А. Натансоном.
Так что Маклаков отнюдь не был столь политически «невинен», как ему, может быть, хотелось казаться полвека спустя.
Неслучайным было, конечно, и его участие в создании Конституционно-демократической партии и избрание его в члены ее ЦК. За ним, кроме перечисленных выше участия в «Беседе» и систематических контактов с «освобожденцами», числились и получивший довольно громкий резонанс доклад в Звенигородском комитете о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в котором он связал нужды этой самой промышленности с правовой защитой крестьянства и даже со свободой печати; участие в заседании Московского дворянского собрания в 1905 году (по случаю чего даже был сшит впервые дворянский мундир) с целью представить особое мнение либерально настроенного дворянства государю в пользу представительства; участие в организации Адвокатского союза, организации не столько профессиональной, сколько политической; наконец, выступления на ряде процессов, имевшие прежде всего политический резонанс.
Поэтому трудно принять на веру слова Маклакова, что в партии он оказался случайно, «а в Центральный комитет попал вовсе по недоразумению». Не принимать же всерьез версию о том, что решающую роль в его избрании в ЦК сыграла речь Маклакова об ответственности должностных лиц за беззакония, которую он произнес при появлении полиции в зале, где проходил учредительный кадетский съезд. Полагаю, что все эти оговорки вызваны позднейшими настроениями Маклакова и, возможно, отчасти присущей ему непоказной скромностью; тем не менее, несмотря на все свои расхождения с партией, Маклаков и не думал отрекаться от того, что, когда она начала работу в стране, он «в этом от всей души принял участие»58.
Маклаков объяснил, что его связывало с партией и в чем было его понимание «кадетизма». Партия «приносила надежду, что… реформы можно получить мирным путем, что революции для этого вовсе не надо, что улучшения могут последовать в рамках привычной для народа монархии… Партия приносила веру в возможность конституционного обновления России. Рядом с пафосом революции, который многих отталкивал и частично уже успел провалиться (вооруженное восстание в декабре 1905 г.) – кадетская партия внушала… пафос Конституции, избирательного бюллетеня, парламентских вотумов. В Европе все это давно стало реальностью и потому перестало радостно волновать население. Для нас же это стало новой „верой“. Конституционно-демократическая партия ее воплощала».
Маклаков считал, что партия указывала «обывателю» тот мирный путь, который он инстинктивно искал и ни у кого, кроме кадетов, не находил. Это мнение сложилось у него после многочисленных встреч с избирателями во время предвыборной кампании в Думу. Впрочем, одерживали ли кадеты победы над крайними потому, что отвечали чаяниям избирателей, или же потому, что ее представляли столь блистательные ораторы и полемисты, как он сам, Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Кизеветтер, М. Л. Мандельштам и другие, – это еще вопрос.
Так или иначе, Маклаков был уверен, что путь, на который звала партия, «ничем не грозил, не требовал жертв, не нарушал порядка в стране. К.-д. партия казалась всем партией мирного преобразования России, одинаково далекой от защитников старого и от проповедников неизвестного нового»59.
Уже с первого, учредительного, съезда наметились некоторые расхождения Маклакова с большинством партии, во всяком случае с большинством ее лидеров. Тем не менее он неизменно избирался в ее ЦК и был депутатом трех Государственных дум по кадетскому списку. Тотальную критику политики партии он предпринял уже в эмиграции, тогда, когда она перестала существовать – во всяком случае, как единое целое.
Что же касается первого съезда, то многих удивило, что Маклаков при обсуждении одного из параграфов программы сказал, что партия, «которая может завтра сделаться „государственной властью“ и ответственной за самое существование государства, должна защищать не только „права человека“, но и права „самого государства“». Это вызвало бурю негодования, а в перерыве С. Н. Прокопович разъяснил Маклакову, что кадеты все вопросы должны решать не как представители власти, а как «защитники народных прав». Таким образом, недоумевал Маклаков, партия, которая теоретически могла прийти к власти, отказывалась обсуждать, как конкретно она будет этой властью пользоваться и, в случае нужды, защищать ее от посягательств60. Возможно, поэтому кадеты оказались столь беспомощными перед натиском социалистов в 1917 году?
Не все участники съезда поняли смысл реплики Маклакова. С. Л. Франк писал П. Б. Струве, что «когда обсуждался пункт о неприкосновенности личности и жилища, Маклаков, в общем очень рассудительный и мыслящий человек, сказал, что мы скоро будем у власти и нам невыгодно очень ограничивать власть». «Я не мог возразить по случайным причинам, и слова его прошли без всякого протеста»61. Здесь интересны два момента: во-первых, столь тонкий мыслитель, как Франк, не уловил смысл проблемы, сформулированной Маклаковым, сведя ее к банальности. А ведь Маклаков говорил, используя его терминологию, о «государственной антиномии в демократии; как быть, если принцип народоправства поведет к отрицанию прав человека? Чему отдать предпочтение? Во имя прав „личности“ ограничивать народоправство, или во имя „народоправства“ пожертвовать правами личности?»62 Во-вторых, забавно, как по-разному воспринималась Франком и самим Маклаковым реакция на слова последнего; Франк не заметил «протеста», Маклаков же вспоминал о «разносе», устроенном ему Прокоповичем. Впрочем, Франк, вероятно, при «разносе» не присутствовал.
В 1-ю Думу Маклаков не баллотировался – был еще «молод». Дорогу во 2-ю ему неожиданно открыли роспуск 1-й Думы и подписание большинством ее кадетской фракции Выборгского воззвания, призывавшего к отказу от уплаты налогов, службы в армии и тому подобным формам гражданского неповиновения. Это лишило подписавших возможности баллотироваться в Думу 2-го созыва и выдвинуло в кандидаты на избрание кадетов «второго эшелона». Маклаков был избран от Москвы и быстро стал думской «звездой».
В отличие от лидера партии П. Н. Милюкова, заявившего, что после издания Манифеста 17 октября 1905 года, фактически провозгласившего ограничение самодержавия, ничего не изменилось и «война продолжается», Маклаков воспринял Манифест всерьез и полагал, что на основе провозглашенных в нем принципов вполне возможна «органическая» работа. Он отрицательно отнесся к Выборгскому воззванию; его пугали заигрывания с революцией, Ахеронтом, как называл его по старинке Маклаков; он считал, что сотрудничество с «исторической властью» возможно; особенно с тех пор, как во главе правительства оказался П. А. Столыпин. Маклаков, вместе с П. Б. Струве, С. Н. Булгаковым и М. В. Челноковым, даже счел допустимым встретиться с премьером накануне роспуска 2-й Думы, надеясь его предотвратить. Эта встреча едва не привела к «санкциям» по партийной линии, а четверка получила прозвище «черносотенных» кадетов. Несмотря на все эти «отклонения», все же вряд ли можно признать справедливым позднейшее полемическое заявление Милюкова, что Маклаков принадлежал к партии только формально. Зато лидер партии был безусловно прав, утверждая, что Маклаков занимал в ней особую позицию; особость ее заключалась в том, что Маклаков был самым правым из кадетов; с этим соглашался и сам Маклаков, это было видно и со стороны, например В. И. Ленину.
О своей деятельности во 2-й Думе Маклаков рассказал подробно в книге воспоминаний, к которой я и отсылаю читателя63. Теперь же – о десятилетии 1907–1917 годов, которое стало пиком его политической карьеры и закончилось крахом надежд на мирное преобразование страны, а также началом новой – дипломатической – карьеры, обернувшейся 40-летним изгнанием.
3-я Дума оказалась единственной, просуществовавшей полностью отведенный ей срок. В этой Думе кадеты были меньшинством, оппозицией; переворот 3 июня 1907 года, приведший к изменению избирательного закона, гарантировал правительству «работоспособную» Думу, решающую роль в которой играли октябристы; лозунгом кадетов стало «сохранить Думу».
Идеи Маклакова о сотрудничестве с исторической властью, с «конституционалистом» Столыпиным, казалось, могли осуществиться. Он действительно был склонен искать компромиссы с политическими противниками в Думе и с правительством, нередко расходясь со своей собственной партией. Так, однажды он поставил в неприятное положение своего партийного лидера Милюкова, выразив сочувствие «в принципе» правительственному законопроекту об уравнении в правах русских и финляндских подданных, что фактически вело к ущемлению автономии Финляндии, и даже заявив, что «государственный переворот иногда ведет к благу, как хирургическая операция к выздоровлению». Последнее высказывание, хотя Маклаков и оперировал историческими примерами – свержением с престола и убийствами Петра III и Павла I, могло быть истолковано как одобрение третьеиюньского переворота64. Милюков позднее писал, что Маклакову фракция «не всегда могла поручать… выступления по важнейшим политическим вопросам, в которых, как мы знали, он не всегда разделял мнения к.-д.»65.
Что заставляло партию терпеть такие отходы от ее «линии», достаточно заметные и для членов партии, и для ее оппонентов? Маклаков за содержание своих речей иногда, «как правый кадет, получал упреки от руководителей фракции, но он мог себе позволить роскошь непослушания партийным директивам», благодушно замечал М. М. Новиков66. Все искупал ораторский талант. О том же писал и Е. А. Ефимовский. Наиболее авторитетно в этом случае, конечно, высказывание Милюкова, отмечавшего, уже после нелицеприятных высказываний Маклакова в его адрес, что его наиболее сильными помощниками в 3-й Думе были Ф. И. Родичев и Маклаков; Маклаков был «несравненным и незаменимым оратором по тонкости и гибкости юридической аргументации»67.
Для Маклакова же членство в кадетской партии, по утверждению Ефимовского, ссылавшегося на конфиденциальные разговоры с ним, было «браком по расчету». «Оратору нужна не „кафедра“, – писал Ефимовский, – а аудитория, певцу – аккомпанемент и публика; политическому деятелю – политический аппарат и соответствующая ему общественная среда. Все это в избытке давала партия Народной Свободы. Но в ней была еще одна, только ей присущая, черта: в ней была „дисциплина“, но не было „диктатуры“ ни личности, ни самого аппарата. Бездарных спасала дисциплина и авторитет партии; выдающимся она не мешала их личному творчеству»68.
Однако вряд ли это можно признать удовлетворительным объяснением: что мешало Маклакову перейти в другую, более умеренную партию? Дисциплины в тогдашних думских партиях было не больше, чем у кадетов, и трудно представить, что он мог бы где-то затеряться; личных и политических друзей в либеральных партиях правее кадетов у него хватало. Дело все-таки было в том, что Маклаков оказался в партии кадетов не случайно и, несмотря на особенности его позиции по некоторым вопросам, в целом разделял ее программу; тактические разногласия с партией после 1907 года у него в значительной степени сгладились. Не кто иной, как Милюков, характеризуя тактику кадетов в 3-й Думе, писал впоследствии, что «мы решили всеми силами и знаниями вложиться в текущую государственную деятельность народного представительства»69.
В 3-й Думе Маклакову партия поручала выступления по таким принципиальным вопросам, как дело Азефа, об утверждении сметы Министерства внутренних дел, о введении земства в Западном крае, об отмене «черты оседлости» для евреев и др. Правда, Милюков писал, что он сам выбирал выступления «наиболее для себя казовые»; но это было вполне естественно, как естественным было то, что сам Милюков выступал по внешнеполитическим вопросам, в которых разбирался лучше своих товарищей по партии, а А. И. Шингарев, к примеру, специализировался по финансовым проблемам.
Речи Маклакова в 3-й Думе наглядно демонстрируют, что проще было рассуждать о сотрудничестве с исторической властью, чем на деле совместно работать с конкретным «конституционным» правительством России, для которого настроение царя, как правило, перевешивало мнение всех народных представителей, вместе взятых. А на императора, в свою очередь, заметное воздействие оказывали силы, которые было принято называть «темными», – крайне правые, противники реформ и сторонники отказа даже от тех положений, которые были продекларированы в Манифесте 17 октября 1905 года и возведены в закон в апреле 1906-го.
В речи при обсуждении бюджета Министерства внутренних дел 25 февраля 1911 года Маклаков говорил, что прежде виноватых в том, что не проводятся реформы, находили в левых, революционерах. Теперь их усматривают в правых, в их самочинных организациях, в реакционной второй палате – Государственном совете. Маклаков ставил вопрос: «Как это вышло, что всемогущее Правительство, вместе с Думой, бессильно против каких-то темных сил? Чем объяснить это трагическое фиаско союза Правительства с Думой в деле обновления страны?» Он указывал на противоречивость программы и действий правительства, на его двуличность: «Одним лицом оно говорит красивые речи и предлагает широкие реформы, а другим лицом делает скверные дела, которым аплодируют справа». Маклаков пришел к неутешительному выводу о том, что идея 3-й Думы, «идея обновления России в союзе Думы с Правительством», потерпела фиаско70.
Выступая при обсуждении запроса по делу Азефа, Маклаков назвал Столыпина, заявившего, что в этом деле правительство не хочет становиться в положение «стороны» в тяжбе с революцией и что Азеф не провокатор, а честный агент полиции, выполнявший необходимую для обеспечения безопасности государства работу, «не только стороной в этом деле, но стороной с готтентотской моралью».