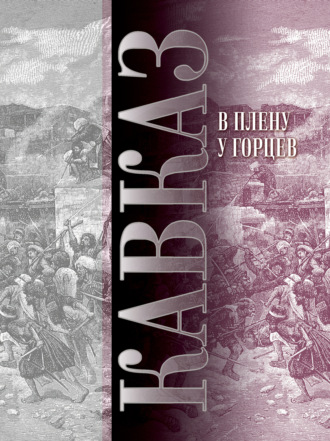
Полная версия
Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев
Абазата уже не было дома, от стыда он ушел еще утром и не являлся пять дней; жена и сын были оставлены на мое попечение, я принял их на себя и без его просьбы. Он простился со мной, не говоря ни слова, не заглянул и в саклю к жене. Ему сын – баран! Как говорил он мне после.
На хуторе нам все были чужие и вовсе прежде не знакомые моей хозяйке: кого же Цацу могла просить о пособии себе! А как тяжко обременять собой других! В ком нет искры сострадания, тот бережет свою доброту и не делится с неизвестными ему. Кто умеет отблагодарить нас в ласковых словах, перед тем мы и доброту свою считаем за ничто; но одно слово «спасибо», слово простое, но сильное, не всегда отзывается в сердце другого. «Спасибо тебе, мой кормилец! Мой родимый!» – слова не для всякого родные, но кто чисто русский, того они трогают. Тяжка чужая сторона, но как отрадны и минутные ласки чужих людей! Не там ли пробуждаются прежние чувства, заброшенные нами с возрастом! Не там ли больше мы научаемся любить и родных своих! Там мы уверяемся в своих друзьях; там мы всех разбираем анатомически!.. Но горе вам, если мы, забыв эти чувства на чужбине, воротимся на родину ни с чем!..
Я понимал чувства Цацу между чужими и, помня свое, не требовал мзды, видя ее внутреннюю радость. Я отдал себя на служение, приличное лишь девушке. Перестлать Цацу постель, укрыть ее, вот тут и вот тут дельга, делиндуга! Покачать ребенка – грешно мне было бы отказаться. Тогда не раз она уверяла, что я теперь нужен, что Абазат редко бывает дома; но я не таял, зная горцев хорошо, а все-таки трудился без стыда около слабой роженицы. Цацу была неретива и прежде, а тут, при моей заботе, почему было не понежиться! Иногда она не поднималась даже и на плач ребенка: быть может, надеялась на Судара, и Судар тот не считал ребенка за барана, как отец его.
Прошло пять дней, Цацу все нежилась и нежилась, и я по-прежнему сушил пеленки. Видя во мне раба безмолвного, она стала и поохивать, сердясь, что я или не так ее одел, или не умею убаюкивать. Ответом моим было молчание, всегдашний мой щит. Но прочитать этот иероглиф умел не всякий. Вот как Цацу умела читать его. На шестой день, вечером, люлька, которую я же сделал, поломалась; Цацу заставила сделать ее по-прежнему: я также сколотил ее, как старую, но не знал, как привязать веревочки и палочки, не понимая технических названий; Цацу сердилась явно, не веря моему незнанию, и принялась оправлять сама. Но учительница не умела привести в лад качалку и, злясь, беспрестанно плевала. Я не вытерпел, ушел к Тамат и стал говорить ей:
– Ты знаешь, Тамат, как я жил до сих пор; знаешь, как ходил за ребенком: не стыдился того, что пристойно только девочке!.. Я не хочу у них жить, пусть продадут кому хотят; не то пусть ее муж лучше убьет меня, чем быть таким рабом!
Выслушав хладнокровно, Тамат отвечала:
– Погоди, Судар, не сердись, она еще больна; ты знаешь, что у вас нет никого, кроме тебя.
Тамат пошла сама делать зыбку, пеняла Цацу за такое обращение, но, как свое, все-таки оправдывала ее:
– Ей думается, что ты понимаешь, но не хочешь делать; потерпи немного, она скоро выздоровеет.
Посидев немного, я ушел домой и лег спать. Ребенок не виноват – ночью я качал его по-прежнему.
Наутро пришел Абазат, я качал его сына; подавая мне руку, он спрашивал:
– Что сын мой, Судар?
– Нет, не твой он сын! – говорил я, смеясь.
– Как не мой, Судар?
– Ты видишь, что качаю его я, а не ты.
– Ну, погоди, Судар: теперь некому, я приведу девочку, сестру Цацу, ты больше никогда не возьмешь его в руки.
Посидев немного, он пошел к Тамат, а я в лес, чтобы дать им простор поговорить обо мне.
Я воротился к вечеру. Абазат сидел у огня; подумав немного, он стал говорить:
– Для чего ты, Судар, жаловался другим? Это нехорошо! Дождался бы меня.
– Я не вытерпел, Абазат, когда Цацу меня ругала.
Цацу начала божиться (вал-лаги, билляги, дейер-куранур!), что не бранила. Абазат молчал.
– Я заметил, Судар, – говорил он, уже смеясь, – что ты сердился, когда я давеча спрашивал тебя о сыне.
Я улыбался.
– Ну, потерпи: скоро придет сестра, я звал ее.
Цацу, по приходе мужа, сама убрала свою постель и лежала на одном только камышовом ковре; вечером, видя, что мы помирились, умильно просила меня снять с полки постель и постлать им, показывая тем все еще свою слабость и что точно так же ласково обращалась со мной и прежде. Но Абазат грозно крикнул на нее, заставляя встать саму. Плохо еще хитрила Цацу, должна была встать.
Утром Абазат, собираясь в путь, ни к селу ни к городу начал говорить мне, что никогда ни за что не продаст меня, как разве только на мою сторону, к русским; я слушал и подозревал. По уходе его я пошел к солдату и заранее прощался с ним, говоря:
– Я знаю, что продаст теперь, и продаст в горы; а мне хочется пожить там, узнать обо всем хорошенько: авось, Бог даст, ворочусь к своим – все пригодится.
Предположения мои сбылись.
Меня продали. Тяжко быть на этом месте! Заставить молчать в себе ум и чувство, быть деревяшкой!..
Ожидая перемены в своей жизни, я в последний раз беседовал со своим товарищем-солдатом в его сакле. Перед обедом слышу – кричат:
– Судар! Ва Судар!
Они думали, что я в лесу. Мы оба вышли посмотреть – перед нами стояли два гайдука. Я засмеялся и подтвердил товарищу свои предположения.
– Который из вас мой хозяин?
Купивший отозвался. Я простился с солдатом и пошел в свою землянку. Цацу ласково говорила:
– Ну, Судар, ты пойдешь к Аккирею; сними же с себя мешок.
«Ври, ври, моя голубушка; не понимаю я ничего!» – подумал я про себя. Вынул деревянную шпильку, которая держала на мне мешок, как всегдашний мой зимний покров, и скинул с себя эту рыцарскую тогу. Свернув его, положил вежливо, готовый снять с себя до нитки, скорбно простился с хозяйкой и вышел к новому хозяину, который ждал меня перед землянкой.
Змеи кипели в груди моей. Мне хотелось прижаться к чьему-нибудь сердцу.
Родных никого нет, русских тоже, кроме виновного солдата! А в это время горько вспомянуть о своих и вместе отрадно, когда представишь свои обычаи при прощаньях! Я велел пришедшим подождать и побежал опять к товарищу; но хозяин, боясь потерять меня из виду, шел за мной следом. Я простился еще; мы оба плакали… Все в хуторе стояли тогда на своих землянках и любовались нашей приятельской разлукой.
Со слезами на глазах я оставил своего собеседника и пошел впереди своих проводников. Это было в начале февраля; день был холодный; я шел скоро, чтобы согреться, не говоря с провожатыми ни слова. Хозяин мой снял с себя бурку и башлык и начал укутывать меня, как мать маленького ребенка. Холодно, досадно и вместе грустно было мне тогда: я стоял перед ним, как кукла. Я сердился на Абазата и его вероломство, и вместе прощал и ему, как дикарю, и был покорен своей судьбе.
Абазат сторговался заочно и, чувствуя свою вину, не показывал глаз.
Мы шли молча; хозяин мой первый нарушил молчание: он стал спрашивать по-русски, что я умею делать.
– Увидишь, когда я буду жить у тебя, – отвечал ему я сухо.
– «Увидишь!» Значит, ты не хочешь жить? Ну, Судар, если уйдешь и поймаем – голову долой!
«Поймаешь либо нет, – думал я, – а убьешь – мне не страшно умереть».
Новый хозяин, видя неразговорчивость мою, опередил меня и пошел скоро, повесив голову; другой гайдук шел позади меня: я был под караулом. Оба они несли ружья под мышками, опустив стволы к земле; чехлы с ружей висели за спинами; я шел в бурке, как в богатой шубе с бобровым воротником, а из-под башлыка примечал дорогу, оглядываясь нередко назад, как бы прощаясь со своим хутором.
Нам встретились трое чеченцев, знакомые моему хозяину. Мы остановились; хозяин показывал им свою покупку; я злился, когда они оглядывали меня с головы до ног, и отвернулся в сторону, давая тем свободу делать им свои замечания обо мне. Не думали они, что я хорошо понимал их, и говорили вслух, даже божились, что я уйду непременно. Разменявшись приветствиями, мы пошли дальше. Видно было, что купивший недоволен был своей покупкой: все трое мы шли до аула молча.
Далеко было за полдень, когда мы пришли в аул, где должны были переночевать. Старик, знакомый моему хозяину, тотчас накормил нас; в благодарность за хлеб-соль мне велено было нарубить ему дров. Я рубил до поту.
Невдалеке на улице стояла толпа мужчин, а мой Абазат красовался перед ними на сером коне, которого взял было за меня. Я не приветствовал его издали; вдруг Абазат меня кликнул, вся толпа оборотилась; я бросил рубить, надел бурку, брошенную тогда на время работы, обернулся башлыком, не торопясь, подошел к толпе и никого не приветствовал. Абазат сошел с лошади и отдал ее прежнему владельцу; велел мне снять бурку и башлык и идти за собой.
Как я продан был за глаза, то, вероятно, в этом ауле торг должен был кончиться, а Абазат расстался с конем. Он шел передо мной молча, торопя меня, где и бежал; но я шел мерно, показывая тем на свою усталость после работы и снег; на бегу он сбросил с себя полушубок, я также молча поднял его и, надев, уже не отставал.
Абазат торопился отдать плеть, взятую им на время в недальнем ауле.
Скоро мы дошли до аула Галэ, где зимой жили его братья, Янда и Яндар-бей. Меня приняли, как гостя, оправдывали Абазата, который и не показался во всю ночь, просидев в другой сакле.
* * *О неудаче Абазата тотчас же разнеслось по кутку нашему, и солдат, товарищ мой, ждал меня нетерпеливо. Поутру Янда проводил меня к Високаю; мать, сестры и брат Цацу собрались навестить больную и взглянуть на новорожденного. Все мы поехали на санях.
Цацу обрадовалась родным, со мной поздоровалась сухо. Я ушел к солдату; встреча была радостная.
Утром пришел Абазат в саклю вдовы. Я рубил дрова. Поздоровавшись с хозяйкой, он вышел и, прислонясь к стене, стал говорить:
– Ты, Судар, сердишься на меня, что не хочешь и здороваться?
– Разумеется, сержусь, – говорил я, – ты не уздень – не верен своему слову!
Сознаваясь внутренне в своей вине, он не обиделся от такого ответа, лишь оправдывался, как и его братья; я молчал и продолжал рубить; он отошел прочь.
VI
Поход в горы. – Встреча с Акой. – Покупка. – Казаки. – Весна в Гильдагане. – Приезд Хаухара. – Пленница-казачка. – Бей-Булат. – Интересный торг. – Поздравления.
Прошло две недели. Абазат предлагал мне идти в горы, в работники к эндийцам, как я просился.
– С тем только пойду, – говорил я, – если пришлют выкуп, ты должен меня забрать.
Он обещал. Поход отложен был на день. Абазат сходил между тем за Яндой, и мы отправились втроем; к ночи пришли в Галэ. Весь вечер я продумал, перевернул весь свет и досадовал, что согласился. Абазат спрашивал о моей задумчивости.
Я отвечал:
– Для чего ты скрываешь? Ведь ты ведешь меня продавать. Разве я уйду отсюда?
Долго он не признавался, потом стал извиняться, что ни у него, ни у жены, ни у меня самого нет ничего и работы тоже. Я просил продать порядочному человеку.
На мое счастье, утром приехал Ака. Обрадовавшись, я вышел ему навстречу.
– Марши-ауляга, Судар! А-хунду этци? (Выражение марши-ауляга слово в слово значит шествуй благополучно. А-хунду этци? – Для чего ты здесь? А-хунду – также приветственное слово, то есть ну что? или хун-дош? – что слово? То есть что скажешь? Что нового?)
– Абазат ведет меня в горы, – отвечал я.
– Яц, яц! – вскричал Ака. – Ма-ойля! Ма-ойля! (Нет, нет! Не думай! Не думай!)
Я не верил ничему.
День прошел в переговорах. Наутро Абазат, отозвав меня в другую землянку и заставляя клясться над своим талисманом, говорил:
– Ты знаешь, что я тебя любил; сколько раз за тебя доставалось от меня жене моей! Грешно будет тебе не дать мне слова. Мне жаль продать тебя в горы; я отдаю тебя Аке, несмотря, что в горах взял бы дороже. Ака берет с условием: он дает мне лошадь, а я в придачу к тебе – свое ружье; если ты проживешь до осени, то я пользуюсь лошадью; если же уйдешь, то лошадь я должен возвратить и ружье мое пропадет. Поживи хоть до осени, а там как хочешь. Я дал слово.
Условясь, мы вошли к Аке. Он встал и, взяв Абазата за руку, начал при свидетелях:
– Вот этот газак (газак – казак или русский вообще. Это название еще довольно ласковое, потому что они казаков любят, несмотря, что те не милуют их. Они говорят: «Газак дяшгит! Люля возур-вац! Нохчи-сенна! Ваша», то есть: «Казак молодец! Трубку не курит! Словно нохчиец, брат нам». Ваша собственно значит двоюродный брат. Правда, казаки не уступают горцам в джигитстве), этот топ (ружье) беру я, а отдаю лошадь…
Старик разнял руки, я бросился к Аке на шею, поцеловал Абазата, который тотчас же ушел на хутор к Аке за лошадью; все стали поздравлять меня и Аку. Я был весел, Ака – вне себя.
Ака приезжал просушивать кукурузу, сложенную на зиму в лесу, вблизи Гильдагана. Из большого плетневого ларя, стоявшего на тычинках, мы в один день перевешали пучки на деревья; на другой день простились с Яндой совсем, заехали к Дадак, которую я не видел полгода; муж ее, Моргуст, повеселил нас своей скрипкой.
Их скрипка состоит из чашки с квадратным вырезом на дне, обтянутой сырой кожей, с двумя круглыми прорезями; к ней приделан гриф, а вместо струн три шелковинки; смычок из конских волос. У многих есть балалайки (пандур).
* * *Дадак пособила нам сложить пучки опять в ларь, и мы отправились домой. Дорогой Ака колесил по разным аулам, показывая меня.
Подъезжали к хутору, на скрип арбы выбежали встречать нас дети Аки: Худу, Чергес и Пуллу (эту девочку они назвали в честь генерала Пулло). Все они радостно меня приветствовали. С Худу я обменялся улыбкой. Чергеса и Пуллу поцеловал. Ака стал говорить своей Туархан:
– Ну, метышка (метышкой называются уже пожилые; жена собственно – стэ, муж – ир. Быть может, от ир – ум, говорят ир-стаг – умный человек. Молодые же друг друга не называют никак. Часто, подшучивая, я заставлял Цацу произнести имя мужа, как будто не понимал, к кому она обращала речь. При посторонних молодая ни за что не станет говорить; при гостях-мужчинах и не покажется. Тогда услуживает хозяин, и если гости с лошадьми, то караулит их на пастбище или у себя, задав им корму, жена уже барыня – отдыхает), и ты, Худу, почините все платье Судара, вымойте мою рубашку; я отдам ее ему, а себе куплю другую.
Все было исполнено беспрекословно: Худу перемыла все, Туархан перечинила; поршни починил я сам, а для тепла Ака уступил мне свой полушубок.
Лихорадка меня оставила, я стал поправляться – и от перемены в жизни, и от пищи: на мое счастье, у них отелилась корова, а молоко я любил и прежде.
* * *Наступала весна, настал март, мальчики, по обыкновению, стали ходить по домам и приветствовать жителей с веселым временем. Двое или трое, раскатав свиток, нараспев читают содержание его. Точно такие же поздравления бывают и по уборке хлеба или по окончании покоса. Поздравителям, разумеется, всякий, по силе, дает что-нибудь.
Мюрады также пошли по аулам отыскивать женихов и невест. Не знаю, что думал Ака, он говорил:
– Как думаешь, Судар: рано еще выдавать Худу? Ведь надо работать, а тебе одному будет тяжело?
Я подтвердил, что рано. На другой же день, по приходе мюрадов, чуть свет мы выехали в Гильдаган, куда не переезжал еще никто. Три недели мы жили одни. Худу была необыкновенно ко мне ласкова. Два платка, подаренные ей женихом, и три целковых задаточных Ака отвез назад; и когда сват приехал к нему в другой раз, он отказал ему наотрез, говоря, что Худу еще молода.
Худу была уже просватана года два. Случается, что отцы еще в младенчестве своих детей дают друг другу обещание породниться, и дети свыкаются заранее.
На мои «почему, для чего отказано?» – Ака отвечал, что жених ему не нравится и что мне тяжело будет работать одному.
Ожидая еще снег, я запасся дровами, складывая их в поленницу, по которой часто узнавали меня, русского, мимо проходившие беглые. В самом деле, выпал снег, подножный корм был занесен, нужно было ехать за сеном в лес; на этот раз Ака пожалел меня, отправился один, только взял с меня полушубок, не имея у себя другого. Наконец стали одни за другими съезжаться.
* * *Вздумалось Аке наготовить дров. Накануне Благовещения мы отправились в лес, привезли воз, да два раза ездил я один. Не поев еще в этот день ничего, я утомился; сложив дрова, не пошел в саклю, а сел на сделанную мной лавочку, перед дверью; Ака извинился, что я голоден, и торопил Туархан приготовить мне сыскиль. Накормив, все они вышли во двор беседовать на солнце; я остался в сакле, усталый и грустный, лег на пол перед огнем и заснул крепко. Солнце начинало садиться. Ака, боясь лихорадки, разбудил меня, я встал и стал горевать на лавочке; тоска непонятная одолела меня. В ауле было уже семей двадцать; у нашей сакли толпилась куча, я сидел один, вдруг подъехал верховой, сердце мое вздрогнуло, я полагал, не присланный ли за мной из Грозной, но ошибся; когда толпа обернулась ко мне, показывая на меня приезжему, я не вытерпел, подошел к ним, поздоровался, и тут начался торг. Я спросил, где живет покупатель; все закричали, что вблизи Грозной, показывая тем, что я легко могу уйти, если захочу. Меня удивила такая откровенность, тем более что приезжий не был знаком никому, следовательно, можно было говорить двусмысленно: намекая мне о возможности наутек и показывая ему, что они готовы услужить продажей и потому прельщают близостью. Я предполагал, что тут что-нибудь да значит, и знал, что без согласия моего Ака меня не продаст, поклявшись при покупке, что если пришлют выкуп, отдать тотчас же, если же нет, то держать у себя, пока я сам не захочу быть проданным. Ему можно было ждать выкупа; он не так нуждался, как Абазат. На выкуп надежда была плохая, когда прошло уже пять месяцев, с тех пор как я писал. Я стоял в раздумье. Покупатель говорил, что у него есть пленная казачка, девушка, которую, если он меня купит, отдаст за меня замуж. Опершись на ружье, Ака опустил голову, отдаваясь совершенно на мою волю. Не дав мне выговорить и слова, приезжий отвечал:
– Как не хотеть жениться!
Сомневаясь в твердости Аки, потому что шапка серебра меняет все, я, осмотрев всадника, заключил, что он добрый человек, и решился ударить по рукам… Настоящий торг был отложен до завтра. Утром Ака должен был привести меня на хутор покупателя, который находился верстах в пятнадцати.
Вся ночь у меня прошла в мечтах. Мы встали чуть свет. Чтобы продать товар лицом, Ака натуго подпоясал меня ремнем, пообтянул полы полушубка, подправил рубашку, осмотрел обувь, поразбил косматую шапку и просил быть веселей.
Простясь со всеми, мы пошли скоро. Снег таял, Холхолай бушевал. По жердям через реку Ака пробежал, я следом было за ним, но с непривычки голова закружилась, и на самой середине я упал на руки. Ака хотел было воротиться провести меня, но мое самолюбие удержало его; отдохнув, я сам дополз до берега.
В первом встречном ауле Ака спросил о Хаухаре (так звали покупателя), точно ли он имеет пленницу-девушку: было подтверждено. Но придя в настоящий хутор, оба мы должны была разочароваться: пленницей была пожилая женщина. Нам показали на нее, она стояла на крыше землянки. Подойдя ближе, стыдно было взглянуть на нее: она была в белой рубашке, на остриженной голове белый платок, казалась дурочкой. Когда вошли мы в дом, ее кликнули, чтобы поговорить с русским. Из разговоров с ней я узнал, что она круглая сирота на чужой стороне. Веселые горцы не знают тоски. Ей говорили:
– Ну, Мари, вот твой жених.
Казачка заплакала, я старался успокоить, она говорила:
– У меня есть дочь, полно, не старше ли тебя! Куда мне замуж и пара ли ты!
Я засмеялся. Обдумав, пленница переменила тон:
– Вы, служивый, верно, сами сюда пришли? Давно ли здесь живете?
Я отвечал, что я пленный.
– Не может быть: так пленные не ходят, не одевают их так, да вы такие веселые!
Хаухар еще не возвращался; из Гильдагана он проехал в другие аулы, желая найти солдата подешевле. Родной его брат, Бей-Булат, староюртовец, вызвал меня на крышу землянки и стал говорить:
– У меня есть еще брат, кроме Хаухара, Тоу-Булат, который содержится теперь в остроге; чтобы освободить его, надо привести пленного, вот я и пришел сюда за этим. Хочешь ли ты к своим? Теперь всем полкам дан отдых и всем вышли награды, кто только был в Ичкерийском лесу.
Недоверчивы горцы в высшей степени, недоверчивости и я научился у них: я думал, что он выпытывает, как я думаю о родине, можно ли надеяться, чтоб прожил в этом месте, близком к русским.
Я отвечал:
– Разумеется, хотел бы и к своим, но почему не жить и здесь, если брат твой человек добрый.
– Нет, – говорил он, – ты все-таки не веришь; нам хочется купить тебя подешевле, вот почему мы и говорим твоему хозяину, что покупаем в работники; если он узнает, что русским, то или не продаст или запросит дорого. Ничего не говори своему хозяину.
Я стал верить.
Приехал Хаухар, начался торг. Видя неуступчивость покупателей, Ака стал ломаться: ему давали и ружья, и кукурузу; он говорил, что у него три ружья, а кукурузы будет на три года. Разумеется, он лгал, ему хотелось взять что получше. Замечая, что Хаухар беспрестанно советуется с братом, я стал уверяться, что точно покупает Бей-Булат, а не он, и стал смело говорить Аке:
– Что же ты не отдаешь? Ведь тебе дают хорошо?
Ему давали и лошадь, но он ломался больше, говоря, что лучше поведет меня в горы, возьмет там не столько; если же не продаст там, то надеется, я буду хорошим работником, научусь и мастерству… Досадно было мне, я советовал Аке отдать меня, показывая тем, что я больше не хочу у него жить. Разгоряченный Ака повесил голову и, подумав, ударил по рукам.
Так я отдан был за кобылицу с жеребенком, оцененную в двадцать рублей серебром, да впридачу Хаухар обязался еще уплатить восемь целковых.
Взяв лошадь, Ака извинился, что не может оставить на мне полушубка, что у него самого только один; я тотчас снял, мне принесли другой. Ака пожелал мне доброго житья, а я послал с ним поклоны.
Проводив Аку, все стали меня поздравлять, что я скоро увижу мать свою. Бей-Булат говорил:
– Почем знать? Может быть, теперь тебя и отдадут матери за твой плен!
Двадцать пятое марта было доброй вестью для меня.
Тут я написал и письмо казачке, и Хаухар обещал отвезти его сам.
* * *По привычке видеть между горцами обманы я не радовался наружно. Хаухару казалось странным мое хладнокровие, он говорил:
– Скажи, если не хочешь к своим, я оставлю, найду другого солдата; если хочешь, женю; Мари променяю на девушку-казачку, вот недалеко от нас?..
Рано разбудил меня Бей-Булат, говоря, что идти далеко. Мне дали небольшие санвы, положили туда индюшиных яиц, прося Бей-Булата взамен их принести им куриных. Поручено было ношу беречь. Казачка просила передать о себе в свою станицу Стодеревскую. Горько зарыдала она, когда я перекинул сумочки через плечо.
Благословясь от всей души, я скорым шагом пошел к своим.
Беляев С. И. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев // Библиотека для чтения. СПб., 1848. Т. 88. Ст. 1. С. 71–102; Т. 89. Ст. 2. С. 21–49.Иван Загорский. Восемь месяцев в плену у горцев
Иван Загорский происходил из дворян Волынской губернии Луцкого уезда. В 1837 году, будучи студентом Виленской медико-хирургической академии, вступил в «тайное общество» студентов этого учебного заведения, в 1839 году по приговору военного суда был лишен всех прав состояния и сослан на Кавказ рядовым. Служил в Черноморском линейном 10-м батальоне, участвовал в военных действиях. В 1846 году произведен в прапорщики, в 1848 году – подпоручик, в 1850 году – поручик.
Об Иване Загорском упоминает другой поляк – Карол Калиновский. В своей книге «Памятник моей военной службы на Кавказе и плена у Шамиля с 1844 до 1854 гг.» в разделе «Поляки в Дагестане» в главе «Лекарь поневоле» он писал: «Иван Загорский в 1842 году оказался в плену у горцев. Через горы и долины его привели к Шамилю и заключили в подземелье, где поляк попал в среду таких же несчастных, как он сам.
Прошли дни, недели, месяцы – никто не собирался их вызволять. Пленные страдали кишечными заболеваниями. Но к их счастью Иван Загорский имел медицинское образование. По просьбе товарищей он обратился к имаму, чтобы ему разрешили собрать лекарственные растения. Шамиль дал согласие. Загорский из собранных в окрестностях Ведено трав готовил настой, поил товарищей и, как он сам рассказывает: „Все мои больные выздоровели“.
К тому, что написал выше, добавлю, что туземные лекари помогали Загорскому, где и как искать необходимые травы, а поляк, в свою очередь, передавал им опыт медика, окончившего специальное учебное заведение».









