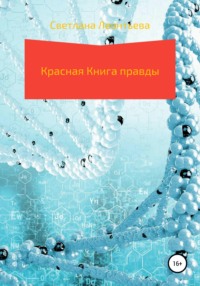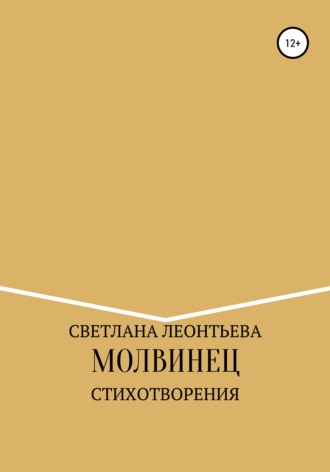
Полная версия
Молвинец

Светлана Леонтьева
Молвинец
***
А я всех люблю! Всех, кто обидел, простила!
Всех, кого невзначай, невольно, меня простите.
Всех, кто сердце кромсал моё с дикою силой,
чтобы после сшивала его грубой нитью.
Я – как Феникс из пепла, что Феникс до пепла.
У меня ни слова из груди, а кометы.
Я сама от себя, возгораясь, ослепла,
я сама от себя, укричавшись, оглохла,
я сама от себя задыхаюсь – до вздоха,
я сама так умна – что дурёха!
Света! Света…
Снохам
повезёт моим, ибо не жадная вовсе.
И качать буду внуков – мой мальчик, мой кроха!
И укладывать в восемь.
Во вселенском масштабе я мыслю эпохой,
а в космическом мыслю распятием Бога.
Нынче в церкви стояла: и слёзы струились,
где душа – вдоль ожога…
Того самого, где я, что Феникс из пепла,
где, что Феникс до пепла!
О, как руки мои прямо в небо воздеты,
мне до неба полметра!
Успевай только трогать небесные ситцы!
Успевай только гладить небесные бязи!
Всех люблю! Всех прощаю! Вморожены лица
в мои жаркие раны. В душевные казни.
Всё равно я на дно не залягу. А буду
выковыривать рифмы из рваных сосудов,
выцеловывать их изумруды!
И распахивать ящик Пандоры всечасно.
Всеминутно и ежесекундно. А впрочем
всё равно я согласна, с чем я не согласна,
всё равно я виновна, в чём я не виновна. И точка!
Лишь бы родина, лишь бы мой дом, мои дети
были здесь и всегда. Чтоб, как Феникс из пепла.
И пускай мой огонь им всегда всюду светит
благолепно!
***
Всем поэтам с глагольною рифмой в гостях,
всем поэтам с глагольною рифмой в кистях,
намывающим мягкое олово фраз,
говорю: «Я подвинусь! Вперёд на Парнас!»
Где Коринфский залив. И Кастальский приют.
Мне глаголы в плечо, как приклад отдают!
Я других узнаю по таким же краям,
этим рваным, кровавым, хорей где и ямб,
редким рифмам там, где миокардовый джут.
Кто мня распекал, я спрошу: «И ты – Брут?» !
Пусть уста мои слово «спасибо» вопят,
всем поэтам, глаголы смыкающим в ряд.
Кому шёлк, кому бязь, кому масло овец,
а поэту поэт – нет, не враг, а творец.
И поэту поэт – клад!
А на этом Парнасе – высокой горе,
а на этом пегасе – чья шкура, как лён,
всяк поэт – это Бродский с мечтой умереть
на Васильевском острове в смуте времён.
Всяк поэт – как Хоттабыч с цветастым зонтом
без дождя при дожде, дождь, как раны на соль.
Всяк поэт обжигает обугленным ртом.
Всяк поэт – это голый король!
И он носит жемчужину в книгах своих:
переливчатый звон у глубокого рва,
в подреберье его, не проникшие в стих,
запекаются насмерть слова.
Всем поэтам с глагольною рифмой – мой сказ.
Всем поэтам с глагольною рифмой – билет,
где казнить будут обезглаголенных нас,
эшафот – белый свет.
Умирать-восставать-распекать-растерзать,
вот таков ваш вердикт, вот таков ваш ответ,
но не в этом вам веке казнить за глаза
тет-а-тет!
«Жечь глаголом!» – о, да. Но не "рифмою жечь".
О, не надо, прошу я, с глаголом – глагол!
Это лёгкая рифма, как прут. Нужен меч,
чтобы словом разить. Побеждать, коль пришёл!
О, расцветие рифм не глагольных! Иных!
Их надёжность, бездонность, их Марсов мистраль!
Всяк поэт – о, какой это плач, крик живых!
Всяк поэт – и бессмертье, и сталь!
***
Для Руси сто веков, я скажу вам, не срок,
это жаркий костёр, что пылает во тьме.
Что во мне (до меня!). До того, как курок
возведён был, до стрел, до копья, до камней!
И до скифского лука, пищалей, секир,
всем, чем шрамы наносятся в спину, в ребро.
А из этих ранений багряных – весь мир
вырастает, и льётся поверх серебро.
А из этих ранений голубки летят,
из глубоких, колодезных зори встают.
Ей отраву дают, зло, исчадия, яд.
Русь святая в ответ: сажень правд, солнца пуд!
Кладовая моя! О, Лилейная, ты!
Для Руси сто потерь, я скажу вам, не крах.
У неё свой обмер. Свой объём высоты.
Как дитя, она космос качает в руках!
Если Пушкин – всегда! Тютчев, Лермонтов, Блок,
Римский-Корсаков, Глинка – таких легион!
Ничего ей – не время. Ничто ей – не срок.
Ничего ей – война. И проклятья вдогон.
У неё есть идея. Она же мечта:
в каждой боли дымиться сквозь пулю и штык.
Её угль, её пепел, зола, береста,
что в кленовых ковшах. Если вечность ей – миг!
В её пальцах. О, тонкие пальцы её!
О, возможность светиться и переплавлять!
Людям что? Люди молятся за бытие,
хлеб да мясо, за зрелища и за кровать!
И в иступе, испуге и в пьяном хмелю
не о царствии неба под небом вопят.
А я больше и горше Россию люблю,
если трудно ей, если торнадит Пилат.
Но не выколодовать, не сломить, не продать
на Титаник билет ей по сходной цене.
Алтари наши с нами и Божия рать.
Для Руси не огонь даже сотни огней!
И когда я скажу – не залепите рот!
И когда закричу – не содвинете мрак!
Из груди вам не выдернуть мой русский ход.
Если выдернуть, то вместе с сердцем. Вот так!
***
На моей стороне – кто, я знаю всех,
на моей стороне широка броня!
От такой беды…Мне в сугроб осесть,
подкосились ноги тогда у меня!
На моей стороне всё понятно без слов.
Со словами. Без фраз. Улыбаясь. И без.
Бусурмановы гидры
осьми голов
не пройдут сквозь наш многохваткий лес.
На моей стороне воскресает Бог,
а на вашей он много раз распят!
Искорёжен космос моих дорог,
и зияют дыры сквозь волчий взгляд!
На моей стороне никого не купить
ни за тридцать сребреников, ни динар!
И особый отсвет в ладонях нить
Ариадн оставляет всем нашим в дар.
А на вашей, на чёрной, на мутной – блуд,
теле-бред, наживка, по трупам ходьба.
И куда ни пойди, у вас предадут
за печеньки, за доллары, за хлеба.
Где же, где эта пропасть, что делит нас,
оставляя зазубрены на челе?
Как она между братьями разлеглась.
Снова Каин – да с шашкой! – воссел в седле.
В чёрных ранах – Танатос, копьё и меч,
в чёрных пулях сверхядерная стыдоба!
А по мне так проще и лучше лечь,
амбразуру накрыв, чем душу продать!
Но отчего же, у наших, у нас
сердце доверчивей из всех сердец?
Грабят. Сжигают.
Рвут мясо, бац –
в кость позвоночную метит подлец!
Вот я читаю: «Царь Менелай
ноющим в прахе Патрокла узрел…»
Значит, больше глотай, узнавай.
Будь захребетней! Таков твой удел.
Смысл я свой знаю, роскошный синдром!
Всю виноградную, пряную снедь!
Вряд ли осилит ваш общий дурдом
наших небес высочайшую твердь!
***
Я – дочь трудового народа. Клянусь!
Быть. Сбываться. Отстаивать. Защищать!
Мою святую чистейшую Русь.
Её распрекрасие. Стать. Благодать.
От этой злосчастной пустой демократии,
от волчьего щёлканья мин на полях,
на горле, от этих когтей грубых, сжатия,
клянусь, что не дрогну! Не сдамся в боях.
Все плахи – на вынос. Штыки все – на вылет.
Чего вы твердите, что мантру, враги,
что вспороты наши Икаровы крылья?
Что в наших раненьях не видно ни зги?
Что в наших отверстьях от пуль – тьма небесная.
Ни тьма – а высоты!
Ни темень – а свет!
По-вашему лишнее и бесполезное,
ненужно цветастое, пропасть над бездною,
и что нас – вселенских, Атлантовых – нет.
Как Китежа нет. Атлантиды. Бореи.
И что за страна эта – дивная Русь?
Что ищет во всём справедливость? Смешнее
нет поисков. Нету пыльцовей, хмельнее,
молебне, клавешнее и страшнее.
Я – дочь трудового народа, клянусь
раскрасить вновь шёлком из алого ситца
полмира. Полцарства. Жди парус, Ассоль!
Жги –
Русь очерняющих, грязных страницы!
Историю нашу порочащих. Спицы
вставляющих в рёбра! Орущих «jawol»!
Я – дочь трудового народа. Я – соль.
Мой дед был замучен, истерзан в концлагере,
а бабушка с голода пухла в Сибири.
Мы верили в лучшее, ибо мы – факелы.
Мы больше. Мы выше. Мы ноевей. Шире.
Спасительней мы. И творительней в мире.
Запомните наши учения русского!
Уроки истории. Правды. И мускулов.
Ботинок Хрущёва, покажем, мол, кузькину!
И, вправду, клянёмся! Вы миром, что тиром
хотите напичканным мусором, мускусом,
как будто борделью, как будто трактиром
главенствовать, править сквозь вогнутый космос.
Не будет по-вашему. Нет.
Мы клянёмся!
***
Слово в начале было. Струилось.
Слово свивалось, как бабочка в кокон.
Билось. Как в бубен. В исчадье и стылость.
Слово за слово, как око за око.
Фраза за фразой, гласной, негласной.
Общий фундамент –
святой, праславянский.
Слово – оно архитектор и мастер,
каменщик, плотник, глашатай и пастырь,
кружев орнамент.
Сжальтесь, молю я! Я слово рожаю.
Я пуповину отсекла, отгрызла:
слово вначале на поле, на ржави,
в лоне отчизны!
В лоне вселенной молочные реки,
светлые слёзы, что сжаты до слова.
Нет его в птице – оно в человеке,
нет его в звере, чья поступь песцова,
в дереве, в пластике, в кости тигровой.
Слово царёво. Оно кумачово.
Слово пудово, тесово, толково.
Слово терново!
Душу оно до крови искололо.
И из груди, еженощно сгорая,
вновь возникая, как феникс из пепла,
рваные крылья от края до края
крепнут.
Старше всех стран, всех племён и созвездий,
но кукушонком, где осыпь, где яма
падает, крошится, рвётся о бездну:
«Мама!»
Слово щитом на воротах Царьграда,
взмывом алеющим русского флага,
русскому слову любая громада,
плечи атланта – всё кстати, во благо.
Просто не трогать, где больно, не надо!
Русскому слову я сердце всё – в топку,
словно бумагу.
***
Руки впаялись в объятья, словно в кириллицу ять!
Не разжать! Не разорвать!
Разве только вместе с руками
моими тебя от меня оторвать.
Руки мои – искрят проводами
в тысячи вольт и ватт!
А я заряжена солью-слезами, русскими сказами, лесом, полями,
ты мне – мой Авель! Мой брат!
Как отпустить тебя встретиться с Каином:
с Нерусем-воином, что за чертой?
За виноградною, красной окраиной
в разэсэсэриной родине? Стой!
По ноги, под руки кинусь! Буланому
в сбруе серебряной я нашепчу,
чтобы хозяин был с ляхами, паннами
поосторожней! Что меря и чудь –
финно-угорская дюже презлющая!
В мире смешалось всё. Ось сорвалась.
Спицы нам в рёбра натыканы пущами.
Видно, столетьями плавили злость.
Я – на дорогу, на рельсы, на взлётные
полосы тело кидаю своё – удержать!
Кабы могла, то разбила твой сотовый.
Коли не брат – так упала б в кровать!
Нерусь треклятая, жадная, зычная,
(Нерусь бывает и русскоязычная!)
купленная за подачки, борзых,
дачи в Майями, за евро-монеты.
Русь – это больше! Не просто язык!
Русь – это космос и солнца рассветы!
О, как мне нынче ужасно и больно.
Слово, что кость, давит певчее горло.
Словно нутро моё сплющено, смято.
Боже, не дай вам отъять, как я – брата,
зная, что камень у Каина, смерчи,
грады, ракеты, штыки и снаряды,
я не могу, чтобы «аривидерчи»,
«чао-какао»…
Пускай искалечен.
Но возвращайся обратно!
***
Он помнил все Египетские кошачьи ночи.
Он был кот-зверь, кот-сторож, мышелов, зодчий!
Сколько раз доставалась соседским котам
от него! То уши порвёт, то искусает лапки.
Да что котам, орущим с пеной у рта?
Моего кота боялись даже собаки.
Он себе добывал из моего супа кур,
нанизывал мясо на острые когти.
Если бы я умела рисовать картины в стиле сюрр
или лечить людей, как Болотов в декокте.
Если б умела. Но я не лечебна. И не пишу
пушисто. Так предательски верно.
Так солнечно. Что заточенному карандашу
курится нервно.
Кот пропал в тот день, когда я бросила тебя.
Это было в декабре, в пятницу, тринадцатого.
Мы помирились в первых числах сентября.
Кот вернулся – вальяжно, гарацево.
По-Державински мудро, по-Пушкински так светло,
архидеево, архимедово. О, счастье,
это ты так дразнишь!
Отбираешь. Уводишь. А когда совсем сожгло,
даришь все семь Египетских казней!
Я же тебя выводила из себя
тетрациклином, зелёнкой. Бациллы. Ферменты.
А ты лежал у ног. Я кота, любя,
долго мыла в ванной. Где был он? А где – ты?
Кот орал. Царапался. Таращил глаза.
И однажды совсем не нарочно умер.
И в ту ночь мы поссорились. Так нельзя
ссориться ночью! Неумно, но шумно.
До сих пор мне слышится певучее, мяучее «привет»,
я выхожу на улицу, всем кискам «Виска-с»,
словно нищим на паперти горсть монет.
И тогда я вижу твой серебряный свет
близко!
***
Всех на суд приглашаю я свой. Да, я жду, приходите!
Это будет в четверг. Или вторник. О, как ноет темя!
Я не помню за что. Но звенит оглашено будильник.
Время!
Время камни сбирать. Время класть эти камни в корзины.
Что из ивовых прутьев, из листьев тугих винограда.
Ах, жена вы Троянская, место вам посередине,
Менелай будет в партере, в первом ряду три наяды.
Слишком много шипов и ножей вы мне в сердце кидали,
вдоль эпохи летят, пепелищей, где Троя сгорела.
Этот суд – мой последний. А ваш приговор на металле –
я не помню, чтоб золото кто-то дарил пред расстрелом!
Вы смеётесь, Троянка? Не я вам на сайте, на файле,
на портале вбивала осиновый клин в стиле excel,
я сама против стилей – футболок, заниженных талий,
где улиткой пупок обнажает всю пошлость рефлекса!
Я совсем против всех. Обнимите скорей Менелая!
Здесь в театре абсурда, на рынке тщеславия – густо!
В чём повинна, скажите – чудная, простая, незлая?
Или в том, что пишу не на греческом я, а на русском?
Я бы хлеба поела, ещё бы блинов со сгущёнкой!
Вы хотите мне крылья обрезать и корни заштопать?
Бесполезно, родная! Они отрастут на два счёта,
я могу распустить их, как будто ковёр Пенелопа.
Вы хотите сказать, что украла ваш сон? Ваши чувства?
И слова, что в гнезде желторото орали кукушкой?
Но зубами дракона засеяно поле искусно,
и Латон сторожит золотое руно за опушкой.
Мне совсем не до вас, усыплять ваших псов, вашу стражу,
яд Медеи затух, мёд, как нитка из шёлка, истаял.
И куда ни взгляни – лесть, обман, разношерстье и лажа,
да и в мифах у вас – бесполезно! Лишь выход летальный!
Вы, Троянка, дитя! Вас качает земля колыбельно.
Ваше тело зарыто под тем гаражом, что у моря.
А я харкаю кровью. Я вечному лишь запредельна.
Гильотина – не бог. Да и виселица мне – не горе.
Вот вхожу в этот зал. Отражаюсь во всех фолиантах,
в букинистке, фолио, в библии я Гуттенберга.
За столом третьим – он. Я его узнавала в Атлантах.
Перерезала память! А он просочился с разбега.
О, какой длинный свиток всех нежностей и всех сожжений!
Сопричастий! Касания, молний ударов и сутры!
И созвездье слона (не забыть бы смертельных ранений!),
и созвездье медузы. Но утро! Опять нынче утро!
Оглашайте скорее! В глазах Фаэтоновый ужас!
Уползайте змеёй из шершавой, что кожа, заплатки!
Пьют убитые птицы своё отраженье из лужи.
Ах, гарсон, кружку пива! И танец, конечно, мулатки!
Оплачу я! Троянка! За это – созвездье слоновье!
Я считаю слонов. Вижу ваши я голые ноги.
Без колготок, чулок. И какое-то платье тряпьёвье.
Впрочем, что ж я о жизни? Наверно, устала с дороги…
И опять про слона! Он поможет. А вы – про питона.
И ещё про него. Да, он в третьем ряду (лучше – в петлю)!
И покончим скорей. Приговор. Адвокат. Время оно.
Я – бессмертна.
***
…памяти, места, небес, обладаний твоих,
всё, что имею: познания – дерзкие – тела.
Этих колец годовых и годов световых,
много звенело, летело, желало, горело.
Много стремилось, плелось, разветвлялось, росло,
листья роняло, где все горизонты – слепые.
День моей казни. Ты помнишь, забыл ли число,
как умирать от любви? Умираю впервые!
Как оставаться друзьями со мною – с ребром,
что к твоему позвоночнику крепится люто!
Тридцать серебряных, цену назначишь потом,
долларов, запахов, евро, заплаток, валюты.
Нынче почём Эвересты? И звёзды в ладонь?
Сколько пучок Карфагенов разрушенных? Троей сожжённых?
Если держу на груди, как икону икон
я телефон, где слова твои – бег Фаэтонный?
Ужас в глазах у округлого, нежного «о»,
плач у «люблю» и когтистое эхо над Волгой!
Нет, я не знаю о дружбе почти ничего,
дружба влюблённых, как пытка безвинного поркой.
Ты – мне пальто в гардеробе, а я, мол, мерси,
ручку – в трамвае, ещё шоколад в пирожковой.
Я умерла. Без тебя. Пощади и прости.
Камни в груди. Всей земли. Все вулканы. Все склоны.
Мальчик вон тот, что по тропке, не наш ли он внук?
Старец, с картины сошедший, не наш ли Угодник?
Ножки целую младенчику! И, словно мук,
вод мне не счесть этих детских, мне околоплодных!
О, я же мать всех с тобой не зачатых детей:
Катей, Иришек, Иванов, Данилов, Антонов…
Страстной звездою на небе примята постель
сладостных стонов!
***
Что вверила в руки твои
Клаасовый пепел у сердца.
Весь космос мне душу скровил,
и кто же тебя подкупил
за несколько жалких сестерций?
Так раб может стоить. Цена:
смех Августу Октавиану
в Помпее. Какого рожна
я нынче пригвождена
к скале, ко кресту и к капкану?
Ужели ты из стихо-дрязг,
из шлюшных сетей социальных,
ужель ты из тех, кто предаст
за жалкий кусок премиальный?
Заказчик – всё тот же the best,
вулкан, сжёгший Рим – исполнитель!
Наивная я! «О, поймите!» –
вопила продажной элите.
А эллины – масло и шерсть
на рынок несли. Караваны
текли. Доблесть, слава и блеск
царили – легки и туманны!
Я думала, ты мне – сестра!
А ты – мёртвый город. Продажны
в нём женщины. Я в твоей краже
не лучше, не хуже, не гаже.
Икарами рифма щедра!
Шопеном. Есенинской плахой,
повешенным шарфом, рубахой,
расстрелянным небом в упор.
И файл и портал нынче стёрт.
И клинопись нынче в ожогах,
я выращу ухо Ван Гога.
И – в порт.
Там матросики бродят,
охранники на теплоходе.
Девицам продажным привет!
Наташе, Катюше, Ириске.
Я вся в Прометеевых искрах,
во мне Прометей ранил свет!
Я нынче продажных люблю.
Тебя и простых проституток.
Мне больше ни больно. Ни жутко.
Мне больше никак. По нулю!
***
О, я знаю
из каких артезианских скважин,
из каких биополей, чаш, ковшей, караваев
наполняюсь по горло, по плечи даже
из каких бездонных, бескрайних. Я знаю!
Из каких веков я цежу эти соки,
по лицу как они, по одежде стекают.
Я пропитана сквозь. Мной пропахли истоки.
Берега и пороги. И вся топь земная.
Золочёные жилы вдоль скважин разверстых,
мировые деревья – дуб, ясень и ели.
В них колядки, стихи, басни, притчи и песни.
Здесь старушки-соседки. О, как они пели!
Голоса их сливались в один общий говор.
Где квадрат моих солнц, где овал моих марсов.
Словно я – оголённый под токами провод.
Как я насмерть ласкаю. Люблю также – насмерть!
Расписная пыльца по ладоням, запястьям,
словно милого письма исторгнуты. Только
не в конверте бумажном, пропитанном страстью,
не в кувшине из глины, разбитом на дольки.
Не в бутылке, что вынес на берег песчаный
океан, что искромсанный острою солью.
Я, как тот наркоман, мак грызу конопляный
вместе с болью.
О, я знаю каких скважин артезианских.
Даже знаю, как ветки я их обрубала,
позвоночники роз, башен вымах Пизанских.
Снова корни росли из кругов моих малых.
И к системе всех мышц, всех моих кровотоков
эти скважины туго подключены слева.
Одиссей точно также смолил свою лодку,
Пенелопа ткала покрывало умело.
Сколько лет? И столетий? Эпох? Двадцать, сорок?
Сколько звёзд полумёртвых втекло в мои льдины?
Вот Чернобыль, вот Сирия, войны, Эбола.
Сколько их не руби – вновь растут пуповины!
Я бы выжила, может.
Да, точно! Но снова
наполняюсь, расту перламутровым миром.
Вы глядите в глаза, вопрошая: «Здорова ль?»
Но в ответ подрываюсь на поле я минном!
***
На высоком троне восседатель:
рядом гордость, похвальба, пиар,
хвост собачий вы, а не писатель.
Вы не бились в небо, как звонарь!
Вы – не Данко, лопнувшее сердце
с вырванным кусочком миокард
да под ноги – бейся, плавься, лейся –
всей толпе, весь под ноги Царьград!
В«Милость к павшим», к тем, кто оступился,
сквозь инферно Данте, сквозь себя,
в млечный ход я встраивалась, в листья,
размозжила космос, как заря!
Долго, долго детушки бродили,
ангелы им бусики плели…
Встраивалась в кольца, в тени, спилы,
чтобы оторваться от земли.
Всех жалей – униженных, забытых.
Всех оправдывай и на колени встань!
Кровь, как дождь свою пусти сквозь сито,
сто дождей скрови! Изрежь гортань
о ножи, о стрелы, пули-звуки.
Всё тебе! Насквозь! И зверем вой!
Мой чугунный космос вырван! Ну-ка
встань со мной!
В трёх моих могилах полежи-ка!
Ангелочкам бусики сбери!
Встань за друга – русского, калмыка,
за грузина
встань на раз, два, три!
И блуднице той, что на экране,
и продажным выхаркни в лицо
не за почести и не за мани-мани,
за народ святой своё словцо!
Встань за Русь, когда зовёт создатель.
А иначе, коль не вступишь в бой,
хвост собачий ты, а не писатель.
Не о чем мне говорить с тобой!
***
Хорошо ли тебе заплатили, подруга? Видать, хорошо!
Наши рубли деревянные, медные деньги!
Сердце раздавлено всмятку моё, в порошок,
стёрто на фразы, пословицы, метки и сленги.
Кто не продажен? Не грешен? Тому камень вслед,
списки судов, караванов, оружия, жара и лести.
Век катастроф, век болезней, отъятых побед
тоже проплачен, подкуплен, и торг здесь уместен.
С малого всё начинается. То есть, с себя!
Кто-то торгует умом, кто-то властью, кто телом.
Шлюхи в порту постарели на цент, на динар,
нефть на все баррели, плотности подешевела.
Я же по локоть в своей стихотворной любви!
Дно – золотое. Меня воспитала Покровка!
Если б хватило моих беспощадных молитв,
я бы вернула бесплатный всем сыр в мышеловках.
Всем бы и каждому по золотой, леопардовой гну,
чтобы копытца могли антилопьи чеканить
золото, евро, валюту, закат, тишину,
чеки в сбербанках, оплату кредитов в юанях.
В остров утопия я завернула бы мир
Томаса Мора. Безумие страсти Отелло
прямо в рогожу. Простите, о, Вильям Шекспир!
Надо. Для дела!
Вот на ботинках остатки божественных глин,
вот на ногтях слюдяные пески араратов!
Это сменилась эпоха на мёртвую, блин,
капитализмов, а проще – продаж и развратов!
Чревоугодий, безумств, разрушений и дрязг!
Вот уже девки в порту стали бабками дома.
Новые шлюхи. И новый танцует экстаз.
Новая Гера и Зевс новый с высверком грома.
В первый я раз погибаю прилюдно за так.
Ибо подруга меня предала за три песто,
за базилик и за сыр, и за сущий пустяк.
А калькулятор подсчёта, что ось земли, треснул.
***
Если б стала сегодня в свою родословную
имена я вбивать, страны, Марсы, созвездия,
в середину вплела бы судьбу многотонную
Карамазова Лёшеньки граммами цезия!
Для источника света. Дробления гравия.
В Казахстане, Монголии, в центре Намибии
есть такой минерал! Весь объём, что Италия.
Если б только смогла – родословную выбрала!
Из неправильных – я!