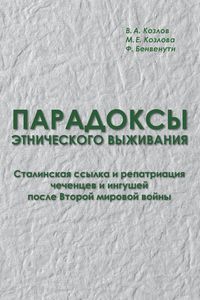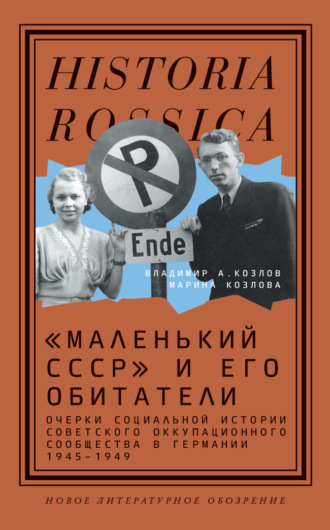
Полная версия
«Маленький СССР» и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии 1945–1949
14 октября 1945 года начальник УСВА провинции Бранденбург В. М. Шаров направил начальству докладную записку о кадровых проблемах в комендатурах провинции. По поручению Шарова его заместитель полковник Я. В. Гольденштейн изучил всех комендантских работников. Результат: каждый десятый «по деловым и моральным качествам» не соответствовал «требованиям, предъявленным офицеру, работающему в комендатуре». Это был бы, строго говоря, не такой уж плохой результат: к оставшимся девяти претензий по службе и поведению не было. Вот только в условиях оккупации даже единичные ошибки некомпетентности умножались слухами и пересудами в немецкой среде. Большинство «неподходящих» не могли выполнять поручения из-за «малограмотности и неспособности к этой работе», а некоторые (пусть и немногие) были замечены в «систематическом пьянстве и бытовом разложении». В число «не соответствовавших должности» Шаров, измученный кадровым дефицитом, решил не включать тех, кто пока не справлялся с работой, но старался52.
А где было взять других? Отдел кадров Штаба СВАГ и так работал в авральном режиме. Кадровикам приходилось оформлять по сто человек в день, и, как выяснилось, у многих сотрудников не было даже личных дел, они затерялись на старом месте службы. Основные устои кадровой политики: тщательный учет, сбор полного досье, проверка личного дела, система запросов – все это в послевоенных условиях и форс-мажорных обстоятельствах не работало. Проверки были сведены к минимуму. Проблема неуязвимой благонадежности была отложена на потом, а последствия спешки сказывались на протяжении практически всего существования СВАГ.
И через три года, например, в берлинских военных комендатурах некоторые сотрудники продолжали работать не по специальности. Химики и инженеры-строители трудились инспекторами по торговле, гидротехники – занимались пищевой промышленностью, профессиональные военные, танкисты, окончившие военные академии, числились агрономами. Удивительное занятие нашлось для инженера Сурина из берлинской комендатуры Вайсензее. Ему приказали стать зоотехником. Весь производственный годовой план этого «зоотехника» заключался в заготовке тысячи яиц. При проверке Сурин заявил комиссии, что «готов за свои средства купить 2000 яиц, лишь бы его уволили от исполнения этих обязанностей и использовали по назначению как инженера, или отправили в Советский Союз»53.
Немые управленцы
Абсолютное большинство новоиспеченных сваговцев не знало немецкого языка. Исключение составляли разве что сотрудники некоторых отделов Центрального аппарата. Понимая, что без знания языка никакой правильной коммуникации с немцами не построишь, командование взялось за решение грандиозной задачи – обучить победителей языку побежденных. Главноначальствующий приказал с 20 августа 1945 года всем сотрудникам приступить к учебе54. Преподавать язык должны были переводчики или те, кто хорошо знал немецкий. В Управлении СВА земли Тюрингия, к примеру, «общее руководство» было поручено капитану М. И. Семиряге55, будущему историку-германисту, автору известной книги «Как мы управляли Германией». Однако переводчиков-преподавателей не хватало, они были загружены работой, постоянно уезжали в командировки, преподавали из-под палки и часто манкировали своими обязанностями. В 1946 году было разрешено привлекать к преподаванию немцев56. Но среди них часто попадались люди случайные, которых никто особо не проверял – ни их деловые качества, ни их благонадежность57.
По распоряжению Главноначальствующего занятия должны были проводиться три раза в неделю по два часа в служебное время58. Но военная администрация только разворачивалась, не хватало кадров, объем работ был огромен – в такое время невозможно было тратить служебные часы на уроки. Это понимало и командование. Поэтому уже в сентябре 1945 года немецким языком приказано было заниматься исключительно после работы59. Но здесь нашла коса на камень. Мало кому хотелось жертвовать своим личным временем. Задания не выполнялись, уроки срывались60. Результаты полугодовых испытаний оказались неутешительными – на экзамене почти половина учеников получила двойки61. Тогда решили проводить уроки два раза в служебное время утром и один раз вечером – после работы62. Нерадивым ученикам напомнили, что посещение занятий является служебной обязанностью63. Но это не помогло и ситуацию не исправило. В сентябре 1946 года на зачеты по немецкому языку явилось меньше половины учеников. А те, кто прошел проверку, показали «крайне слабые знания»64. Инспектор отдела народного образования СВАГ М. А. Соколова в письме в ЦК ВКП(б) назвала занятия немецким языком «совершенно напрасной тратой времени». Ученики за год учебы в рабочее время прошли всего семь текстов основного курса65. Вряд ли после таких расслабленных занятий хоть кто-нибудь из новоиспеченных школяров сумел бы «управлять Германией» без переводчика.
Даже те, кто по роду службы работал с немцами и должен был хорошо знать язык, не особо стремились его изучать. В декабре 1947 года в УСВА Саксонии-Анхальт половина начальников и каждый третий рядовой сотрудник отделений информации получили по немецкому двойки66. В Мекленбурге зачеты не смог сдать каждый второй начальник отделений информации. Лучше обстояли дела в Саксонии. Там «неуд» заработал лишь каждый четвертый. В Управлении Политсоветника плохое знание немецкого языка было особенно на виду. В марте 1948 года выступавшие на партсобрании долго занимались самокритикой: изучение языка поставлено настолько плохо, что сотрудники аппарата испытывают трудности в общении с немецким активом67.
Справедливости ради следует сказать, что сваговцы были слишком перегружены, причем не только работой, чтобы уделять языку должное внимание. Их жизнь в Германии была наполнена всякими обязательными советскими делами. Например, по понедельникам тридцать минут отводили на политинформацию, по средам проходила шестичасовая командирская учеба (два часа тратили на занятия по марксистско-ленинской подготовке), по субботам во второй половине рабочего дня проводили занятия партийного актива68. А еще партийные собрания, профсоюзные мероприятия, различные митинги, спортивные соревнования, часто проходившие в рабочее время69, всевозможные праздники: первомайские, годовщина Октябрьской революции или семидесятилетие Сталина… А тут штудируй немецкий язык! Когда работать? Дилемма: работа или уроки – всегда решалась в пользу работы. Или отдыха! Пропускать занятия по немецкому языку было не так опасно, как, к примеру, по истории ВКП(б), хотя и их прогуливали тоже. Изучение немецкого приказали считать важным государственным делом70. Но в глазах многих сваговцев это государственное дело всегда оставалось необязательным и добровольным71. Не помогали ни приказы командования, ни выговоры, ни критика нерадивых на заседаниях партийных бюро.
Некоторым немецкий давался с большим трудом – не хватало общего образования и привычки учиться72. Особенно это относилось к работникам военных комендатур. Находились и такие сваговцы, которые сознательно не хотели учиться говорить на языке врага. Они были «злы на немцев – испытали их жестокость», старались избегать общения с ними и «при случае подчеркивали свое пренебрежение»73. Кроме того, многие не понимали, зачем учить язык, если не общаешься с немцами по службе. Но так можно было и опростоволоситься. Именно такой конфуз случился с экспертом Г., над которым смеялся весь плановый отдел СВАГ. В Германии в свое время издавался статистический справочник Jahrbuch (ежегодник). Эту полезную книгу сваговцы называли просто «Ярбухом». Однажды коллеги отправили эксперта Г. за нужными сведениями в Бюро статистики СВАГ. К этому самому «Ярбуху». Через несколько дней расстроенный сотрудник заявился с жалобой к начальнику Бюро: «Да где же тут у вас работает товарищ Ярбух? Я несколько раз заходил и не могу его найти»74.
Те, кто действительно хотел читать, писать и говорить по-немецки, прекрасно знали: научиться этому в группах, где занятия проходили на невысоком уровне, практически невозможно75. Выучиться можно только самостоятельно, желательно с репетитором. Однако командование, превратив занятия языком в служебную обязанность, пресекало любые попытки брать частные уроки у преподавателей-немцев. О чем они там говорят на своих индивидуальных занятиях с нашими офицерами, поди разберись. Таких легкомысленных учеников «выявляли». Военные цензоры, например, сообщали политработникам о тех, кто имел неосторожность похвастаться в письмах родным: «…я два раза в неделю занимаюсь немецким языком, моя учительница немка», «…по немецкому языку здесь занимаюсь с профессором, который владеет хорошо русским языком, да и каждый день приходит ко мне»76. Энтузиастов-самоучек вызывали на партбюро и допрашивали с пристрастием77. Выучили язык лишь те, кто сам стремился к этому по самым разным причинам, начиная с интереса к Германии, ее культуре и заканчивая склонностью к запрещенным гешефтам с немцами. А некоторые и вовсе ограничивались словариком слов этак «на 20», который составили их товарищи для знакомства с немецкими фрау78.
Подозрительный контингент
Коль скоро большинство строевых офицеров, попавших на службу в СВАГ, особенно в комендатуры, не только не имело оккупационного опыта, что понятно, но и не знало Германии и немецкого языка, их оккупационные компетенции пришлось достраивать за счет осевших в Германии бывших военнопленных и репатриантов. Тех, кого сталинский режим уже давно объявил неблагонадежными, если не предателями. Поначалу эта проблема мало кого волновала. Первое время после войны к советским правилам при подборе кадров относились несколько легкомысленно. Но уже в августе 1945 года (первым из высшего оккупационного руководства) забил тревогу начальник СВА федеральной земли Тюрингия генерал-полковник В. И. Чуйков. Он был возмущен, что «подлежащие репатриации» (их еще в мае следовало в десятидневный срок проверить и отправить по месту жительства) находят себе «пристанище и укрывательство» на работах в военных комендатурах. А военные коменданты, демонстрируя «недопустимую мягкотелость и притупление чувства политической бдительности», оставляют «подозрительные элементы» при комендатурах. Чуйков потребовал в течение трех дней отправить на сборные и фильтрационные пункты всех без исключения репатриантов. Но вся его начальственная строгость куда-то испарилась, когда речь зашла о делах насущных. В том же приказе, признав безвыходность кадровой ситуации, он разрешил использовать в качестве переводчиков и машинисток советских граждан-репатриантов, «проживавших в СССР в границах 1940 года (за исключением т. н. русских немцев)»79. Прекрасно понимая ситуацию с кадрами, Чуйков-прагматик очертил границы бдительности, разрешив выбирать из числа неблагонадежных наименее подозрительных.
Даже у идеального военного коменданта подполковника Лубенцова, главного героя романа Э. Казакевича «Дом на площади», переводчицами работали две девушки из числа репатрианток. Они имели доступ и к служебным тайнам комендатуры. Крайне щепетильный во всех отношениях главный герой Казакевича не видел в подобной ситуации никакого криминала. Хотя по правилам обеих девушек следовало отправить на проверку в фильтрационный лагерь, а без проверки – к работе не допускать. В весьма достоверном, в том числе в деталях и частностях, романе Казакевича нашлось место и для разложившегося барахольщика и перебежчика на Запад, и для карьериста, готового по первому намеку начальства осуждать главного героя на собрании актива, и принципиального, но ограниченного службиста. Другими словами, автор прекрасно знал оккупационные реалии. По некоторым сведениям, до демобилизации (в 1946 году) писатель сам служил в комендатуре города Галле80. Одним словом, будучи человеком весьма осведомленным, Казакевич не стал бы вводить в повествование двух героинь с сомнительным прошлым (у одной из них было и вполне сомнительное настоящее, что не помешало ее работе в комендатуре), если бы не был уверен, что сразу после войны это была вполне заурядная практика. Тем более не рискнул бы его подполковник Лубенцов приватно общаться с немецким бургомистром и жить в его доме, если бы подобный «небдительный» порядок вещей не был достаточно широко распространен в первые месяцы после войны, когда соображения оперативности и целесообразности доминировали. Во время работы над романом Казакевич мог и не знать, что подобное частное общение, как и проживание у немцев, прием на работу репатриантов или скрытное использование пожилого эмигранта в качестве посредника были впоследствии категорически запрещены. Но без подобных нарушений СВАГ в силу острейшего кадрового голода просто не смог бы начать свою деятельность, запутавшись в паутине советских предубеждений. Мало того, в октябре 1945 года управлениям СВА официально разрешили зачислять репатриантов на вольнонаемные должности. Каждое управление теперь могло законным образом оформить на работу от 150 до 200 человек81.
Военные коменданты дорожили этими людьми, раз уж решились принять их на работу, и расставались с ними неохотно, особенно с теми, кто имел хорошее образование или полезную специальность. Известны случаи, когда репатриантов-сотрудников комендатур, подлежавших «удалению» и не получивших допуск к работе, скрывали от начальственного глаза, докладывая об отправке в лагерь на фильтрацию82. Некоторые руководители были готовы для пользы дела даже пойти на обман – рапортовали, что у репатриантов с допусками все в порядке. Хитрецов ловили за руку и за «неправдивые доклады» наказывали83. Но где было взять проверенных – переводчиков, шоферов, делопроизводителей, писарей, машинисток? Не удивительно, что установленные в октябре 1945 года и подтвержденные в марте 1946-го лимиты «на репатриантов» были превышены почти в два раза84.
Не могла военная администрация, особенно комендатуры, обойтись и без привлечения на работу лиц из местного населения – переводчиков, обслуживающего персонала. К этой категории сотрудников начальство требовало относиться с особой осторожностью. Однако на деле некоторые военные коменданты, начальники отделов и учреждений могли принять на работу немцев даже без документов, «удостоверяющих их личность в прошлом»85. Так, видимо, поступил в феврале 1946 года и старший лейтенант Лучицкий из военной комендатуры Дрездена, нанимая шофера-немца, который, как позднее выяснилось, несколько лет возил самого Гитлера86. Чрезвычайная потребность в шоферах приводила к тому, что эти должности могли занять люди непроверенные, к примеру бывший руководитель местного отделения фашистской молодежной организации гитлерюгенд87, в принципе подлежавший денацификации. Несмотря на грозные директивы88 и окрики начальства о «беспечности, разгильдяйстве, политической близорукости»89, в практической работе доминировала служебная целесообразность, которая толкала на нарушения.
Чистка «неподходящих»
В конце мая 1946 года Главноначальствующий СВАГ приказал немедленно приступить к сверке личных дел сотрудников для выявления несоответствий и искажений90. Оказалось, что после войны у многих документы были не в порядке. Вероятно, отчасти поэтому руководство объявило о масштабной комплексной проверке – «досрочном аттестовании всего офицерского состава»91. Руководители разных уровней, заваленные грудой других дел, отнеслись к кампании с прохладцей. Сроки затягивались. Документы заполняли небрежно, по шаблону, проверки проходили поверхностно. Налицо был тихий саботаж и нежелание портить сотрудникам биографию. Неудивительно, что это миролюбивое и вялое «аттестование», в конце концов, отошло на задний план, а борьба за чистоту рядов перешагнула рамки обычных воинских установлений и превратилась de facto в программное политическое мероприятие, о котором многие знали не понаслышке, – в чистку. Слово это в то время старались не упоминать. Из партийного лексикона оно было выведено еще в 1939 году. Но опасный и угрожающий смысл чистки остался в памяти возрастных сваговцев.
Подобные политические действа всегда обрастают адептами, теми, кто особенно ревностно продвигает объявленную идею, а то и выступает ее инициатором. Таким в СВАГ оказался начальник Управления СВА федеральной земли Тюрингия И. С. Колесниченко. Иван Сазонович был удивительно цельным человеком сталинской эпохи, со всеми плюсами и минусами, прямолинейный, честный, искренне полагавший, что работа – главное. Один из тех, кто принимал все происходящее в СВАГ близко к сердцу и пытался усовершенствовать даже то, что усовершенствовано быть не могло. Темпы, которыми продвигалось избавление от неподходящих сотрудников, его явно не устраивали. Колесниченко прекрасно понимал, что с имеющимся личным составом, особенно в комендатурах, вряд ли можно успешно решить важнейшие оккупационные задачи. Однако методы, которые он предлагал для избавления от кадровой неполноценности, были традиционно и безапелляционно сталинскими.
26 июня 1946 года генерал-майор направил члену Военного совета СВАГ Ф. Е. Бокову (еще один приверженец решительных шагов по избавлению от «неподходящих») докладную записку о кадрах СВАГ, написанную эмоционально и жестко. Это своего рода четырехстраничный манифест «Как нам обустроить СВАГ»: «Если мы серьезно думаем проводить политику завоевания немецкого народа на нашу сторону, если мы хотим обеспечить на долгие годы наши государственные интересы в Германии, если желаем добиться переориентации Германии на Восток, то нельзя не поставить со всей серьезностью вопрос о наших советских людях в Германии, их деятельности, поведении и способности обеспечить здесь наши государственные интересы».
Абсолютное большинство работавших в СВАГ, писал Колесниченко, без всякого отбора (а многие просто случайно), совершенно неожиданно для себя очутились в положении «ответственных работников за границей». До войны командировки за границу сопровождались «тщательной проверкой и утверждением ЦК ВКП(б)… Сейчас же поездка в Германию через иностранные государства Польшу или Чехословакию по сложности почти равносильна поездке из Москвы в Тбилиси или Куйбышев, не говоря уже о том, что абсолютное большинство советских людей осталось здесь в оккупационных войсках сразу после окончания войны и никакой поверке не подвергалось». А потому «нужна хорошая „встряска“, нужна серьезная чистка».
Колесниченко, конечно же, уповал на ЦК ВКП(б). Он считал, что нужно просить высший партийный орган прислать авторитетную комиссию. Под ее руководством в каждом соединении и учреждении создать еще и свои «политические комиссии». Эти комиссии, по замыслу энтузиаста поголовной чистки, должны были проверить сначала всех генералов и офицеров, решительно отсеять всех негодных и неспособных, а после – заняться рядовыми и сержантами. И тоже поголовно всеми. Колесниченко предвидел, что против его «предложения о радикальной проверке людей и чистке будут возражения», постольку знал: такие меры по отношению к боевым офицерам и вообще к «своим» многие не одобрят92, даже начальство. Не могла не насторожить руководство СВАГ и апелляция к ЦК (все выносилось за порог), и непонятные «политические комиссии», и уж тем более – проверки генералитета.
Но и пропускать мимо ушей такой политически острый сигнал командование не могло. Колесниченко вполне мог (имел право) отправить свой «манифест» как член партии непосредственно в ЦК ВКП(б). Поэтому Главноначальствующий пустил в ход «программу Колесниченко», но убрал из нее некоторые принципиальные детали. Привлекать ЦК к достаточно деликатной операции не стали, как не стали «чистить» всех поголовно, особенно генералов. 12 июля 1946 года Главноначальствующий СВАГ издал приказ о проверке аппарата СВА93Г. Были созданы представительные комиссии, они выносили окончательный вердикт тем, кто не годился для службы в военной администрации. Особо чувствительная информация о сотрудниках, вызвавших подозрение из-за «своего поведения и связей», направлялась начальнику Отдела внутренних дел СВАГ, вероятно, для дальнейшего расследования. Механизм чистки был запущен и обильно смазан маслом благонадежности. В результате, как докладывал в конце августа 1946 года на партактиве член Военного совета СВАГ Ф. Е. Боков, из Германии было откомандировано по политико-моральным качествам около четырехсот человек. На взгляд Бокова, этого было мало, требовалось и дальше очищать СВАГ «от таких людей, которые оказались под губительным влиянием капиталистического окружения и буржуазной морали»94.
С Боковым была согласна и комиссия Управления кадров ЦК ВКП(б), побывавшая в Германии в ноябре – декабре 1946 года. Комиссия сочла, что в СВАГ «продолжает находиться значительное количество людей, которые дискредитируют нашу страну и мешают проведению оккупационной политики». Командованию СВАГ было предложено в двухмесячный срок откомандировать в СССР всех неподходящих сотрудников95. После таких выводов нужно было оперативно засучивать рукава и наверстывать упущенное. Судя по приказам об увольнении, оформленным в первые три месяца 1947 года, работа велась в сумасшедшем темпе. Иногда в день готовили приказы сразу на триста человек96. Судьбы людей решались стремительно и безапелляционно.
Двое из троих уволенных в ходе чистки служили в военных комендатурах, там, где был эпицентр кадрового кризиса97. В основном же это были младшие офицеры в возрасте от двадцати до тридцати лет, члены партии или комсомольцы, прошедшие всю войну, награжденные орденами и медалями. В принципе, это были работники с хорошими анкетными данными и несомненными заслугами, на основании которых, вероятно, они и были отобраны на работу в СВАГ. А потом что-то в их жизни круто поменялось: оказался не на своем месте, не справился с работой, не хватило образования, устал от холостяцкого быта, не устоял перед соблазнами. Стоит отметить, что большинство из тех, кто «проявляли недисциплинированность», как любили выражаться сваговские политработники, имели ранения, причем достаточно тяжелые. Ранения вдобавок к тяжелому боевому опыту были источником психологических травм, оказывающих разрушающее воздействие на психику и моральные установки. Другими словами, в 1945 году в аппарат военной администрации, создававшийся на ходу, нередко попадали люди, страдавшие от посттравматического синдрома. Дед одного из авторов книги, вернувшийся с войны капитаном, несколько лет по ночам кричал во сне, а вырвавшись из ночного кошмара, начинал судорожно искать под подушкой пистолет. Он тоже никак не мог забыть войну и продолжал воевать, а в 1950 году умер, не дожив до пятидесяти лет.
Больше всего среди уволенных было тех, кто просто не справился с работой. Таких сотрудников упрекали в «холодном отношении к своим обязанностям»98. Но как еще можно относиться к делу, смысла которого не понимаешь, к которому не готов – ни по образованию, ни по квалификации, и догадываешься, что ретивые кадровики заткнули тобой очередную кадровую дыру. Начальник административно-хозяйственной части одной из комендатур, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, написал в прощальном письме другу: «Макар, ты больше всех знаешь эту трижды проклятую работу. Прошу меня извинить. Дальше я тянуть не могу»99. Как посчитал начальник политотдела, «причина попытки на самоубийство» – «его слабоволие, с работой не справлялся, не хотел работать». Этот «слабовольный» старший лейтенант прошел всю войну, заслужил четыре ордена, был контужен и дважды ранен. В июне 1946 года попал в военную комендатуру100. Смог продержаться там всего четыре месяца. Дисциплинированный, никаких взысканий, очень добросовестный, но оказался не на своем месте, справлялся с работой с трудом и был в угнетенном настроении.
Каждый третий из тех, кто не справился с работой в военных комендатурах, – это те, кем изобретательные кадровики заполнили вакансии специалистов (экономистов, инспекторов по финансам, автотранспорту, торговле, заготовкам, инженеров-контролеров по отраслям, по промышленности, агрономов и т. д.). Но больше всего – экономистов, что отражает реальную ситуацию в СВАГ. Экономисты считались самым слабым звеном, о чем во всеуслышание заявляли и начальники УСВА, и военные коменданты. На партактивах постоянно твердили: присланные в военные комендатуры на должности экономистов офицеры «ничего общего с этой работой не имеют. У некоторых по 4 класса образования», они «отсталые в своем развитии и, следовательно, не могут изучать предприятия»101. Всего за 1946 год было откомандировано в СССР более шестисот экономистов, в подавляющем большинстве из военных комендатур, причем каждый пятый из них имел только начальное образование102.
Вторая по значимости причина для увольнения – это пьянство. В приказах мы насчитали более десяти вариантов описания пьянства. А в языке сваговца их было намного больше. Например, сваговцы различали несколько степеней опьянения: выпивать в меру, выпивши, распивать до опьянения, полное опьянение, бесчувственно-пьяное состояние, невменяемо пьян, разнузданное пьянство… Тема пьянства – тонкая материя. Слишком многих затрагивал этот вопрос. Недаром при приеме в партию вопрос «Пьете?» – был обязательным103. Зато среди уволенных на удивление мало тех, кто был обвинен в политических или идеологических прегрешениях. Видимо, начальники, составлявшие характеристики на «неподходящих», прекрасно понимали, чем чреваты такие обвинения, и старались обезопасить и себя, и увольняемых сотрудников от разборок с политическим душком.